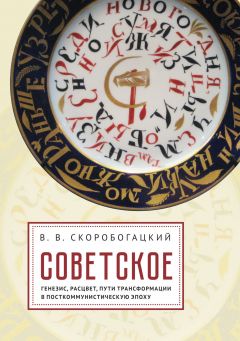
Автор книги: Вячеслав Скоробогацкий
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
И тут в голову Джиласа закралось сомнение: не следует ли из всего этого, что быть коммунистом означает быть целью и средством советской гегемонии в Восточной Европе? Может ли человек примирить эту действительность с собственной совестью?
А следом приходит и самый главный вопрос: можно ли быть одновременно коммунистом и свободным человеком?
Глава 4
Сталинизм: самосознание советского
Мне представляется, что Сталин оказался не понятым своими противниками и критиками – да и последователями тоже – в главном: он с известным правом может претендовать на то, что породил вечно живое[160]160
Если кого-то смущает использование слова «вечное» для характеристики сталинизма, хочу напомнить, что оно может обозначать не только неопределенную длительность и даже бесконечность, но и то, что существует век, столетие. Возможно, чуть дольше или короче. В апреле 2024 года истекают сто лет со времени опубликования работы «Об основах ленинизма» – лекций, прочитанных Сталиным в Свердловском (Коммунистическом) университете.
[Закрыть] и обновляющееся в соответствии с духом времени движение. Не Ленин, а именно Сталин, в исторической тени которого уже долгое время пребывает его великий предшественник. У Стефана Цвейга есть «Шахматная новелла», рассказывающая о том, как деревенский парень Мирко Чентович побеждает за шахматной доской гроссмейстеров с университетским образованием и учеными степенями. Шахматы, которые до той поры были символом, воплощением интеллектуализма, оказались в полной власти полуграмотного дикаря. И это не случай Пола Морфи или Бобби Фишера. В Фишере – что-то от Моцарта, если уместно сравнение между шахматами и музыкой. Мирко Чентович же – фантазия Цвейга, но не беспочвенная, а, возможно, навеянная неожиданным взлетом политических «дикарей» – Гитлера, например. Но Гитлер оказался трагическим, кровавым и все же кратковременным событием европейской истории, тогда как воздействие «кремлевского горца» на русскую, европейскую и мировую историю является и глубоким, и продолжительным.
Сталин вызвал к жизни движение – это значит, что в сталинизме политическое действие и «теория», или учение, связаны между собой живой нитью, находятся в чрезвычайно подвижном и гибком соотношении. Первые уроки такой гибкости в русском марксизме дал Ленин, осознанно выдвинувший на первый план диалектику. С его точки зрения, со сверхсложными задачами современности могло справиться только мышление, вооруженное диалектикой, усвоившее интеллектуальное богатство, накопленное европейской цивилизацией со времен Античности. Распространенное обвинение в адрес Сталина – узкий догматизм, замешенный к тому же на малограмотности, бескультурье и принципиальном аморализме. Мне кажется, что подобное противопоставление Ленина и Сталина, невыгодное для последнего, – в определенной степени допущение, которое было необходимо «детям ХХ съезда», чтобы свести концы с концами – оправдать коммунистическую идею, отлучив Сталина от «настоящего» социализма. Но это допущение и некорректно, ибо напоминает элементарное передергивание карт, и ошибочно по сути, поскольку дает в итоге искаженную перспективу истории.
Вопрос о том, наследует ли Сталин Ленину, продолжая его дело, или он совершил термидорианский переворот, разгромив ленинскую гвардию и переродив партию, и сменил политический курс, далек от научной постановки. Он некорректен по самой своей антитетической структуре, по той форме, как он поставлен: «или – или». Такая его постановка в виде столкновения двух взаимоисключающих тезисов является свидетельством того, что рассмотрение проблемы сталинизма, во-первых, отвлечено от сути дела, вырвано из широкого исторического контекста и сведено к деятельности и отношениям отдельных лиц и, во-вторых, погружено в атмосферу мифа с его бинарными оппозициями. Тезис о сталинском термидоре выдвинул Троцкий[161]161
Предощущения катастрофического поворота возникали уже в середине 1920-х годов, в разгар борьбы за политическое и теоретическое наследие Ленина.
Так, незадолго до смерти Дзержинский высказал предположение о возможном появлении нового Бонапарта в красных перьях, диктатора и похоронщика революции. Примечательно, что он имел в виду лидера левой оппозиции Л. Д. Троцкого (см.: Письмо Ф. Э. Дзержинского В. В. Куйбышеву от 3 июля 1926 г. // Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма. Ф. 76. Оп. 4. Д. 3543. Л. 1–2).
[Закрыть], укрепляя и развивая образ Октября как всемирно-исторического события, открывшего эру мировой коммунистической революции. Концепт термидора лег в основу и его полемики со Сталиным в 1930-е годы, и идеологии шестидесятников, базировавшейся на хрущевском докладе на ХХ съезде, и ленинианы 1960-1980-х годов, официальной и неофициальной.
Точно так же и тезис о прямом наследовании Сталина Ленину принадлежит области мифологии, хотя и допускает различные интерпретации, охватывая широкий спектр позиций – от безусловной поддержки Сталина до бескомпромиссно отрицательного к нему отношения[162]162
Подробный анализ так называемого «тезиса непрерывности», подходов и решений этой проблемы в научной литературе см.: Коэн Ст. Большевизм и сталинизм // Вопр. философии. 1989. № 7. С. 46–72.
[Закрыть]. Например, Анри Барбюс запустил в массовый оборот крылатое выражение «Сталин – это Ленин сегодня», которое стало паролем правоверного сталинизма. Удивительным образом ему вторит в «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын, русский антисталинист номер один. Он проводит идею об органическом единстве политики того и другого, представляя это единство как поступательную преемственность ступеней роста («Закон-ребенок», «Закон мужает», «Закон созрел»). Основа их единства, общий знаменатель, то есть то, что и находится в процессе роста, это диктатура пролетариата, осуществляемая с помощью неприкрытого, систематического и беззаконного насилия, возведенного в Закон. Говоря проще – ничем не ограниченное повсеместное использование насилия в качестве важнейшего ресурса трансформации общества.
Общее у Барбюса и Солженицына – мифологическое представление о Сталине как демиурге истории. Добрый или злой гений, спаситель или демон – он в равной степени предшествует новому миру, акту его революционного, разрушительного сотворения.
При таком ракурсе рассмотрения из поля зрения Солженицына исчезает главное – восставшие массы, первооснова происходящего. Вожди, организации (даже такая кажущаяся всемогущей, как ВЧК), структуры, программы и тому подобное – это только инструменты, посредством которых движение масс получает цель, направленный характер и известную организованность, но не его источник и не движущая сила. Именно массы и творят зло и разрушения, и в подавляющем числе случаев делают это спонтанно, руководствуясь собственными интересами и целями, так сказать, в духе гоббсовской войны всех против всех, а не по призыву или прямому приказу вождей. Вожди в лучшем случае санкционируют их действия, обосновывая их революционную легитимность, и подталкивают в определенную сторону[163]163
Об опасности идеализации народа, свойственной русской интеллигенции, и о том, что характер протекания революции определяют не вожди-интеллигенты, а массы, по свежим следам Гражданской войны писал А. М. Горький: «Я очертил – так, как я ее понимаю, – среду, в которой разыгралась и разыгрывается трагедия русской революции. Это – среда полудиких людей.
Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа. Когда в “зверстве” обвиняют вождей революции – группу наиболее активной интеллигенции – я рассматриваю эти обвинения как ложь и клевету, неизбежные в борьбе политических партий» (Горький М. О русском крестьянстве. Берлин, 1922. С. 40–41).
[Закрыть].
Справедливо критикуя шестидесятников, которые представили жертвами сталинского террора в основном интеллигенцию, в том числе партийную и военную верхушку, он неоправданно делит социальное пространство репрессий на две неравные части: по одну сторону – палачи в лице ЧК – ОГПУ – НКВД, по другую – жертвы, общество как таковое. Эта черно-белая картинка и составляет базовый образ, который получает противоположные интерпретации: силы добра («наши») против носителей зла («враги народа») в первом случае, палачи и жертвы – во втором. Но она утрачивает свою четкость и понятность, когда мы сталкиваемся с «вопросом Довлатова». Он звучит так:
Мы без конца проклинаем товарища Сталина и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов? (Эта цифра фигурировала в закрытых партийных документах.) Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой?[164]164
Далее он дает свой ответ: «Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские – нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказалась тенденция исторического момента». Иосиф Бродский видел причину этого в чрезвычайном антропологическом оползне, постигшем нас (и не только) в ХХ столетии. («Чрезвычайный антропологический оползень» Бродского – другое название того, что Х. Ортега-и-Гассет назвал «восстанием масс».) Под его влиянием собственные интересы масс были удовлетворены за счет других масс, хотя и численно меньших. Отсюда количество мертвых. И еще – это поведение не навязано массам, будто бы сбившимся с пути истинного под давлением чуждой коммунистической идеологии или советских оккупантов, как в Праге после 1968 года. Масса следовала собственным интересам («Письмо президенту»).
Характерно, что тяга к доносам не ослабела и в наше время (март 2013 года). Показательный пример – интернет-заметка режиссера Кирилла Серебренникова, который пишет о доносе актрисы театра имени Гоголя по поводу спектакля «Отморозки», поставленного в этом театре, и о последовавшем за этим разбирательстве соответствующих органов: о чем спектакль, к чему призывает и тому подобных вопросов. «Удивляет, вернее, в сотый раз поражает вот что: Это же не власть, не кровавый режим, не органы вложили “актрисе театра Гоголя” перо в руки и заставили писать натуральный донос.
Это она сама! Это зов ее души! Это ее генетический код». См.: 812’Online: [сайт]. URL: https://online812.ru/2013/03/01/003/ (дата обращения: 09.04.2021).
Кстати, о доносах. По-итальянски «донос» – spiata, а однокоренное с ним слово spia переводится как «шпион». Вот такая тесная смысловая связь между письмом-доносом в органы и изобличением очередного британского или японского шпиона. Хотя опять же по смыслу шпионом является доносчик. Но это в Италии.
[Закрыть]
И попытка ответить на этот вопрос показывает, что манихейское деление советского мира на два четко отграниченных и пространственно локализованных лагеря, на палачей и жертв – мифологема, один из кирпичиков мифа о Революции, художественным выражением которого является поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин», а историографическим – «Краткий курс истории ВКП(б)».
В действительности так называемый фронт борьбы проходил везде, так что полем этой борьбы было не только классово структурированное социальное пространство, но каждое село, каждый хутор, каждая семья, одним словом – структуры повседневности. И возможно – душа человека, делающего выбор в пользу добра или зла или отказывающегося от выбора и тем открывающего дорогу злу. «Донские повести» и «Тихий Дон» Шолохова, идейного и литературного антагониста Солженицына, при всей ангажированности автора составляют неплохую иллюстрацию этому кардинальному обстоятельству истории революции, понятой как восстание масс. Непосредственный участник этих событий, Шолохов, в отличие от Солженицына, интуитивно ощущал некую правду жизни в ее неприкрашенном виде, в ее доидеологической достоверности. И этот пережитый в годы Гражданской войны порыв к свободе, обретенное тогда же знание о глубинном расколе истории, общества, человеческой души ставили его в неявную оппозицию – не советской власти, а конкретному режиму, лицам, их решениям и действиям. Станица Вешенская осталась тем уголком, где он мог пережить или хотя бы сгладить разрыв между пробужденными революцией надеждами и их неисполнением.
Все только что сказанное отнюдь не отменяет высшего значения работы по собиранию и публикации самых разнообразных фактов из истории Гражданской войны и последующего укрепления советской власти, которую первым проделал Солженицын. Он – в одиночку! – намного опередил в этом историков, которые и по сию пору не дали ни отвечающего уровню современной науки концептуального освещения советской истории, ни даже выявления и реконструкции ее фактической стороны. Во всяком случае, не видно у них ни чувства призванности, ни чувства ответственности перед будущими поколениями за очищение умов и душ людей, живущих ныне, какими руководствовался Александр Исаевич, отдавший все силы распеленыванию тех мифологических наслоений, которыми окутана до сих пор наша действительность. Но это беда или вина всех нас, не только историков. Нет покаяния – и не дано прощения. Не обрушился пока на нашу иссохшую от лжи землю водопад Правды, о чем мечтал Солженицын полвека тому назад, собирая по крохоткам свою книгу об архипелаге Зла, рукотворном земном Аде. И то, что Сталин обрел в его глазах демонический облик – не ошибка, идущая от ума, но аберрация духовного зрения, неизбежная в той фронтовой и лагерной атмосфере, в какой он сложился духовно и против которой восстал.
Довлатов, человек с иным опытом советской (и лагерной) жизни, делает другие выводы.
Есть два нравственных прейскуранта. Две шкалы нравственных представлений. По одной – каторжник является фигурой страдающей, трагической, заслуживающей жалости и восхищения. Охранник – соответственно – монстр, злодей, воплощение жестокости и насилия. По второй – каторжник является чудовищем, исчадием ада. А полицейский, следовательно, – героем, моралистом, яркой творческой личностью.
Став надзирателем, я был готов увидеть в заключенном жертву. А в себе – карателя и душегуба. То есть я склонялся к первой, более гуманной шкале. Более характерной для воспитавшей меня русской литературы. И разумеется, более убедительной. (Все же Сименон – не Достоевский.) Через неделю с этими фантазиями было покончено. Первая шкала оказалась совершенно фальшивой. Вторая – тем более.
Я вслед за Гербертом Маркузе (которого, естественно, не читал) обнаружил третий путь.
Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей. <…> По обе стороны запретки расстилался единый и бездушный мир («Зона. Записки надзирателя»).
Этот третий путь – путь к свободе, выход за пределы мифологического пространства, идеологически обустроенного и обнесенного колючей проволокой запретов, лозунгов, призывов, указаний. Продираясь сквозь эти заграждения, обитатель Пещеры, где царствовали не заблуждения и мнения, естественные в силу ограниченности человеческой природы, а сознательно творимые ложь и зло (нечто немыслимое для Платона), в буквальном смысле не только сдирал с себя кожу, но и выворачивал нутро, меняясь (иногда в лучшую сторону, чаще – в худшую). Потому что свобода не заключает в себе гарантии добра, но, как пишет Довлатов, одинаково благосклонна и к хорошему, и к дурному. Путь свободы – удел одиночки, и решившийся на побег из Зоны человек должен пройти его самостоятельно, на свой страх и риск, без каких-либо гарантий на благополучный исход.
Фантастический реализм на службе политикиМежду мифом и реальностью находится утопия. Буквально – это место, которого нет, но описания его поражают точностью и подробностью деталей, отличаются таким жизнеподобием, что мы часто не просто удовлетворяемся им, но ценим выше житейской реальности. Любой современный сериал дает нам эту вполне реальную (то есть переживаемую как реальность, в известной полноте чувственной достоверности) иллюзию реальности. Это копия, но не реальности, а гипотетической первой Копии, которая неведомо когда и в силу каких-то неведомых причин вытеснила и заместила реальность, стала первообразцом, прототипом копий второго, третьего, энного порядков. При этом речь идет не об искусстве; последнее также творит иллюзию, но такую, в основе которой лежит не первая Копия, а, условно говоря, канон, опирающийся на традицию.
Согласно В. Шкловскому, искусство есть прием. Канону либо следуют, либо переиначивают его или даже отбрасывают, заменяя новым, но художник никогда не упускает из виду различия между каноном и реальностью, которая составляет для него предмет изображения. Предмет дает материю изображаемого, множество деталей, без которых нет произведения, но форма их соединения в целое берется откуда-то извне; ее нет в реальности. Возможно, что это кантовское трансцендентальное единство апперцепции. По крайней мере, она трансцендентальна и предшествует конкретному (данному) опыту, творческому акту. Смешение искусства и реальности, писал Х. Ортега-и-Гассет, ведет к смерти искусства, его гуманизации, то есть подмене искусства производством жизнеподобия[165]165
Массовой аудитории «неведомо иное отношение к предметам, нежели практическое, т. е. такое, которое вынуждает нас к переживанию и активному вмешательству в мир предметов. Произведение искусства, не побуждающее к такому вмешательству, оставляет нас безучастными.
В этом пункте нужна полная ясность. Скажем сразу, что радоваться или сострадать человеческим судьбам, о которых повествует нам произведение искусства, есть нечто отличное от подлинно художественного наслаждения. Более того, в произведении искусства эта озабоченность собственно человеческим несовместима со строго эстетическим удовольствием» (Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Самосознание европейской культуры ХХ века. М., 1991. С. 234).
[Закрыть]. Зыбкая для массового сознания с его неразвитым художественным вкусом граница между утопией и искусством провоцировала стремление тоталитарных диктаторов, Гитлера, Сталина и иных, прагматически использовать искусство, особенно в его массовых или монументальных, ложноклассических формах бытования[166]166
Во всех советских кинотеатрах висел транспарант с надписью: «Из всех искусств на свете важнейшим для нас является кино. В. И. Ленин». Кино и было самым массовым из искусств, по крайней мере, в первой половине ХХ века.
[Закрыть].
Мышление вождей русской революции было замкнуто в пределах утопии, структурно-смысловым центром которой была идея перманентной мировой революции, а Октябрь 1917 года – ее первым шагом. Вопреки распространенным представлениям критиков Сталина (Троцкого, Хрущева, шестидесятников), такой его противник, как Джилас, утверждает, что Сталин, во-первых, был самым верным из наследников Ленина и, во-вторых, единственным реалистом среди них.
Сталина можно обвинять во всем, кроме одного – он не предал власти, созданной Лениным. Хрущев этого не понял – не мог и не смел понять. Он сталинскую власть провозгласил «ошибкой» – отходом от Ленина и ленинизма. <…> В то же самое время в Советском Союзе ни один из вождей не отрицает, что он продолжает дело той же партии, творит ту же историю. Власть Ленина – при измененных средствах – продолжала жить в Сталине. И не только власть. Но существенной была именно власть. Эта власть – в несколько измененном облике – продолжает жить и сегодня[167]167
Джилас М. Беседы со Сталиным. С. 147.
[Закрыть].
«Сегодня» Джиласа – это шестидесятые годы. И семидесятые. И восьмидесятые. Эта власть – советская, а «советское» – имя существительное, по отношению к которому все остальные характеристики, этапы, лица – только прилагательные, примечания крупным или мелким шрифтом. «Советская власть давно уже не является формой правления, которую можно изменить. Советская власть есть образ жизни нашего государства». Характерно, что Довлатов использует здесь слово «государство», хотя по смыслу речь идет о людях, о народонаселении, об обществе. Но «советское» – это слово, обнимающее обе стороны, и государство как аппарат управления и принуждения, и общество как совокупность людей, ему подвластных. Обнимающее и соединяющее в таком синтезе, когда «лагерь» и «воля» становятся только разными сторонами, разными «местопребываниями» одной и той же жизни, разными участками Зоны.
Мне кажется, что ключевой пункт в концепции Сталина и сталинизма – это признание того, что он искал и находил пути осуществления, практического воплощения того, что происходило в России на самом деле, а не в головах революционных вождей и не в пространстве утопии; происходило в переломные для страны годы, начиная с 1917-го. А происходило – восстание масс, непреднамеренным результатом которого стало утверждение советского как начала новой жизни и одновременно как продолжения некоторых тенденций русской истории. Продолжения не единственного, но, как показал опыт все той же истории, вполне жизнеспособного – особенно на фоне предлагавшихся политическими оппонентами и противниками Сталина альтернатив. Это не означает, что в годы Великого перелома русская история не могла двинуться по другому пути, что путь Сталина был безальтернативным. Это означает, что он серьезнее и глубже своих оппонентов и противников отнесся к разработке и обоснованию своего проекта и увязал в единое целое экономические, социальные и политические условия времени, опираясь на понимание «народной души» (массовой психологии) и жизненных устремлений партактива и придав Великому перелому характер культурного переворота.
Сквозь идеологически заданную перспективу мировой революции Сталин увидел, как взвихренная спонтанными столкновениями социальных стихий и их ожесточенной борьбой российская реальность оседает, обретая новую конфигурацию и содержание – все то, что в целом составило действительную и чрезвычайно подвижную суть русской революции, ее жизненное воплощение, непрерывно растущее, меняющееся с течением времени. Более того, направляющее ход этого времени с его замедлениями, паузами, возвратами, рывками и ускорениями. Художественное воображение помогло Солженицыну угадать в этом новообразовании органическую способность к самовозрастанию и оборачиванию. Точно так же другой писатель, Алексей Толстой, в своей статье в «Известиях» (от 14 июня 1937 года) подчеркивает эту сопричастность каждого пульсирующему времени, сопричастность живому и непрерывному творчеству советской жизни:
Такова особенная и необычная форма нашей революции. Она не оставляет человека на его тех или иных отвлеченных позициях. Она развивает их, углубляет и соприкасает с жизнью. Все проходит через реальность, через вещественность, все логически развивается и доводится до конкретных выводов[168]168
Толстой А. Н. Родина // Толстой А. Н. Избр. соч.: в 6 т. М., 1953. Т. 6. С. 406407.
[Закрыть].
Непосредственным поводом для этих философско-исторических обобщений «советского графа» послужил смертный приговор, вынесенный группе высших командиров Красной армии во главе с М. Н. Тухачевским. Поразительно это соседство циничности и бесчувственности, отчасти, может быть, нарочитой, искусственной. Скорее всего, философская рефлексия здесь – инструмент психотерапии, способ побороть чувство страха, наделяя образом возвышенного и исторически необходимого обыкновенное палачество.
Способность переживать хаотичный и разношерстный поток событий в их «картинной» полноте и органичной связности, воспринимать эти переживания в их непреложности, как первичный и исходный факт и отталкиваться от него в деле конструирования новой реальности лежит в основе того, что можно назвать фантастическим реализмом политического мышления Сталина, по аналогии с его любимым/нелюбимым драматургом М. Булгаковым. Фантастический реализм начинается с поиска нового ракурса – такого обращения к действительности, когда она предстает в новом и неожиданном, остраненном виде[169]169
«Целью искусства является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелей и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве неважно» (Шкловский В. О теории прозы. М., 1983. С. 12).
[Закрыть]. Достигается это за счет включения в призму взгляда фантастических элементов. Включение таких элементов – художественно-технический прием, обусловливающий необходимое искривление (остранение) привычного, рутинного. Сами же фантастические элементы образуют условную и служебную «часть» изображаемого («картины») и отставляются в сторону по мере того, как достигается решение главной задачи.
В отличие от искусства, в политике Сталина роль магического кристалла, преломляющего «оптику» массового сознания в «нужной» идеологически выверенной перспективе, играет марксистское учение, из арсенала которого и черпаются отдельные фрагменты и аспекты, используемые в качестве фантастических «добавок», обеспечивающих новое освещение, преображающее реальность. Но – именно фрагменты и аспекты, вырванные из корпуса того, что Ленин считал отлитым из единого куска стали. Монолитно единое учение, каким Ленин видел классический марксизм, уже после смерти Маркса интенсивно распадалось на разные течения, направления по мере того, как теория соприкасалась с политической практикой. Бернштейн, Каутский, Бебель, Либкнехт – и это только в германской социал-демократии. В советской России 1920-х годов большевизм, сам бывший лишь одним из многих направлений в европейском марксизме, растекался конфликтующими «рукавами», «протоками»: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Сталин, «рабочая оппозиция» и тому подобное. Единство учения было фикцией, в немалой степени потому, что учение это было антиутопией индустриального общества, романтически окрашенной реакцией огромных человеческих масс, вырванных из традиционной культуры и вековечных «гнезд» обитания и перенесенных в городскую среду, на тяготы этого гигантского цивилизационного сдвига. В России – даже не сдвига, а перелома, совершившегося, в отличие от Запада, в течение полувека. «Для вас века, для нас – единый час». Марксистское учение не обладало потенциалом предсказания, поскольку было обращено не в будущее, не вперед, а «вверх», в область трансцендентальных категорий романтического мировоззрения (нормативно-аксиологический характер основоположений, этика революционного долга, категорический императив революции)[170]170
Кантовскую рецепцию (через расхожий романтизм, ставший к середине XIX века мировоззрением образованного городского класса) в марксизме остро чувствовал Э. Бернштейн, разработавший учение «этического» социализма. Он был объявлен Лениным первым официальным «отступником» (ренегатом) от марксизма. Следующим стал К. Каутский.
[Закрыть], либо в идеализированное прошлое (утопия народа и патриархальной простоты народной жизни)[171]171
Глашатай эпохи Маяковский в 1927 году в поэме «Хорошо» создает идеализированный образ социалистического сегодня: «За городом – поле. / В полях – деревеньки. / В деревнях – крестьяне. / Бороды – веники. / Сидят папаши. / Каждый хитр. / Землю попашет. / Попишет стихи. / Что ни хутор, / от ранних утр, / работа люба. / Сеют, пекут / мне хлеба. / Доят, пашут, / ловят рыбицу. / Республика наша /строится, дыбится».
[Закрыть].
Примером такого «остранения» Сталиным реальности может служить кульминационный пункт в его борьбе за власть в партии, обществе и государстве с троцкистско-зиновьевской оппозицией и (в недалеком будущем) с группой Бухарина и Рыкова – подготовка и проведение XV съезда ВКП(б) в 1927 году. Констатируя незавидное состояние сельского хозяйства, которое создает критическое положение для всего народного хозяйства в целом, в том числе угрозу хронического голода для армии и городского населения, Сталин в качестве выхода из положения использует допущение, заявляя, что решением проблемы является переход крестьян к коллективной обработке земли на основе новой, высшей техники[172]172
См.: История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков): краткий курс. [Б. м.], 1938. С. 274–275.
[Закрыть]. При этом он опирается «на указания Ленина о необходимости перехода от мелких крестьянских хозяйств к крупному артельному коллективному хозяйству»[173]173
Там же. С. 274.
[Закрыть], добавляя к этому (теоретическому) положению фантастический элемент в виде новой, высшей техники. И в свете этой добавки ленинские размышления о постепенном переходе к новому, о необходимости на деле показать крестьянам преимущества нового способа хозяйствования получают иное содержание и смысл и открывают новую историческую перспективу – строительство в СССР планового хозяйства на социалистических основах, начальный шаг которого – разработка первого пятилетнего плана. А затем настало время второго – главного – пункта повестки дня. «Покончив с вопросами социалистического строительства, XV съезд партии перешел к вопросу о ликвидации троцкистско-зиновьевского блока»[174]174
Там же. С. 276.
[Закрыть].
«Новая, высшая техника» – фантастический элемент в аргументации Сталина, поскольку индустриализация и масштабное техническое перевооружение сельскохозяйственного производства – задача неблизкого будущего, над решением которой советские руководители будут ломать голову и в 1960-е, и в 1970-е годы, создавая агропромышленные комплексы (АПК). Но, с другой стороны, несмотря на свою фантастичность, образ высшей техники – вовсе не пустая игра воображения. Он вполне соответствовал духу времени с его лозунгом «все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц», времени Циолковского, Королева, Туполева, Водопьянова, Чкалова, трех танкистов из популярной песни, «Аэлиты» и «Гиперболоида инженера Гарина» Алексея Толстого[175]175
Еще летом 1918 года, в самом начале Гражданской войны, Сталин, которому была поручена оборона Царицына, связывает надежды на успех с поставкой – не поверите! – новой техники. «Опубликованная переписка показывает, что, будучи в Царицыне, Сталин буквально бомбардировал Ленина настойчивым просьбами относительно боевой техники и рисовал заманчивые картины успешного развития событий с ее помощью. В одном из посланий он обещал занять Баку, Северный Кавказ и Туркестан, если только Ленин “разобьет все преграды” и без промедления пришлет несколько миноносцев легкого типа и две подводные лодки» (Такер Р Сталин. История и личность. Путь к власти. 1879–1929; У власти. 1928–1941. М., 2006. С. 138). Речь идет о письме Ленину от 31 августа 1918 года (см.: Сталин И. В. Соч. Т. 4. М., 1947. С. 127).
Примечательно это фантазирование по поводу быстрого и (подразумевается) легкого успеха. Скорее всего, это характерная черта сталинского мышления. Упование на технику как ключ к развязыванию гордиевых узлов – свидетельство склонности Сталина к магии, когда техника – нечто вроде лампы Аладдина. Возможно, что этим объясняется и стремление Сталина в кратчайшие сроки провести индустриализацию страны и перевооружение Красной армии, его внимание к высшей школе и подготовке кадров для индустрии, особенно тяжелой.
[Закрыть]. Будучи органической частью складывавшейся тогда концепции социализма как общества научно-технического прогресса, этот образ обладал притягательной силой в массовом сознании.
Г. П. Федотов, размышляя о степени прочности советского как общественного и государственного устройства и как уклада жизни, связывал этот интерес молодого поколения советских людей к технике с тем, что в последней эта молодежь видит обещание новой цивилизации, еще не виданной в России. И потому чем дальше от старой России, тем лучше.
В техническом восприятии культуры Россия встречается с ненавистным Западом, а скорее всего с дальним Западом. Мы имеем право говорить об американизме современной России, который отвечает на предсмертную мечту Ленина. Россия отвергает все глубокие слои западной культуры – от Античности до либерализма, – но жадно бросается на последние слова ее нового, «американского» дня[176]176
Федотов Г. П. Новая Россия // Федотов Г. П. Судьба и грехи России: в 2 т. СПб., 1991. Т. 1. С. 215.
[Закрыть].
Этим новый – советский – русский ничем не отличается от собратьев по «восстанию масс» на Западе, а как показал опыт истории уже второй половины ХХ века, также и на Востоке, и на Юге. Не случайно Х. Ортега-и-Гассет подчеркивал, что современный человек Запада восхищен техникой, которая дает ему возможность пользоваться достижениями цивилизации, будучи по сути дикарем, точнее, «одичавшим» человеком, живущим вне культуры, науки и всего того, что составляет исток и основу техники. «Веря в то, что цивилизация так же стихийна и первозданна, как сама Природа, массовый человек ipso facto уподобляется дикарю. Он видит в ней свое лесное логово»[177]177
См.: Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. С. 93. См. также с. 88–91.
[Закрыть].
Связь между тягой к технике и культурным одичанием чревата катастрофой, но – в отдаленном будущем, пока не будет потребительски растрачен накопленный потенциал культуры и науки. А тогда, в самом начале 1930-х годов, образ техники воодушевлял широкие массы и потому оказался серьезным аргументом в политической и идеологической борьбе Сталина с его противниками, реальными и мнимыми. Без допущения о тождестве техники и модерна («техницизм не зря считается одним из атрибутов «современной культуры»[178]178
Там же. С. 89.
[Закрыть]) невозможна новая историческая перспектива, питаемая идеей построения социализма в одной отдельно взятой стране. С помощью этой идеи Сталин приступил к конструированию будущего, безжалостно, с фанатической верой в исполнение намеченного отсекая альтернативные варианты и проекты и без всякой сентиментальности порывая с прошлым. В свете этой перспективы принципиально меняются исторический масштаб и политическая роль героев недавнего прошлого, титанов революции и Гражданской войны. Более того, они сами, того, может быть, не желая и не сознавая, становятся помехой или даже препятствием в деле осуществления новых задач. Историческое время Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, а также незадолго до этого умерших Дзержинского, Фрунзе, Красина и, страшно подумать, самого Ленина безвозвратно прошло. С этой точки зрения подлежало переосмыслению и историческое значение Октября, который из реального события со временем превращается в миф, дающий начало новому миру и составляющий источник и основание его легитимности.
Речь при этом идет не только о политической верхушке, о судьбе революционной элиты в целом, но и о глубинной радикальной трансформации социальной организации общества, предварительное условие которой – «зачистка» социального пространства. Сталин назвал это второй революцией, равнозначной «по своим последствиям революционному перевороту в октябре 1917 года. Эта революция была произведена сверху, по инициативе государственной власти, при прямой поддержке снизу, со стороны миллионных масс крестьян, боровшихся против кулацкой кабалы, за свободную колхозную жизнь»[179]179
История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков): краткий курс. С. 291–292.
[Закрыть]. Но уже первые шаги в будущее показали, что выполнение обещания – новая, высшая техника для крестьян – было отложено в долгий ящик, поскольку и без этого была решена основная задача, а именно – Великий перелом, перелом исторической тенденции, высвобождение нового (советского) из исторической колеи, из-под детерминирующего воздействия прошлого и тех вновь складывавшихся обстоятельств, которые были результатом разрушения все того же прошлого. Например, новой экономической политики Ленина – Бухарина.
Настоящей почвой сталинского реализма в политике стало нарождающееся советское. Именно отсюда шли жизненные токи, которые чутко улавливал Сталин, выстраивая и своевременно поправляя «генеральную линию». Колебания, зигзаги и крутые повороты его политического курса были следствием не столько нерешительности или ошибок Сталина – было и то, и другое, – сколько веянием времени. Не требованием, а именно веянием – неясным посылом, вызовом растущей советской жизни, который нужно было уловить и артикулировать, перевести на язык политических решений и практических шагов. На этом пути были возможны ошибки, не отменявшие, впрочем, основной направленности действий. В этом Сталин, несомненно, следовал Ленину, который в поворотные для большевизма моменты резко отходил от классического марксизма, не декларируя этого отхода открыто. Учение о внесении социалистического сознания в рабочую массу, модель партии как закрытой организации профессиональных революционеров, идея союза рабочего класса и крестьянства в социалистической революции, принцип диктатуры пролетариата, тезис о возможности революции в стране средне-слабого развития капитализма, военный коммунизм, НЭП – эти ключевые положения ленинизма несли на себе явный отпечаток российской специфики и текущего момента и получали оправдание как творческое развитие Учения в новую эпоху, эпоху империализма, мировых войн и революций.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































