Читать книгу "Голос из толпы. Дневниковые записи"
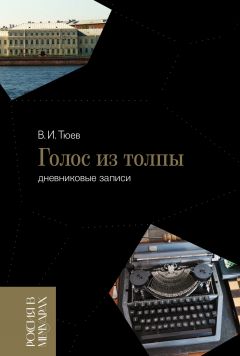
Автор книги: Вячеслав Тюев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вячеслав Тюев
Голос из толпы дневниковые записи

ОТ АВТОРА
В 1989 году, уйдя на пенсию, я начал составлять и составил-таки свою родословную, используя архивные и книжные сведения, в том числе второй половины XIX века.
Ствол родословного древа образуют Сорокины, которые были рыбаками. Я даже разузнал адрес их дома, где они жили почти полтора века назад (рядом с Обуховским заводом). Скорее всего, они происходили из крепостных крестьян, которых завезли на берега Невы петровские вельможи, построившие на этих берегах свои дачи.
Подзаработав на продаже рыбы, прадед в 80‐х годах XIX века из далекой городской окраины перебрался поближе к центру столицы – построил большой, в два этажа деревянный дом на берегу Обводного канала, там, где он впадает в Неву и где, только на противоположной стороне канала, возвышается знаменитая Александро-Невская лавра. В этом же доме (в архивах я нашел даже его чертеж) открыл мелочную лавку.
Одна из дочерей Сорокина стала моей бабушкой (соответственно, ее дочь – моей матерью). Она вышла замуж за рабочего-чугунолитейщика некогда знаменитого Семянниковского завода. Впрочем, это был не совсем простой рабочий. Семья Терещатовых приехала из Тверской губернии в Петербург (муж с женой и четверо детей) в конце XIX века. Когда отец семейства умер, его старшего сына, Федора, поместили в привилегированное училище имени цесаревича Николая, созданное по инициативе и при участии царской семьи11
В Ремесленном училище цесаревича Николая, основанном в 1875 г. и располагавшемся на Первой роте Измайловского полка (ныне Первая Красноармейская ул.), приобретали профессию мастера-слесаря дети из бедных семей.
[Закрыть]. Естественно, богатых спонсоров у такого училища было не счесть.
Однако после окончания училища Федор, видимо ради семьи, был вынужден выбрать одну из самых тяжелых, но зато высокооплачиваемых рабочих специальностей – формовщика чугунного литья. Женился он на дочери домовладельца и лавочника, а одна его сестра вышла замуж тоже за домовладельца, вторая – за инженера, дворянина.
В конце концов Ф. В. Терещатов, мой дед, вырос в классного профессионала. В 20‐х годах стал героем труда (тогда еще не социалистического). В Публичке22
Так неофициально называют Российскую национальную библиотеку, которая с 1917 г. именовалась Российской публичной библиотекой, с 1925 г. – Государственной Публичной библиотекой в Ленинграде, с 1932 г. по 1992 г. – Государственной Публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
[Закрыть] хранится книга очерков о заводе (Невском машиностроительном им. Ленина)33
См.: Ершин А. Машиностроители: (Очерки о машинах и людях). Л., 1933.
[Закрыть]. Так в ней один из портретов на всю страницу – деда. И это несмотря на то, что дед тогда уже не был рабочим. Был мастером, так сказать, мастером-выдвиженцем из рабочих.
Но истинно геройское свое деяние он совершил гораздо раньше. В первые послереволюционные страшные годы умерли голодной смертью два брата Сорокины, владельцы дома и лавки, и их семьи. У Федора Васильевича было четверо несовершеннолетних детей. А Невский завод стоял, не было работы. Делали гробы для своих умерших родственников (в архиве советских времен я нашел прошение рабочих, обращенное к директору завода, разрешить им делать гробы для умерших членов их семейств). Что ждало мою мать, ее двух сестер и брата? Директор завода позвонил на Адмиралтейский судостроительный: «Пропадает специалист высочайшего класса!» И судостроители согласились его принять.
Чтобы от Лавры добраться до судоверфи, требовалось из одного конца города пройти или проехать в другой его конец. А какой транспорт был в те суровые годы? И часто ли ходил? И не полз ли по-черепашьи? А человек-то рабочий, возвращается на домашний ночлег с большого устатка.
Между прочим, я еще ни слова не сказал о матери, Клавдии Федоровне. С точки зрения анкетных данных ее биография довольно скудна. Родившись в 1903 году в среде лавочников, она почти всю свою жизнь пробыла домашней хозяйкой.
А теперь представьте себе небольшой жилой массив напротив Лавры из двухэтажных деревянных домов (в блокаду их разобрали на дрова для обогрева ленинградцев, страдавших не только от голода, но и от зимних холодов). Обитатели массива называли его Бассейкой – из‐за вырытого в этом месте канала – бассейна, когда-то предназначавшегося для хранения плотов из бревен.
Так вот, мать, единственная из всех женщин Бассейки, зимой щеголяла в дорогущем котиковом пальто. Как и я был единственным среди тамошней ребятни, кто раскатывал по дощатым настилам вместо тротуаров на новеньком легком и быстром самокате, купленном в ДЛТ44
Аббревиатура от: Дом ленинградской торговли.
[Закрыть], что рядом с Зимним дворцом, тогда как мои приятели громыхали по доскам самокатами, сколоченными из досок же, и с колесами из шарикоподшипников.
Источником всего этого благоденствия являлся мой отец, Иван Александрович Тюев.
Если у матери лишь предки были крестьянами, то отец был крестьянином коренным, родился в 1903 году в небольшой деревушке Вешки, затерянной в малодоступных, топких лесах Новгородчины (кажется, она до сих пор существует, но уже в новом качестве, как дачное место для горожан). Не представляю, как и где отец окончил школу, как появился в Ленинграде и поступил в институт (я родился 9 октября 1931 года, когда он, судя по всему, был студентом), как окончил его в середине 30‐х годов. Причем окончил блестяще. Его дипломную работу преобразовали в учебное пособие для студентов, а самого отца направили на работу в Москву, в знаменитую Академию им. Жуковского55
Имеется в виду Военно-воздушная академия РККА им. профессора Н. Е. Жуковского, ныне Военно-воздушная инженерная академия им. Н. Е. Жуковского.
[Закрыть]. Академия дала двухкомнатную квартиру в тушинских новостройках.
Однако мать заскучала по своим многочисленным питерским родственникам, и семья через год иль полтора вернулась на Бассейку, в свою старую квартиру. И мы с матерью вновь стали проводить каждое лето в Вешках. Там у родной сестры отца был огромный двухэтажный дом, в котором она жила с дочерью. Младший брат отца, не желая колхозничать, в 30‐х годах вместе с семьей тоже уехал из Вешек, но не в Ленинград, а в пригородную Поповку, где возвел опять же двухэтажный дом с цветными стеклами на веранде и с крышей выше яблонь. У него было два сына, но все равно трудно поверить, что втроем можно было соорудить такое чудо, не имея лишней копейки в кармане.
Во время войны Центральное конструкторское бюро военного судостроения, где работал отец, было эвакуировано в г. Горький. По возвращении в Ленинград его разместили во дворце Строгановых на Невском проспекте, сейчас там филиал Эрмитажа.
Отец был старшим группы инженеров. Более высокая должность беспартийному не доверялась. На вопрос, почему он не в партии, отец отвечал уклончиво, намеком, что, мол, его могли бы счесть сыном кулака и, чего доброго, еще и выгнать с работы.
Но существовала, по-моему, и другая причина. У отца в 30‐е годы был приятель из числа сослуживцев. Тот часто заглядывал к нам на Бассейку. Однажды пришел с дождя и развесил свой мокрый плащ на спинке стула, на котором сидел. На полу образовалась лужица, я подошел к нему (а было мне лет пять, не больше) и сделал ему замечание: дескать, мама не любит, когда в комнате разводят грязь. Смущенный гость быстренько покинул квартиру. А когда появился снова, преподнес мне замечательный подарок: морской бой с различного типа военными корабликами, вылитыми из свинца.
Однако вскоре он совсем перестал ходить к нам. И я еще долго приставал к отцу: когда же, наконец, придет этот замечательный дядя. Но он так никогда и не пришел. Отец же хмуро отмалчивался. Прошло более десяти лет, а я иногда все еще играл в морской бой со своим одногодком, соседом по коммунальной квартире.
Лишь много позже я понял, почему внезапно исчез отцов приятель. В памяти встали кое-какие слова из разговоров, которые вели на Бассейке он и отец: о предательстве властей, решивших разрезать на металлолом еще вполне боеспособные линкоры… Отец, выходит, извлек для себя урок из случившегося на всю жизнь, а именно: ни при каких условиях не совать нос в партию.
В свободные часы отец читал исторические романы вслух. Для меня, дошколенка. Помню, например, роман про Чингисхана66
См.: Ян В. Г. Чингиз-хан: Повесть из жизни старой Азии (XIII век). М., 1939.
[Закрыть]. Понимал ли я то, что слышал? Не помню, не знаю. Но слушал все же внимательно, хотя, конечно, это нельзя было сравнить с чтением вслух, скажем, сказки про волшебника из Изумрудного города77
См.: Волков А. М. Волшебник Изумрудного города. М.; Л., 1939.
[Закрыть].
Все это на первых порах кончилось тем, что в 4–5‐м классах, будучи в г. Горьком, я поменял свою книгу «Пятнадцатилетний капитан»88
Роман Жюля Верна.
[Закрыть] на социально-политический роман армянского классика «Хаос»99
Имеется в виду роман армянского писателя Александра Минасовича Ширванзаде (наст. фамилия Мовсисян; 1858–1935) «Хаос» (1898), который был несколько раз переиздан в 1930‐х гг.
[Закрыть] – настолько им увлекся. Наверное, нет ничего страшного в преждевременном забегании вперед. Видимо, это принесло мне некоторую пользу. Я стал рано учиться размышлять. Сначала о прочитанном, потом об услышанном и увиденном. Не обладая быстротой и глубиной мысли, такими, как хотелось бы, я научился путем длительных размышлений доходить до неожиданных умозаключений.
А в дальнейшем, начиная с класса седьмого, я вместо обычных домашних сочинений стал писать маленькие рассказы, скорее сочинять их жалкое подобие. Учительница литературы поведала об этом другим учителям, и на меня стали оглядываться.
В восьмом классе я решил окончательно: попытаюсь стать писателем! И чтобы начать учиться писать по-настоящему, на уровне художественной литературы, начал вести дневник. Стал постоянно ходить с карандашом и блокнотом.
Но не только это побудило взяться за перо. 1946 год, первый послевоенный, был очень тяжкий, голодный. В школьных столовых первоклашки, случалось, просили хоть какой-нибудь съедобный кусочек у старшеклассников. Наша семья бедствовала. «Какой зеленый стал», – говорила мать. Школа выделила «зеленому» УДП – усиленное дополнительное питание. Однажды на обед дали ножку курицы. Я впился в нее зубами и опомнился только тогда, когда увидел в руках мелкий остаток куриной косточки. Я косточку съел, сам того не заметив. Или: раздается звонок в дверь квартиры. Входит немец из военнопленных. В руках – свистулька, самоделка. Проходит на кухню, свистит, кладет свистульку на стол и произносит умоляюще: «Клеба». Но присматривается к «зеленому», оставляет свистульку на столе и тихо уходит. Или: вдоль всего моста через Фонтанку, того, что с конями Клодта, сидят на жгуче холодном ветру в ряд, плечом к плечу, безногие и безрукие дети, просят милостыню. И я все время хожу мимо них в шахматный клуб Дворца пионеров. Или: стоим с матерью часами в коммерческую столовую за тарелкой каши (дорого, но зато без продуктовых карточек), и такие истории от людей слышишь… В частности, записал рассказ бывшего солдата, побывавшего в плену у немцев. Его освободили американцы. И он возил на джипе их офицера. В общем, порассказал, какие американцы вояки. Пешком не ходят. Ездят только на автомобилях. Штурмом городов не берут. Предлагают неприятельскому гарнизону сразу сдаться. А если фриц не сдается, вызывают авиацию, выжидают, когда та сделает свое дело, и въезжают в город без единого выстрела. Вроде бы они и сейчас точно так же воюют.
В середине девятого класса, когда жизнь немного полегчала, я отложил дневник в сторону. Впечатляющих событий стало гораздо меньше.
В 1949 году поступил на филфак. И еще до первых занятий влюбился. На общем собрании абитуриентов. Сидел за ее спиной и положил в оттопырившийся кармашек ее кофточки записку с признанием в любви.
Вскоре – и чуть ли не на целых два года – эта записка превратилась в дневники, в особо толстые, специально купленные для этой цели тетради. Я и маялся любовью, изнывал от любви и в то же самое время в своих дневниковых записях стал изучать себя как человека, анализировать свои чувства и мысли, причем крайне честно, не скрывая от бумаги любые свои чувства, побуждения, какими бы плохими они ни представлялись, – все это должно было пригодиться в моей будущей писательской деятельности.
И вот тут-то, семьдесят лет назад, в описание страданий молодого Вертера я начал постепенно вкрапливать записи и о событиях, так сказать, общественного характера, как это было в мои школьные годы. И таких записей становилось все больше…
Делая записи, я более всего старался быть точным и правдивым. Всегда носил с собой наготове авторучку, карандаши, бумагу, чтобы после интересного события или беседы, найдя укромное местечко, записать главные детали, главные мысли своих временных героев и тем самым держать свободными мозги и память, если вдруг опять возникнет что-то любопытное. Дневниковые записи – это, по сути, моя копилка чужих мыслей, а укромные места – библиотека филфака, например. Последним таким местом (к концу дня) была скамья в трамвае.
Впоследствии, когда весной 1989 года я вышел на пенсию и вновь обратился к своему стародавнему письменному творчеству, надоумился отделить одни записи от других: перестучал на машинке пальцами правой руки сначала записи любовные, потом, отдельно, все остальные. Поскольку первых было намного больше, сохранил за ними даты их написания, а в отношении вторых, которые состояли подчас из двух-трех предложений, указывать дни и месяцы счел не всегда нужным.
ЧАСТЬ I
1951–1954 ГОДЫ
В эти годы я был студентом отделения славянского перевода филологического факультета Ленинградского университета и от случая к случаю, вперемешку с описанием двух своих любовных увлечений, заносил на бумагу то из увиденного и услышанного в общении с людьми, что так или иначе затрагивало душу. Это же касалось и разного рода событий, участником или свидетелем которых я был. На первых порах под мое перо без разбора попадало все – и светлое, и темное, дурное. Но постепенно темного становилось все больше. Сначала по причине чисто психологической, субъективной – на светлом темное заметнее. Потом появились причины более глубокие, объективные.
1951 ГОД
3 февраля. Сидел дома до 6 часов вечера. Потом поехал в Центральный шахматный клуб им. Чигорина. Играл легкие партии.
Казалось, так спокойно и пройдет этот день. Так же спокойно, бесцельно, как почти все дни каникул. Но у меня украли калоши.
Незадолго до этого, наигравшись, я спустился из турнирного зала в гардероб. Взяв пальто и калоши, вдруг вспомнил, что оставил членский билет наверху у Григорьева.
Вместе со мной одевался Витоль, шахматный мой приятель еще со школы.
Сняв уже было надетые калоши и попросив Витоля присмотреть за ними, я вернулся в турнирный зал. Был там минут пять. Спускаюсь вниз в гардероб: ни Витоля, ни калош. Побегал по вестибюлю. Но не очень обеспокоился. Надел, думаю, Витоль.
На остановке встречаю Витоля и гляжу на его ноги. Калош на них нет. Спрашиваю: где калоши? Он смеется, но дает честное слово, что не брал. Тут настроение мое упало. Вернулись с Витолем в гардероб, постояли, пока все не ушли. Гардеробщик видел, как кто-то надевал мои калоши. Теперь стало ясно: украли (хотя до этого я еще надеялся, что Витоль спрятал их здесь, в гардеробе).
По дороге на трамвай я удивлялся: украли калоши – и где? – в Центральном шахматном клубе! В то же время меня одолевала злость. Думалось, встреться мне тот, что обидел меня, я б его хорошенько вздул. Надо же! Благодушное настроение было у человека, а тут, нате вам, испортить его из‐за сорока рублей.
Было около двенадцати часов. Еще неприятность: дома буду в полпервого ночи – уже одно это вызовет недовольство родителей. Да еще без калош. Папе к тому же рано вставать на работу… И то, что время позднее, и то, что на ногах нет калош, действует угнетающе. Обычно, когда первый раз идешь без калош (после того как привык в них ходить), чувствуешь определенное облегчение – ногам свободно. Сейчас я этого не чувствую, наоборот, чувствую, что без калош я будто не в своей тарелке, будто чего-то мне не хватает. Наверное, это «свобода» ног не давала мне покоя и все напоминала, что калоши украли. И эта же «свобода» усиливала ощущение холода.
Витоль успокаивает. Но делает это так, словно насмехается над моим убитым видом. Взгляд у него смеющийся, слова тоже:
– Вещь, конечно, потерять обиднее, чем деньги…
Уже в трамвае он пошутил и так удачно, что я рассмеялся вместе с ним:
– Сейчас Вячик думает, что я вытащу калоши из кармана: на вот, мол, не оставляй больше.
Дома появился в половине первого. Пропажа калош воспринялась родителями довольно спокойно. И не упрекали за поздний приход. Настроение, конечно, повысилось, и, уже умываясь, я вспомнил, что сегодня суббота, вернее уже воскресенье, и что завтра отцу не надо на работу, и что зря я беспокоился о позднем своем возвращении домой.
13‐е, вторник. В воздухе пахнет войной. Все разговоры только об этом. К чему учиться, к чему заниматься шахматами, если война все порушит. Один из группы журналистики сказал вполне серьезно: «Я, вероятно, успею закончить университет еще до войны, а потом буду военным корреспондентом».
17‐е, суббота. Завтра выборы. На Кировском заводе от РСФСР выдвигают Сталина. Город украшен как в самые большие праздники. Горят, сияют тысячи огней. Помещение шахматного клуба занято под выборы.
22‐е, четверг. На комсомольском собрании курса выступил Алиев. Что-то говорил быстро-быстро, было не разобрать. Но зато все поняли, когда он сказал, что в комсомольском бюро не работают, а «поют, как холостыми патронами стреляют». Зал засмеялся, зааплодировал.
25‐е, воскресенье. Сегодня общефакультетский вечер. Мы, сербская группа, получили задание проверять билеты при входе.
По дороге на вечер замечаю: идет мамаша с сыном лет пяти, а то и меньше. Слышу, как она говорит пузану: «Пушкина все любят, не только один ты…» А ведь клоп!
Еду в трамвае, гляжу на грудного ребенка, завернутого в одеяло. Он на кого-то вылупил глазенки – на того, кто стоит сзади меня (да и так его держала мамаша, что он мог в одном направлении смотреть только). Неожиданно дитенок взглянул на меня: круглые, чистые глазенки, немигающие, как у котенка. Я не сдержал улыбки, покраснел, чувствую. Что за сентиментальность! Не дай бог, еще кто увидит. Пальцем попытался согнать улыбку с лица, стараясь больше не смотреть на сосунка.
На вечере бывалые старшекурсники, разузнав, кто дежурит, вовлекли нашу группу в аферу. Пропуская тех, кто с билетами, мы изымали у них билеты и тут же их перепродавали. Выглядело это так: показывали билет желающему попасть на вечер, за его обозрение он выкладывал трешку и проходил; таким образом собрали рублей девяносто. Во втором отделении концерта прокутили их в столовой. На каждого, однако, пришлось немного. Авторитеты утверждали, что раньше собирали в несколько раз больше. Домой возвратился навеселе в двенадцать, а вечер продолжался до полпервого ночи.
28‐е, среда. Сегодня было снижение цен на 10–15%.
Шел через Неву. Тихо. Синий свет на синем снегу. Подумалось: вот подо мной течет могучая река, летом она может представлять смертельную опасность для человека. Сейчас ее мощь скована толстой коркой льда, и все-таки она существует, смертельная мощь эта, она подо мной – это необычно и страшно… в воображении1010
Не я один – многие тогда переходили Неву зимой не по Дворцовому мосту, а по льду реки: от широкой гранитной лестницы со львами до скромного рабочего спуска у здания университета. Через мост на другую сторону реки тогда можно было доехать на автобусе или трамвае, но, видно, люди экономили деньги, а ехать «зайцем» даже одну остановку совесть не позволяла. (Примечание 1989 г.)
[Закрыть].
7 марта, среда. Преподаватель военной кафедры полковник Петров рассказывал: в блокаду Ленинграда он командовал артиллерийским подразделением, тогда в артиллерии еще были лошади. Но не было сена. Бойцы выкапывали из-под снега мох и варили его на корм лошадям. Тех лошадей, которые готовы были вот-вот околеть, забивали и везли на завод, где из конины делали колбасу для ленинградских детей. Директор завода постоянно жаловался: лошадей (трупы) доставляют обглоданными. Это бойцы кусочками срезали мясо…
Парторг курса Глинкин предложил Андрею Гервашу:
– Мы тебя в профком толкнем…
– Работа трудная, – начал отговариваться Андрей.
– Ты раскинь мозгами: для нас, переводчиков (Глинкин тоже из переводческой группы – польской), характеристика – первое дело.
И это говорит парторг!
После размышления над его словами я пришел к выводу, несколько самоуспокаивающему: мол, что бы они там, наши активисты, наши идейные отцы, ни говорили, как бы ни мыслили, подчас обескураживающе, но они ведь действительно работают, этого от них не отнимешь.
15‐е, четверг. Было профсоюзное собрание в группе. Говорили о создании коллектива. Коллектив, заявил Юрий Романов, – это контроль друг за другом. Такого коллектива у нас нет1111
Романов студент был великовозрастный, в университет попал после службы в армии. (Примечание 1989 г.)
[Закрыть].
23‐е, пятница. Преподаватель сербского языка, политический эмигрант из Югославии Иван (ударение на первой букве) убежден, что нас после окончания университета пошлют в Югославию – люди там нужны (для свержения антисоветского режима генерала Тито, надо полагать, или для шпионажа)1212
Недовольство Сталина проявляемой главой Коммунистической партии Югославии Иосипом Броз Тито самостоятельностью в сфере международной политики привело к ухудшению отношений между СССР и Югославией в конце 1947 – начале 1948 г. и разрыву их в сентябре 1949 г. Советская пропаганда обвиняла югославских лидеров в измене коммунистическому движению, буржуазном национализме и даже в том, что они являются агентами разведок капиталистических стран.
[Закрыть].
Отец, придя с работы, говорит, что из Кореи, где идет война с участием американцев1313
Имеется в виду Корейская война (1950–1953) между Корейской Народно-Демократической Республикой, поддерживаемой Китайской Народной Республикой (военные подразделения) и СССР (снабжение армии и финансовая поддержка), и Республикой Корея, на стороне которой воевали воинские части США, Австралии и Великобритании.
[Закрыть], привезли в Ленинград маленьких детей и тем семьям, которые примут их к себе, дают по 600 рублей.
30‐е, пятница. Вечером был в ремесленном училище, по заданию комсомольской организации, рассказывал биографию Сталина. Слушателей было мало – человек десять.
Психологический момент: веду рассказ о Пресне. Слушают внимательно, аж глаза выпучив. Мне радостно, что так увлеченно слушают. Говорю о гибели машиниста Ухтомского1414
Во время революции 1905–1906 гг. один из руководителей боевой дружины Московско-Казанской железной дороги машинист А. В. Ухтомский был арестован и расстрелян без суда.
[Закрыть] и в то же время улыбаюсь, глядя в глаза завороженно слушающего меня мальчишки, – приятно, что смог его заворожить. Однако говорю-то о смерти человека! А сам улыбаюсь. Прилагаю неимоверные усилия, чтобы погасить улыбку, но она то потухает, то вспыхивает снова.
8 апреля, воскресенье. Подходит к Андрею, комсоргу нашей группы, Цауне из комсомольского бюро: «Ты, – говорит она ему, – прими меры против прогульщиков – много их у вас. А не то вызовем всю вашу группу на партбюро, там цацкаться не будут. …Может, помощь группе нужна или сами справитесь?»
– Сами, – ответил Андрей.
Вот так администрация факультета, превращая в надсмотрщиков студентов-партийцев и комсомольскую верхушку, бдит за дисциплиной и успеваемостью основной студенческой массы. Хотя цели в общем-то хорошие.
11‐е, среда. Ребята атакуют полковника вопросами о положении в Корее.
– Мы им рожу набьем! – заводится полковник («им» – это американцам). – Во время Отечественной войны они пытались было помериться с нами силой, якобы не распознали нас, за немцев приняли. Да мы их быстро утихомирили.
Прагу, оказывается, почему поспешили освободить? Не потому, рассказывает полковник, что немцы хотели ее взорвать, а потому, что американцы были близко. Надо было не дать им Прагу.
25‐е, среда. Я на Дворцовой площади. Вдали – колонны офицеров. Блестят на солнце, кажется, погонами. Подхожу ближе. Не погоны блестят! Планки орденов и медалей на гимнастерках блестят.
5 мая, суббота. Морячок в трамвае попался удивительный. Со всеми разговаривает, помогает людям подниматься на подножку, говорит «спасибо», когда его благодарят за это. Вышел он из трамвая, видит: милиционер; морячок отдал ему честь; не ожидавший ничего подобного, удивленный милиционер тоже отдал честь, но пустому пространству, потому что морячок уже прошел мимо милиционера. А я вижу: он, этот морячок, засмотрелся на мамашу, вернее, на бабушку (пожилая уже) с двумя крохами, и заулыбался.
6‐е, воскресенье. Велика сила привычки. Живется хорошо, а по-прежнему люди выползли на огороды. В Невском районе роют повсюду, перед самыми домами. Дымят костры. Под нашими окнами на втором этаже скрежещут о твердую землю и камни лопаты. Стоит ребячий гвалт.
Слышу, говорят по радио, что советские люди с радостью узнали о новом займе. «С радостью, – зло произносит мать, – как бы не так!»
Действительно, зря лгут. Радости нет. Есть сознание необходимости: это надо Родине, вот мы и даем, ведь давали во время войны тысячи, миллионы. Надо было Родине! Но какая ж тут радость? Радости от того, что отдаешь свои деньги, нет1515
Не помню, в эту ли заемную кампанию или в предыдущую, где-то в 1949–1950 гг., произошел со мной такой случай. В перерыве между общими лекциями (общие лекции читались для всего курса филологов в актовом зале факультета) было объявлено о начале подписки на очередной государственной заем. Любитель всякого рода шуточек, я тотчас же со смешком в голосе произнес: «С миру по нитке – Сталину рубаха!», произнес громко. Наверное, потому, что хотел прихвастнуть: смотрите, мол, какой я остроумный. Сидевшие поблизости студенты, конечно, оглянулись на этот возглас. Среди них был и Рудольф Речкалов. Его взгляд как-то неприятно меня удивил. Он показался мне чуть ли не диким. Глаза – будто навыкате. Это впечатление еще более усиливали стекла Рудькиных очков. Да, я удивился тому взгляду. Тогда еще никто не знал, что у Речкалова отец – генерал, начальник КГБ одной из кавказских республик. А если б Речкалов мог тогда знать, что на 6‐м курсе его жена Евгения уйдет жить ко мне в коммуналку на улице Ткачей, удержался бы он, чтобы не «настучать» на меня папаше или его ленинградским коллегам? Лишь много позже мне пришло на ум, как легко можно было «загреметь под фанфары» всего лишь из‐за наивного простодушия, безотчетного пристрастия к красному словцу, за которым нет ни грана серьезной мысли.
Кстати, мой отец за свою жизнь накопил претолстенную пачку облигаций займов, среди которых мои дешевенькие студенческие были каплей в море. Моя мать – и после смерти отца – упорно их хранила. Оказалось, не зря. Впоследствии государство их выкупило – рубль в рубль.
Ну и в заключение – такая любопытная деталь. У меня по сей день хранится расчетный лист отца с места его работы в ЦКБ № 52 за июнь 1941 года, так в нем типографским шрифтом в разделе «Удержано» рядом со словами «Подоходный налог» пропечатано: «Заем». А вот в таком же листе за декабрь 1942 года слово (строчка) «Заем» уже отсутствует. (Примечание 1989 г.)
[Закрыть],1616
И. В. Речкалов был полковником (с 1944 г.), а не генералом.
[Закрыть].
Поздним вечером по дороге из университета домой нагоняю Карионова, однокурсника. Идем вместе. Вдруг он останавливается, заслушавшись, как две девушки поют песню.
– Надо идти, – говорит потом, – а то останешься без ужина, магазины в 12 закрываются. Но и послушать хочется.
Он-таки остается слушать песни.
Я в Центральном шахматном клубе. Уже по тому, сколько народу поднималось по лестнице, можно было предполагать, что клуб будет переполнен.
Так и есть. Толпы народу. Гудят. Сидеть негде. А я играю первую турнирную партию.
Вот показали первые десять-одиннадцать ходов матча на первенство мира между Ботвинником и Бронштейном. Потом был доклад. Зажав уши ладонями, я думал над своими ходами. Вторая передача (сообщение из Москвы) примерно через час. Комментирует из Москвы Синявский.
…Вторая демонстрация партии московского матча. Мастер Ровнер показал залу, битком набитому шахматными болельщиками, десять ходов и закончил: «А дальше последовало интересное продолжение. Черные предложили ничью, и Бронштейн ее принял».
Сперва – всеобщее изумление, потом – бурные овации, Ботвинник – чемпион. Выиграй Бронштейн, он бы стал чемпионом. Но Бронштейн согласился на ничью на 22‐м ходу?! А все ждали сногсшибательной партии.
Выйдя поздно из клуба, я слышал, как прохожий спросил: «Ну, как там Ботвинник?» – «Ничья на 22‐м ходу». – «Что же этот дурак (Бронштейн) не играл на выигрыш?»
Н-да, какой-то заговор… против болельщиков. Непонятно.
У нас тут в районе два фраера ходят. Противно смотреть. Так первым когда-то начал ходить мой одноклассник Аркашка Федотов, попавший затем в тюрьму; эти сосунки как бы переняли моду от него – в длиннополых серых пальто, в глубоких, по уши, серых мягких кепках.
12‐е, суббота. На Невском все взрыто. Кто-то сказал: не дай бог, война начнется, так и останется весь Невский разрытым!
Идет реконструкция. И немалая.
…Вот образы молодых рабочих. Стоят на трамвайной площадке. Один через каждое слово – «б….» или еще что-нибудь в таком духе:
– Я вчера бухал.
26‐е, суббота. Сегодня свадьба Вадима Кошкина. Невесту никто не знает.
…Я засиделся дома.
Наконец собрался. Бегу на автобус, с автобуса на трамвай. Идет двенадцатый час ночи.
Подбегаю к дому. Стоят Андрей, Гайдаренко и еще один незнакомый парень. Вошли в квартиру. Народу! И все с курса. Не знаю, с кем и здороваться. Скинул пальто – и в коридор. Здесь куча ребят. Рассказывают анекдоты. Так проходит полчаса.
Начинается. Гайдаренко загоняет всех в комнату, где состоится свадебное торжество: «Заходите. Стесняетесь, как в гостях».
Вышла заминка: не хватает стульев и стола. Бросилось в глаза: стол накрыт беднее, чем на наших групповых вечерах.
Долго решали, как рассесться. Сербы и поляки (ребята) расположились в углу, я сел на ящик, стол – подушка от дивана, тоже на ящике. Четверо сидят перед этой подушкой на кровати, с одного ее края; с другого края, перед настоящим столом – девочки. Они передали нам со стола что надо. Глинтвейн, теплый! Входит Романов, сообщает: «Познакомьтесь со свадебным обрядом…» Объясняет его в двух словах.
– Учтите, сейчас первый час ночи. «Горько» можно кричать до часу.
Многие зароптали: до двух! Сегодня суббота, соседи отоспятся.
Романыч скрылся. Проходит минута. Дверь раскрывается. Шафер ведет Вадима. Вадим серьезный. Проходя мимо, схватил меня за руку, крепко пожал.
Ищу глазами невесту. И не вижу незнакомой девушки. Где же невеста? А вот, наверное… Это определяю по тому, что она идет впереди, густо покрасневшая и в новом платье. Удивляюсь: много раз встречал ее на факультете. Неказистая такая девушка. А шаферы уже берут рюмки. Пьют. Мы не пьем. Шаферы – Лешка и Романыч.
Выпили. И вдруг совершенно для меня неожиданно полетели через всю комнату рюмки. С треском разбились одна за другой. Вадим посмотрел на свой большой бокал и, по-видимому, пожалел его, поставил на стол. Тут и мы подняли стаканы. Чокнулись с Вадимом. Шум. Все пьют. Невеста с бокалом в руках обходит стол. Подошла и к нам. Узнав нас, сказала решительно и строго (почему-то я удивился, что невеста может так говорить, решительно, спокойно и отнюдь не нежно): «Ах, вы уже выпили!» И ушла.
Потом Андрей поднес молодоженам наш подарок – быка. Статуэтку внушительных размеров. Все хлопали. А пьяный Сосковец (он вино пил еще на кухне, сообщил с обиженным видом Андрей) запел: «О, бог Гименей!..» Голос плох, оттого ли, что пьян Сосковец.
С «горько» получилось неудачно. Были отдельные, разрозненные выкрики. Поэтому молодые в нерешительности переглядывались: целоваться ли…
Раздался голос Романыча:
– Жених говорит: мало кричите.
Хором гаркнули: горько!
Вадим сделал движение, словно махнул рукой невесте: эх, все равно пропадать! Они только начали целоваться, а все уже замолчали. В тишине и молодым неловко стало.
Потом, когда все «подзаложили», понеслись возгласы:
– Попоем!
Большинство ребят подалось в переднюю. Здесь стоял столик, и на этом столике для ребят было маненько припасено.
В комнате танцевали, в передней спорили. И я спорил – о Макогоненко: мол, революционер в литературоведении.
Кончив спорить, вернулись в комнату. Многие девушки лежали по кроватям, по двое, по трое. Засыпали.
Потом мы пели. И Димка Гайдаренко – с нами. Потом Рыжик сломал патефон, и пьяный Талицкий чинил его. Не починил, конечно. Потом раздался чей-то голос: «Где невеста с женихом?» (Они, оказывается, гуляли по ночному городу, ходили к Мойке.) Андрей дулся на Сосковца: выпил все! Поляки сидели у окна и никуда оттуда не вылезали. Я ходил из коридора в комнату и обратно. Валя и незнакомый парень сбежали целоваться (на следующий день ребята говорили: она вернулась с синюшными губами).
Перед утром многие спали. Кто не спал, пили чай. И только я вышагивал взад и вперед по комнате, ревел басом.
8 июня, пятница. На Невском видел Жарова в белой шляпе, в белом плаще, высокого роста, глаза сощурены или заплывшие смотрят поверх толпы1717
М. Жаров – знаменитейший советский артист. Большинство в толпе, среди которой я находился, наверняка его узнали, но никто к нему не обратился, никто не обернулся ему вслед. (Примечание 1989 г.)
[Закрыть].
16‐е, суббота. Я, Витька Калинин, Петька Замятин, Лида Песочникова, Нина Михайлова и другие девчата катались на лодке по Неве. Я греб, был участником их разговоров, видел их отношения, и явилась мысль, немного удивившая меня и обрадовавшая: у нас в группе меж ребят коллектива все-таки нет, а вот у Витьки и Петьки, живущих в университетском общежитии, и у этих девушек, тоже из общежития, – вот у них, хотя они из разных групп, коллектив есть. Я видел, слышал, какими простыми, открытыми, ничего не таящими про себя были они друг с другом. Лида купила всем по пирожку, а остальные говорили: у меня есть еще столько-то денег; там у нас, в общежитии, есть то-то и то-то – как-нибудь проживем. Это Лиде говорили. И я верю, что они так дружно живут. Вот бы всю нашу группу поселить в общежитии!
17‐е, воскресенье. Умер Павленко, писатель. Славят Горького. И здорово. Так что кажется: лучше Горького не было писателя. Последние известия по радио с него начинают!
День начался с того, что пошел в Палевский сад. Читал «Детство» Л. Толстого и загорал. Потом нечаянно-негаданно, как с неба свалились Валька, Сережка, двоюродные братья, и их приятель Алька Соколов. Здесь же, в саду, играли в козла, у меня дома пообедали и вернулись к Вальке, он завтра уходит в армию – в артиллеристы.
Купив два пол-литра, направились к Вальке на Конную улицу. Там, подавив разыгравшееся чувство досады на то, что загубил вечер, поехав с ними, сел в стороне от стола, взял журнал и уставился в него, ожидая, что будет дальше. От того, как и какую закуску они готовили, мне стало противно. А тут еще во рту появилось горькое, неприятное ощущение от вкуса водки. Зачем пожертвовал вечером, чтобы пить эту дрянь! Одно утешает: ведь это проводы брата в армию.









































