Текст книги "История эмоций"
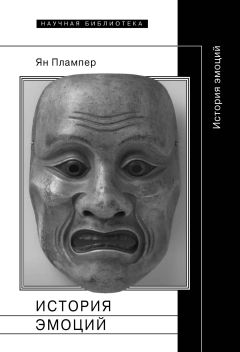
Автор книги: Ян Плампер
Жанр: Зарубежная психология, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
5. Лингвистический поворот и социальный конструктивизм
Основной вывод антропологии эмоций 1970‐х годов можно сформулировать в одной фразе: эмоции в основе своей одинаковы, но выражаются по-разному в разных культурах. Между тем именно тогда в гуманитарных и социальных науках началась смена теоретической парадигмы, приведшая к тому, что в 1980‐е годы появились варианты антропологии эмоций, которые постулировали не только различие в выражении чувств, но и вообще радикальную разницу в эмоциональном аппарате у людей разных культур.
Эта смена парадигмы была не что иное, как «лингвистический поворот» – «linguistic turn», он же «cultural turn», победа постструктурализма, вступление в «состояние постмодерна», как выразился в 1979 году Жан-Франсуа Лиотар (1924–1998); как бы его ни называть, это связанный с именами теоретиков культуры Мишеля Фуко и Жака Деррида процесс, в ходе которого были поставлены под вопрос Просвещение, научная истина и объективность, главные повествования о прогрессе, незыблемые взаимоотношения между знаком и значением, фундаментальные категории, такие как пол и этническая принадлежность, четкие различия между высокой и народной культурой; это была новая эстетика цитат в архитектуре, языковых игр в науке и в художественной литературе393393
О влиянии постструктурализма на американскую антропологию кратко рассказано в Barth F., Gingrich A., Parkin R., Silverman S. One Discipline, Four Ways. P. 322–327.
[Закрыть]. «Телосы» в гегельянском или марксистском смысле, романы, фильмы или исторические книги с линейно выстроенным повествованием, строгость архитектурного модернизма в стиле Баухауса, утопические проекты переустройства общества – все это на протяжении десятилетия подвергалось игривому, веселому, беззаботному, ироничному разрушению и расковыриванию, а потом объявлено ржавым старьем и отправлено на свалку истории. Применительно к эмоциям антрополог Кэтрин А. Латц в 1988 году сформулировала новую позицию так: «Эмоциональный опыт является не докультурным, а прежде всего культурным»394394
Lutz C. A. Unnatural Emotions. Р. 5, выделено в оригинале.
[Закрыть]. Тот факт, что данное утверждение принадлежит антропологу, а не какому-нибудь теоретику постструктурализма, сам по себе знаменателен: ведь показать радикальную контингентность было удобнее всего именно на примере эмоций, которые в то время принято было считать чем-то в высшей степени доязыковым, телесным и культурно универсальным. Возможно, давняя вера в природность эмоций связана с тем, что атаки постструктуралистов были направлены преимущественно против просвещенческой концепции ratio, а другая половина этой (влиятельной и по сей день) бинарной оппозиции, emotio, оставалась в тени.
Охота за головами ради «облегчения души»
Десятилетие социального конструктивизма в антропологии эмоций началось с публикации книги «Знание и страсть: илонготские понятия о самости и о социальной жизни» (1980) Мишели З. Розалдо (1944–1981). Вместе с мужем, антропологом Ренато Розалдо (*1941), Мишель в конце 1960‐х и начале 1970‐х годов проводила полевые исследования среди илонготов – народности, насчитывавшей тогда примерно 3500 человек и жившей в лесах на севере Филиппин на территории примерно 1500 кв. км. Илонготы – земледельцы и охотники – обитали в больших домах, внутри каждого из которых единое пространство делили между собой от одной до трех нуклеарных семей, состоявших из мужа, жены и их детей. На протяжении ХХ века этот народ подвергся неоднократным воздействиям извне; в числе наиболее значительных были японская оккупация во время Второй мировой войны, обращение в фундаменталистское христианство, осуществленное в 1960–1970‐х годах американскими миссионерами, а начиная с 1972 года – попытки военной диктатуры Фердинанда Маркоса распространить свое влияние и на коренные народы филиппинских островов.
Супруги Розалдо ехали к илонготам с намерением наблюдать, как те «по вечерам рассказывают мифы, строят подробные планы ритуальных праздников или в повседневной жизни интересуются подробностями древних мудростей», – так, во всяком случае, описывала это впоследствии Мишель Розалдо, демонстрируя изрядную долю самоиронии395395
Rosaldo M. Z. Knowledge and Passion: Ilongot Notions of Self and Social Life. Cambridge, 1980. P. 14.
[Закрыть]. Вместо мифов, обрядов и древней мудрости Розалдо обнаружили культуру, в которой эмоции занимали особое место, и прежде всего – в связи с одной практикой, известной из записок путешественников былых эпох и даже упоминавшейся в дневнике одного антрополога начала ХХ века, но, как считалось, вымершей: это была охота за человеческими головами. О ней интервьюируемые рассказали исследователям лишь после того, как получше с ними познакомились, и то было видно, что при рассказе они очень волновались. О том, что происходило на самом деле во время охоты за головами, Мишель З. Розалдо написала так:
Человек (это всегда мужчина) решает идти убивать, разговаривает с родичами и планирует набег потому, что сердце его «тяжелое». Хотя он может надеяться, что убитые им люди будут принадлежать к определенным родственным группам или населенным пунктам, на самом деле ему безразлична личность жертв, и он не ограничивает насилие лицами своего возраста или пола. Им движет скорбь об утраченных родственниках, зависть по поводу былых обезглавливаний, злость на оскорбление, намерение отомстить; он и его товарищи стремятся, в первую очередь, реализовать свое liget. Все ощущают тяжесть, которая «сосредоточена» и усиливается по мере того, как они идут, медленно и тихо, бессонными ночами, скудно питаясь, через неизведанные участки леса, к засаде, место которой в общих чертах определяют заранее. Они идут, тщательно соблюдая осторожность и тишину, говорят только шепотом и играя на тростниковых флейтах, чтобы распалить свои сердца. Приблизившись к месту засады, они бьют себя по голове, чтобы усилить liget; их зрение затуманивается и сосредоточивается на будущей жертве; их глаза наливаются кровью. После выстрелов участники похода поспешат к своим раненым и убитым жертвам, дико размахивая ножами. Мужчинам, на чей счет будет записано обезглавливание, нет нужды самим убивать жертв или даже отрезать им головы: достаточно просто держать голову в то время, как ее отделяют от тела, и «бросить» ее на землю: так каждый убийца избавится от тяжести. Совершив это, они испускают победоносный крик, и другие тоже бросают головы и кричат. Если до этого момента они были напряжены, целеустремленны и осторожны, то теперь радостные победители бросят как отрубленные головы, так и тела. Очистившись от насилия, они будут искать цветущие камыши, чтобы воткнуть их себе, как перья, обозначающие легкость, и душистые листья, чей аромат напоминает о жизнях, украденных ими. Найдя их, они поспешат домой396396
Rosaldo M. Z. Knowledge and Passion. P. 55–56, выделено в оригинале.
[Закрыть].
Во время первой поездки Розалдо к илонготам охота за головами случалась, очевидно, крайне редко: ей препятствовали и христианизация, и контроль со стороны военных властей. Однако проведенный антропологами в 1968 году опрос показал, что 65 из 70 мужчин старше двадцати лет в какой-то момент своей жизни убили кого-нибудь и отрезали ему голову397397
Ibid. Р. 14.
[Закрыть]. Скоро Розалдо заподозрила, что ключ к этой практике был – в противоположность тому, что гласили расхожие антропологические теории, – не в символическом, мифологическом или ритуальном ее оформлении как «ритуала перехода»: важнее было то объяснение, которое давали ей сами охотники, говорившие, что, когда они отрезают голову, их «тяжелое сердце становится легче». Дело, таким образом, было в чувствах, как их понимали илонготы. Розалдо пишет:
Итак, Розалдо выдвинули на первый план взгляд изнутри, а не извне, эмический, а не этический, и спрашивали не о том, какую космологию выражал этот «язык» (langue du coeur), а о том, какой смысл его понятия имели для культуры илонготов:
В то время как другие антропологи склонны были двигаться в работе «снаружи внутрь», сначала описывая паттерны социального мира, а затем спрашивая, каким образом индивиды «социализируются» так, чтобы работать и жить в нем, я решил, что мы больше узнаем, если начнем с другого полюса аналитической диалектики и зададимся вопросом о том, как личная и аффективная жизнь, которая сама по себе «социально сконструирована», актуализируется в социальном действии и определяет его формы на протяжении долгого времени. Для этого понадобилось провести исследование илонготских слов, касающихся сердца и мотиваций – особенно слов, обозначающих «энергию/злость/страсть» и благовоспитанность, или «знание», – и вместе с тем выяснить, что аборигены думают о лицах, отношениях и событиях, к которым такие слова в типичных случаях применяются399399
Ibid. Р. 19–20.
[Закрыть].
Что происходило в «сердцах» (rinawa) илонготов? Вскоре стало ясно, что «страсть», или «энергия» (liget), и «знание» (bēya) – это ключевые понятия, находившиеся в диалектическом отношении друг с другом. Liget было выражением мужской автономии, которую до первого полового акта и вступления в моногамные отношения нужно было и реализовать на практике, и усмирить400400
«„Liget“ само по себе не добро и не зло: это страстная энергия, которая заставляет молодых людей тяжело трудиться, жениться, убивать и воспроизводиться; но если ею не управляет „знание“ зрелых взрослых, эта же энергия заставляет молодых предаваться дикому насилию. В идеале „знание“ и „страсть“ должны действовать в „сердце“ сообща»; Ibid. P. 27.
[Закрыть]. Охота за головами была ритуальной практикой, а возможно и средством, позволявшим это сделать. После того как мужчина вступал в отношения, подобные брачным, он переставал ходить за головами, и bēya в его сердце держала liget в узде. Таким образом, перед нами эмоционально-ритуальное описание – и одновременно поддержка – социальных институтов (брака) и иерархий (молодой/старый, мужчина/женщина).
Когда во время второй поездки к илонготам в 1970‐х годах Розалдо давал им послушать магнитофонные записи песен, связанных с охотой за головами, они грустнели и даже раздражались и не желали слушать дальше. Дело в том, что большинство из них к тому времени перешли в христианство и полностью отказались от обычая резать головы. Песни же вызывали у них «ностальгию» по этой практике – точнее, они трогали их сердца и порождали дурную энергию liget, которую теперь уже нельзя было канализировать и направить на некую цель с помощью охоты за головами401401
Rosaldo M. Z. Knowledge and Passion. Р. 32–34.
[Закрыть]. Подобного же рода liget возникала, когда молодой неженатый человек, который никогда не ходил за головами, видел у другого молодого человека серьги, относящиеся к такой охоте. От этого тоже сердце становилось «тяжелым», «смущенным», «больным», «натужным» и «зажатым». В идеале же сердце человека «невесомо» и «трепещет» на ветру, как стебли высоких растений. Охота за головами «облегчала» сердце того, кто в ней участвовал:
Мишель Розалдо показала, что эмоции имели центральное значение для конструкции «Я» у илонготов. По их представлениям, эмоциональные категории, особенно liget и bēya, напрямую зависят от внешних событий, таких как замеченное во время охоты животное, увиденные серьги охотника за головами, услышанная песня, связанная с охотой за головами. У илонготов не было никакой контрольной инстанции, рассматриваемой как внутренне-психическая, будь то «совесть» или «разум»; эмоции как бы сами себя обусловливали: можно сказать, liget и bēya были включены в сердце в саморегулирующуюся экосистему. Это были не «эмоции», как мы их понимаем, а скорее «движения сердца» (motions of the heart)403403
Ibid. Р. 38.
[Закрыть]. Соответственно, они не были привязаны к объекту, а обладали собственной языковой дееспособностью:
В историях [которые илонготы рассказывают друг другу] сердце не желает, не размышляет и никаким иным образом не противопоставляет себя внешним событиям. Рассказчик комментирует: «Мое сердце сказало „стреляй в него“, и я выстрелил в него»; «Мое сердце сказало „он идет“, и он пришел»404404
Ibid.
[Закрыть].
Это необычное конструирование «Я» из взаимодействия liget и bēya – прекрасный пример, показывающий, что «Я» и его отношение к обществу не есть данность, а есть нечто создаваемое. Категория «Я», или субъектности, то есть того, что значит быть личностью, как известно, есть одна из главных, если не самая главная категория всей постструктуралистской теории. Демонстрация историчности и пластичности «Я» была основной целью Фуко и иже с ним. Если бы надо было назвать одну-единственную категорию высшего уровня, которой озабочена социально-конструктивистская антропология эмоций, то это была бы категория «Я».
Кроме того, пример илонготов опровергает западные представления, будто особенно сильны эмоции у женщин. Поскольку мужчины этого народа были подчинены диалектике liget и bēya, они обнаруживали принципиально более интенсивные, сильные, бурные чувства, нежели женщины405405
Похожий пример: Стивен Фелд, американский антрополог, проводивший полевые исследования среди калули (Папуа – Новая Гвинея) в 1970‐е годы, добился самого большого уважения лишь тогда, когда безудержно разрыдался на людях; см. Feld S. Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli Expression. 2nd edn., Philadelphia, 1990. P. 233, см. также p. 261–263.
[Закрыть]. На Западе же, напротив, «эмоциональны» женщины, они отвечают за сильные чувства.
Стихи вместо слез как способ выражения подлинных чувств
О том, в какой мере социально-конструктивистская антропология эмоций учитывает гендерный аспект, можно судить, в частности, по исследованиям Лилы Абу-Луход (*1952). Она – вероятно, единственный занимающийся чувствами антрополог и вообще одна из немногих женщин в этой профессии, кого ввел в изучаемую группу ее собственный отец. Лила Абу-Луход – выросшая в Америке и преподающая там дочь Ибрагима Абу-Лухода (1929–2001), который, наряду с Эдвардом Саидом, был одним из самых известных палестино-американских интеллектуалов. В октябре 1978 года Лила прибыла в Каир, чтобы оттуда отправиться к авлад’али – бедуинскому племени, живущему в пустыне на западе Египта, недалеко от ливийской границы. Ее отец настоял на том, чтобы лично представить бедуинам свою дочь, потому что прекрасно знал, что в традиционном мусульманском арабском сообществе протекция отца имеет жизненно важное значение для социального (а в данном случае и научного) успеха незамужней дочери. В тот момент Лила чувствовала себя «немного неловко» из‐за того, что договоренности, касавшиеся ее, заключал кто-то другой. Однако позже, оглядываясь назад, она была благодарна отцу за эту инициативу, потому что если бы она приехала без него,
такие консервативные люди, как бедуины, для которых принадлежность к племени и семье имеет первостепенное значение, а образование для девочек – это что-то новое, подумали бы, что женщина, путешествующая в одиночку, наверное, заставила свою семью, особенно родственников-мужчин, отвернуться от себя, так что они больше и не заботились о ней406406
Abu-Lughod L. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society. Berkeley; Los Angeles, 1986. P. 12.
[Закрыть].
Подобное восприятие, однако, было возможно только потому, что эту женщину рассматривали как «местную», как бедуинку. Как это было возможно? Дело в том, что авлад’али считали «своими» всех неегиптян, если только они были мусульманами и арабами. Благодаря этому Лила Абу-Луход, у которой мать была американка – социолог Дженет Липпман Абу-Луход (1928–2013) – и которая была воспитана в светском духе, едва говорила по-арабски, только ребенком прожила четыре года в Египте, а потом летние каникулы проводила у родни в Иордании, имела больше шансов быть принятой бедуинами как «своя», чем какой-нибудь египтянин из Каира. Это сочетание близости и дистанции продолжает занимать Лилу Абу-Луход, и она написала влиятельную статью, посвященную полевой работе «полукровок» (halfie), то есть антропологов, которые, как она сама, являются для информантов в поле одновременно и «своими», и «другими»407407
Разумеется, с позиций социального конструктивизма – а Л. Абу-Луход утверждает, что пишет именно с этих позиций, – такие категории, как halfie, недопустимы, потому что предполагают существование неизменных идентичностей. И это противоречие не исчезает, даже если рассматривать идентичности как продукт процесса конструирования: «Что происходит, если „другой“, которого антрополог изучает, одновременно конструируется как „личность“, хотя бы отчасти?» – Abu-Lughod L. Writing against Culture // Fox R. G. (Ed.) Recapturing Anthropology: Working in the Present. Santa Fe, 1991. P. 137–162, здесь p. 140.
[Закрыть].
В Александрии Ибрагим Абу-Луход договорился о встрече с жившими в пустыне бедуинами и рассказал им о намерениях своей дочери, а именно: усовершенствовать свои познания в арабском языке и познакомиться с жизнью бедуинов; для этой цели, сказал отец, девушка ищет семью, в которой она могла бы жить. Услышав это, старейшина племени предложил, чтобы она жила в его собственной семье. Подобно Джин Бриггс (чью книгу о жизни у утку она читала), Лила переехала в роли «удочеренной» в дом старейшины. Это позволило ей многое увидеть «изнутри», но вместе с тем значительно ограничило ее свободу передвижения. Бедуины жили патрилинейными семьями, в которых первоочередное право на вступление в брак с девушкой имел ее двоюродный брат (точнее, старший сын дяди). При разводе детей оставляли с родственниками-мужчинами, и Абу-Луход рассказывала впоследствии о пятилетнем мальчике, который, после того как его родители развелись, сначала рос у матери, а потом дед по отцовской линии забрал его обратно в ту семью, где ему полагалось жить по закону, то есть в семью отца:
Несмотря на то что мальчик никогда не видел его раньше, он сбегал за своей одеждой, после чего взял деда за руку и ушел с ним, едва оглянувшись. Его мать была убита горем. Мужчины, которые слышали эту историю, кивали головами и, казалось, ничуть не были удивлены408408
Abu-Lughod L. Veiled Sentiments. P. 53.
[Закрыть].
После Второй мировой войны авлад’али отошли от кочевого образа жизни, стали жить не в палатках, а в простых домах. Вместо натурального овцеводческого хозяйства, служившего лишь поддержанию жизни, они все больше занимались контрабандой, которая процветала в западной части Египта, поблизости от ливийской границы и вдалеке от столицы и каких бы то ни было органов государственной власти. Переход к оседлому образу жизни сопровождался еще большей сегрегацией между мужчинами и женщинами: раньше, в кочевой период, женщины еще могли хотя бы относительно свободно перемещаться между палатками своих семей, а теперь возрос риск того, что они по пути от одного дома к другому повстречают мужчину, не приходящегося им родственником или даже вообще незнакомого. Это привело к тому, что их свободу передвижения стали еще сильнее ограничивать, а лица – еще плотнее закрывать. Вместе с тем мужчины, которые стали богаче, могли теперь позволить себе иметь больше жен, и это тоже сказывалось на эмоциональной экономике семей409409
Ibid. Р. 70–73.
[Закрыть].
Исследовательский интерес Лилы Абу-Луход изначально не был связан с эмоциями, но эта тема приобрела для нее центральное значение после того, как она очутилась в изолированном женском мире своей новой семьи410410
Другая причина, заставившая Абу-Луход сосредоточить внимание на эмоциях, заключалась в том, что она использовала неструктурированные интервью, которые почти не записывала во время разговора, а делала это потом, по памяти. – Ibid. Р. 23, 25.
[Закрыть]. Там пели ghinnāwas – арабские «песенки», по большей части импровизированные, иногда исполнявшиеся в виде быстрого, как пинг-понг, диалога. По форме они напоминали японские хайку, но по эмоциональному содержанию – скорее американские блюзы. Важнейшее значение для успешности их исполнения имели голос и интонация: хорошие ghinnāwas должны были, помимо всего прочего, заставлять других присутствующих женщин почувствовать то же, что и исполнительница. Несмотря на жесткие каноны жанра и конвенциональный характер, устная литература ghinnāwas была фактически тем жанром, в котором женщины племени авлад’али могли выражать свои чувства. Эмоционально окрашенные словесные высказывания обычно вызывали у бедуинов подозрение в неаутентичности; поэтому от них и не ожидалось, что они будут логичными и согласованными, они могли быть абсолютно противоречивы. Ghinnāwas же представляли собой «поэзию личной жизни»; в них речь шла о грусти, о любовных терзаниях, о симпатии, о ревности ко второй жене мужа, о тоске по мужу, полностью увлеченному третьей женой, о любви не к тому, кому женщина суждена по сговору родителей, а к другому мужчине. Одним словом, ghinnāwas служили окном в ’agl: этим словом бедуины называют свое «Я», сердце, сознание, дух или душу (без религиозных коннотаций)411411
Ibid. Р. 31, 181. Конструкция души у бедуинов очень похожа на западное представление о душе как о пространстве для чувств внутри тела.
[Закрыть].
В этом контексте наиболее странным для глаз – а лучше сказать для «ушей» – западного человека является то, что идеальным, «правдивым» языком чувств служили не телесные признаки (считающиеся однозначными) и не формализованный язык, а литературный жанр, в котором даже при господстве импровизационного «вольного стиля» продолжали действовать железные правила. Ghinnāwas были главной гарантией подлинности чувств – это Абу-Луход поняла, когда услышала стихи женщины, то ли питавшей антипатию к своему мужу, за которого ее насильно отдали замуж, то ли нет. Когда заподозрившая неладное семья мужа пристала с расспросами к Лиле Абу-Луход, она нарушила свое обещание никогда не передавать мужчинам услышанные «песенки» и рассказала деверю той женщины о ее ghinnāwas. Тот раньше думал, что она просто водит его брата за нос и изображает неприязнь только ради того, чтобы заставить мужа дарить ей подарки и тем самым поправить ее материальное положение. Однако, услышав о стихах, он изменил свое мнение. А сама женщина призналась Лиле, что любит другого мужчину – из враждебной семьи и даже из другого племени, – лишь после того, как антрополог напомнила ей о ее ghinnāwas412412
Abu-Lughod L. Veiled Sentiments. Р. 220–221.
[Закрыть].
Социальный контекст, в котором пели ghinnāwas, имел решающее значение. Он позволял делать обобщающие утверждения об отношениях между полами, о социальной иерархии и об эмоциях авлад’али. Дело в том, что для мужчин публичная сфера регулировалась жестким кодексом чести: гордые, непобедимые, независимые мужчины-бедуины, обладавшие высокой степенью эмоционального и телесного самоконтроля, в основном держались отдельно от женщин, а когда им доводилось встретиться, поведение бедуинок регулировалось не менее жестким кодексом стыда, hasham. Это слово, буквально значащее приблизительно «стыдливость», «застенчивость», обозначает честь слабых. Hasham теснейшим образом связан с закрыванием лица. В конечном счете hasham означал боязнь подпасть под власть кого-то вышестоящего, тем самым подрывая идеал автономии и свободы413413
Ibid. Р. 103–108, 117.
[Закрыть]. Кодекс hasham не позволял женщинам публично, а уж тем более в присутствии мужчин, говорить об истинной, идеальной любви (вместо любви в браке по сговору) и о ревности к другим женам супруга.
Вот один пример: когда Мабрука, которая уже 16 лет была женой Рашида и матерью его шестерых детей, узнала, что он собирается взять вторую жену, она не подала виду, что это ее волнует, и сказала лишь: «Пускай женится, мне все равно. Но пусть покупает мне красивые вещи. От него никогда не было никакого проку. Настоящий мужчина заботится о своей семье, следит за тем, чтобы у нее было всё, что нужно»414414
Ibid. Р. 229.
[Закрыть]. Даже когда ее муж провел с новой женой более положенных традицией семи дней после свадьбы, Мабрука отреагировала со стоическим спокойствием и даже безразличием. На десятый день после второй свадьбы Рашид наконец снова заявился к ней и принес с базара продукты. Мабрука только посетовала, что кое-что он забыл купить. Тогда Рашид взял ружье и пошел на охоту, а Мабрука сказала Лиле, которая как раз была у нее в гостях: «Мы уже сто лет его не видали». Абу-Луход сочувственно спросила ее, скучает ли она по мужу, и получила резкий ответ: «Да нисколько. Думаешь, он для меня что-нибудь значит? Я о нем и не спрашиваю. Он может приходить и уходить, как ему заблагорассудится»415415
Ibid. Р. 230.
[Закрыть]. Вскоре после этого она стала читать исполненные чувств стихи, в которых говорилось о печали и разочаровании:
Означает ли это, что Мабрука лгала своей семье и Лиле Абу-Луход, или обманывала их, а в стихах сказала правду о своих чувствах? Вовсе нет, утверждала антрополог. Такая циничная интерпретация была бы равнозначна концепции Ирвинга Гоффмана, согласно которой люди в общении друг с другом, на публичной сцене, носят маски и только за кулисами, в приватной сфере могут показать свои истинные лица, свое подлинное «Я»417417
Goffman E. Presentation of Self in Everyday. Метафора, используемая Гоффманом, явно базируется на Марксовой концепции отчуждения.
[Закрыть]. Необходимо, считала Лила Абу-Луход, отбросить западную химеру «подлинного „Я“» и признать равную степень аутентичности за обоими дискурсами (здесь Абу-Луход ссылалась на Фуко) – женским публичным и женским сокровенным, выраженным в стихах, произнесенных за закрытыми дверями418418
Abu-Lughod L. Veiled Sentiments. Р. 237–238.
[Закрыть]. В свете этого, она отвергла бы и приведенное выше утверждение, что эмоционально окрашенные словесные высказывания обычно вызывали у бедуинов подозрение в неаутентичности.
Абу-Луход признавала, что поэзия ghinnāwas формально-эстетически особенно подходит для артикуляции чувств, которые не могут быть вербально выражены в рамках кодекса hasham: эти стихи сочетают в себе формализацию и импровизацию, что создает многозначность и пространство для выражения эмоций. Всегда можно спрятаться за поэтической формой и утверждать, что пришлось втискиваться в прокрустово ложе жанра, просто поддерживая традицию. Ведь ghinnāwas – это древняя художественная форма, она в коллективной памяти авлад’али ассоциируется cо славными временами, которые были до того, как египетское государство начало протягивать щупальца в Западную пустыню и осуществлять там догоняющую модернизацию419419
Abu-Lughod L. Veiled Sentiments. Р. 239–240, 251–252, 256–257.
[Закрыть].
Апогей социального конструктивизма
Когда говорят о социально-конструктивистской антропологии эмоций, наряду с именем Лилы Абу-Луход, а чаще даже до него, упоминается имя Кэтрин А. Латц (*1952)420420
Абу-Луход и Латц выпустили вместе книгу: Lutz C. A., Abu-Lughod L. (Ed.) Language and the Politics of Emotion. Cambridge, 1990.
[Закрыть]. В 1977 году Латц отправилась проводить полевые исследования на атолл Ифалик в юго-западной части Тихого океана. Атолл этот, состоящий из двух островов, общая площадь которых всего 1,3 кв. км, был «открыт» британцами в 1797 году и до конца Второй мировой войны принадлежал Японии. В 1945 году он был превращен в «территорию под стратегической опекой» США. В то время, когда там проводила свои исследования Латц, 430 жителей Ифалика обитали в общих хижинах с соломенными крышами, в среднем по 13 человек в каждой421421
Lutz C. A. Unnatural Emotions. Р. 3, 22, 26, 29, 39, 151.
[Закрыть]. Как и другие рассмотренные нами книги по этнологии эмоций, монография Латц отличается высоким уровнем саморефлексии и не скрывает зависимости взгляда автора от собственной культурной принадлежности: Латц ставит читателя в известность, что она искала такую культуру, где чувства не ассоциировались бы автоматически с женственностью. Подобная ассоциация представляла собой западный стереотип, с которым исследовательница неоднократно сталкивались в 1970‐х годах, несмотря на то что в американских университетах появлялось все больше женщин на профессорских и руководящих должностях. В то же время Латц подчеркивала, что от практиковавшейся на Ифалике матрилокальной системы, при которой семьи живут в доме родителей жены или в непосредственной близости от него, она ожидала большего гендерного равенства и, соответственно, меньшей гендерной специфичности эмоций. Кроме того, она не скрывала, что ее романтическое представление о южной части Тихого океана как о месте, где существует «лучшее», более мирное общество, сформировалось под влиянием Поля Гогена422422
Ibid. Р. 14–17.
[Закрыть].
В книге Кэтрин Латц содержится манифест социально-конструктивистского подхода, более яркий, чем все, что было до и после нее. Вот ее первые фразы:
На первый взгляд может показаться, что нет ничего более природного и, следовательно, менее культурного, чем эмоции; ничего более приватного и, следовательно, менее открытого для взора социума; ничего более зачаточного и менее совместимого с логосом общественных наук. Однако подобные представления можно рассматривать как элементы культурного дискурса, чьи традиционные предположения о человеческой природе и чьи дуализмы – тела и сознания, публичного и приватного, сущности и внешности, иррациональности и мысли – конституируют то, что мы принимаем за самоочевидную природу эмоций.
Соответственно, одной из целей Латц было
Но помимо этого, Латц стремилась добиться еще и того, чтобы в западных культурах больше внимания уделялось эмоциям и женщинам:
Такие слова, как «зависть», «любовь» и «страх», использует всякий, кто заговорит о «Я», о приватной сфере, о том, что наполнено ярким смыслом, или о невыразимом; они используются и для того, чтобы говорить об обесцененных аспектах этого мира – об иррациональном, о неконтролируемом, об уязвимом и о женском424424
Lutz C. A. Unnatural Emotions. Р. 3–4.
[Закрыть].
В конечном счете целью Латц было «рассмотреть эмоции как идеологическую практику, а не как вещи, которые надо обнаружить, или как сущность, которую надо вычленить»425425
Ibid. Р. 4.
[Закрыть].
Деконструкция и деэссенциализация, по мнению Латц, позволяют увидеть в неискаженной форме местные эмоциональные конструкции. У жителей атолла Ифалик, по ее словам, они были скорее интерсубъективными (а не индивидуальными, как на Западе); скорее внешними (а не внутрителесными, порой с соматическими симптомами); и они демонстрировали социальный статус человека, а не его внутренние состояния. Латц выдвинула тезис:
Это фокусирование внимания на переводе отличает ее проект от герменевтического подхода Клиффорда Гирца, который, как писала Латц, в конечном счете все же задавался вопросом «что они чувствуют?»427427
Ibid. Р. 8.
[Закрыть]. Однако «перевод» она понимала не семантически и не референциально, а прагматически и перформативно: ей важно было не сравнивать друг с другом значения слов, обозначающих чувства, а изучать встроенные в человеческую деятельность знаки эмоций, причем как вербальные, так и невербальные (жесты, мимика, телодвижения и т. д.).
Возьмем пример: если рассматривать перевод с точки зрения референций и семантики, то ифаликское слово song означает что-то вроде «оправданного гнева». Но что это говорит нам о людях атолла Ифалик? Почти ничего, потому что практика song не предполагает, например, выхода эмоции наружу, потери контроля, вспышки гнева, – того, что имплицитно заложено в западном понятии «гнев». На Ифалике, где все жили лицом к лицу и обходились без письменного закона, song представлял собой всеобъемлющий культурный регулятив. Тот, кто объявлял, что чувствует song, указывал тем самым и на нарушение моральных норм, допущенное соплеменником, и на свое собственное социальное положение, так как доступ к ресурсам, необходимым для объявления song, был ограниченным и асимметричным: более могущественные члены общества чаще демонстрировали такой гнев, нежели менее могущественные. Но общество Ифалика было кооперативным, поэтому целью являлось не повышение собственного социального статуса и не борьба за распределением социальных ресурсов: вожди, которые выказывали song, по словам Латц, заботились скорее о благе коллектива: они по принципу «части в роли целого» выражали волю всех. В пользу такой интерпретации говорит тот факт, что вожди, как считалось, в максимальной степени обладали и той эмоцией, которая на Ифалике ценилась выше всех: fago – это смесь сочувствия, любви и меланхолии. Короче говоря, вождю подобало быть таким же, как все истинные представители племени, и лишь в несколько большей мере обладать эмоциями, прежде всего fago и только потом song, – когда кто-то другой нарушал табу428428
Более слабые жители Ифалика, когда хотели наказать человека за нарушение границы, говорили о песне вождя, а не о посягательстве на табу; Lutz C. A. Unnatural Emotions. Р. 169, 158. О песне вообще см. Lutz C. A. Unnatural Emotions. Сh. 6.
[Закрыть].
Находясь на атолле Ифалик, Латц то и дело обнаруживала, что концепции чувств, существовавшие в ее собственной культуре, не универсальны: это проявлялось при встрече с Другим. Как-то раз одна островитянка спросила ее, видала ли она когда-нибудь человека без пальцев ног. Латц рассказала ей о бездомном, которого она видела в Нью-Йорке: у него не было не только пальцев, но и вообще ног, он передвигался на доске с колесиками. «Я бы пожалела (fago) его, если б я его увидела», – сказала женщина; она была в недоумении, даже в ужасе. А другие спросили, где же семья того человека и почему она не заботится о нем429429
Lutz C. A. Unnatural Emotions. Р. 120, 134.
[Закрыть]. Примерно так же реагировали жители Ифалика и на голливудские фильмы, которые иногда привозили на атолл американские морские пехотинцы: одна женщина рассказывала, что отворачивалась во время сцен насилия, «потому что очень уж жалко (fago) тех, кого убивают»430430
Ibid. Р. 136.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































