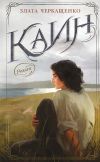Текст книги "Утраченное чудо"
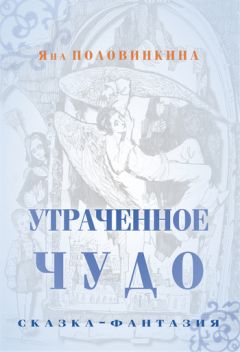
Автор книги: Яна Половинкина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
* * *
– Ему обязательно нужно страдать ерундой, – как-то раз сказала Лёля одной своей коллеге, – нормальные мальчишки разбивают стекла футбольными мячами, бегают, прыгают, визжат, а он?
– Он или молчит или что-то выдумывает.
– Может, на самом деле он – птица, как попугай. Чего вы от него хотите?
– Ага! Только, наоборот, попугай подражает речи, а он молчит и притворяется, что думает.
– Какова бы ни было его матушка, хоть бы и актриса Сапфир, я ее не виню. Я бы тоже испугалась появления на свет такого отпрыска! – не замечая присутствия Каина, тарахтела Лёля.

На следующий день Каина искали по всей больнице. Когда нашли, измученные нервы доктора не выдержали. Он решил, во что бы то ни стало загладить общую вину. Ребенком никто не занимался. «Будем учиться читать! Это неплохо для самого Леветиуса и в целях эксперимента».
Доктор разыскал Букварь.
– Придумано здорово! – обрадовался Каин, когда ему доктор принес раритетную книгу 1950 года выпуска.
Каин стал внимательно слушать все, что рассказывал ему доктор, в буквальном смысле не сводя с него глаз. Даже тогда, когда, взлетая, он изображал лишь видимость усердия, он смотрел на своего учителя таким взглядом, что тот нисколько не сомневался – его усилия дадут плоды.
– Смотри… Читай…
Взгляд Каина лишь скользил по учебнику, потом устремлялся вдаль.
* * *
– Попытайся хоть раз в жизни правильно назвать букву! Не торопись, подумай!
Каин ненадолго опускал глаза в пеструю страницу, испещренную рисунками и буквами.
– Должно быть это «Л».
– Это «А». Можно было давно запомнить.
– Ну да, какая-то из них имеет черточку поперек.
В голосе мальчика звучало отчаяние…
* * *
Сделав несколько мучительных для обоих попыток, доктор со временем убедился, что это никчемная трата времени. Каин запоминал буквы, их внешний вид. Только вот они ассоциировались у него чем-то абсолютно бредовым. Букву «Д», он без зазрения совести называл «Б», так как ее вид напоминал ему башенку из кубиков.
Когда же доктор предложил ему написать свое имя, мальчик почти справился с заданием.
Но неожиданно мальчик скомкал листок бумаги.
– Нет, не могу, слишком сложно.
– Четыре буквы – это сложно?
– Какие четыре буквы? Ах… А я думал нужно написать другое. Меня же называют Левитиус… Доктор, куда вы? Доктор забрал букварь и ушел.
* * *
– Представляете, капитан, этот несчастный птенец, по-видимому, совершенно ни на что не годен!
Капитан усмехнулся:
– По правде сказать, я это предполагал. Как вы думаете, он сильно отстает в развитии?
– Не знаю, кто его сверстники? С обычными детьми вряд ли можно сравнивать. Он просто другой. На мой взгляд, дело в совершенно никчемной манере рассуждать. Однако по-своему я горд: человек остался венцом творения!
– Я в этом никогда не сомневался! Куда им пернатым – до НАС!
– Да он, как слепой котенок, тычется везде! Пернатым не назовешь!
– Не летун, стало быть?
– Не ходок и не летун. Ни то, ни другое… Вслепую, капитан, не летают и не бегают по коридорам. Он не видит толком или видит как-то по-своему: через решето. Беспомощный монстр! Никчемыш!
– А в городе его боятся. Он порождает страх.
– Жалеть нужно, а не бояться.
– В том-то и дело. Не жалость он вызывает, а страх, – удивился капитан, сделав открытие, – панику!
* * *
Вы когда-нибудь ощущали пустоту? Чувствую себя выпотрошенной куриной тушкой? Хотя многое стало понятней. Теперь я ничего не буду спрашивать. Я знаю только одно: скоро над землей появятся звезды, мелкие как сахарная пудра, или крупные как миндаль.
* * *
Неоновые вывески горели слабо: то и дело гасли. От этого света весь подоконник был тускло оранжевый. За окном непонятно было, где кончается больница и начинается город, увитый лентами транспарантов, пронзенный стрелами проводов. Крыши были похожи на спины чудовищ. Межсезонье оставило в городе свой мучительный след на веки вечные.
Где-то внизу промелькнул силуэт девушки в клетчатой рубашке не по сезону. Она подошла к плакату с изображением улыбающегося красавца с автоматом. Сегодня ее явно кто-то ждал.
Всего бетона, железа и неона, который только был в этом городе, не хватило бы, чтобы спрятать под землей одну женщину, как бы она того не желала. Она – поверженный воин, раненный в спину. И теперь она больше не смотрит на небо, она смотрит вглубь.
Потом пошел снег.

Девушка в клетчатой рубашке брела по пустынной улице. Снег засыпал черные безмолвные танки на площади перед собором. Фигуры солдат в брезентовых плащах напоминали камни. В уставшем мозгу молодой медсестры проносились бесчисленные ночные смены, перемежавшиеся с лицами ее домашних. Но что делать с одним единственным воспоминанием? Это воспоминание о крылатом мальчике. Оно выпадало из общего для будней и праздников круговорота мыслей. Неужели есть что-то, к чему нельзя привыкнуть?
«Нелегко будет в дальнейшем летать, пережив в таком возрасте воспаление легких. Да и мне, – со страхом думала девушка, – чего стоит подхватить пневмонию. И, как на зло, забыла пальто».
– Дальше нельзя! – крикнул ей один из солдат, и его голос увяз в сыром остывшем воздухе. Потом, разглядев в темноте ее лицо, он разочарованно хмыкнул.
– А это ты? На свидание, значит. Так твоего дружка тут нет. Он на допросе. Иди лучше, погрейся у костра, а то совсем замерзнешь…
По темному стволу танка пробегали алые сполохи. Девушка обошла машину и увидела черные силуэты, похожие на воронов. Оранжевый свет пропитал кусок мостовой между двумя танками. Летящий по воздуху снег стал золотым песком. Тот же свет лежал на лицах святых и мордах чудовищ, украшавших главный портал.
То ли от одиночества, то ли просто, изголодавшись по незнакомой компании, солдаты позвали ее к огню. И медсестра села среди них.
В костре догорал, возможно, последний в городе номер журнала «Наука и жизнь». Один из солдат ткнул в золу штыком и скормил огню старую-старую картинку. Очень быстро лицо златокудрой мадонны из «Юного художника» почернело и исчезло.
Бойцы смотрели на гостью с любопытством, кое-кто дал ей даже хлебнуть горячего питья из фляжки. Постепенно завязался разговор: говорили про обветшавший храм, западная галерея которого была полуразрушена после уличных боев, про задержки с поставкой хлеба, про новые и старые запреты, про предков, ковавших оружие в тюрьмах и кузницах минувшего века для будущих бессчетных войн.
– Долой доктрины, стоившие стольких жизней! Долой фарфоровых мадонн и восковых святых! Все это сахар… – говорил один из солдат, почесывая подбородок, заросший щетиной, – а жизнь не подсластишь. Зато на сладкое люди готовы лететь куда угодно и за кем угодно, как мухи.
– Скорее осы – рассмеялся кто-то, – мухи безобидны…
– Вот ты, девушка, вижу, что лицо у тебя умное, – обратился к медсестре, сидящий рядом парень, – этот собор строили много лет, может и не одно поколение, не помню в каких веках. И ведь им, этим строителям не лучше, чем нам сейчас жилось. А они строили эту громаду. Ну да, кто-то скажет красиво, а я скажу, что чудовище над городом выросло. И это когда дети их голодали! Они думали, что вечность творят на земле, а тут… фура динамита…

Девушке казалось, что ее голова вот-вот расколется от жара костра, холода ветра и проносящихся в памяти ночных смен. Она смутно сообразила, что сейчас разговор повернется в ту сторону, куда обращались в последнее время все разговоры в городе. А обращались они в сторону больницы, где поселилось маленькое чудовище. Но почему так? Из-за чего эти двое солдат, наткнувшиеся случайно в переулке на эту еле живую получеловеческую – полуптичью тушку, теперь под подозрением, и каждого допрашивают отдельно? По чьей вине она не может вот уже очень давно встретиться с тем, кого даже соседи дразнили женихом? Он бы, может быть, и порадовался гостю, упавшему с небес или сошедшему с вековых стен собора. Но только не она. Ее жизнь, вообщем, не очень богатая, полная упреков и страхов, прежде была гладкой, и это главное.
– И зачем появилось это существо, – думала она, – Зачем сейчас? Напомнить, что они, значит, хорошие, а мы…
– Нет, ты признайся, тебе хотелось бы его увидеть – заявил небритый одному из своих товарищей, – Каждому хотелось бы верить, все-таки мечта есть мечта, древняя, сокровенная, вроде тайны. Неизвестно даже, могут ли годы воспитательной работы вытравить ее.
Тот товарищ показал рукой в сторону собора.
Нет, не хочу даже находиться рядом с этой тварью! Если только быть камнем, как те святые, стоять там и смотреть на вас сверху вниз!
– Так ты что же в них веришь? – спросил небритый, кинув взгляд на собор.
– Отстань, вечно ты заведешь какую-нибудь тему, а потом красней. Тоже мне, распускаешь слухи: птенец из яйца вылупился, птенец с неба упал! А вот маменьку его я не виню, упокой, Господи, ее душу!
* * *
– Товарищ командир, я же вам все уже рассказал! Это я первый его увидел. Нитвиш и я… мы просто отстали от остальных. Заночевать решили у разрушенной баррикады, и тут… он появился. На нем были какие-то лохмотья, по-моему, просто старые тряпки, обмотанные вокруг тела. Мы развели в воде порошок сухого молока, нагрели это в металлической кружке, покрошили туда хлеб и дали ему. После этого он уснул. Хм. Нитвиш назвал его беспризорником, говорил, что пережив такое странническое детство, он скорее всего умрет…Редкий случай. Нитвиш оказался неправ!
– Все это очень мило, рядовой Мильц, но как бы нам того не хотелось, а главного ответа пока никто нам не дал и вы нам не дали. Откуда он появился?
Молодой человек рассеянно огляделся. Боец по привычке потянулся к лямке, на которой висело ружье, но сейчас ни ружья, ни лямки не было:
– А вам не все равно?
Ненадолго капитан полиции замолчал. Затем весьма благодушно, словно забыв о прозвучавшей дерзости, он сказал:
– Одевай свою форму и следуй за мной.
– Разрешите обратиться, – тихо произнес солдат, – зачем сегодня форма?
Капитан остановился посреди квадрата камеры, стены которой напоминали стены колодца.
– Вы знаете, что такое очная ставка? – с издевкой произнес капитан. – Увидишь ты своего беспризорника. Спросишь, откуда он.
Мильц был потрясен так, словно увидел засаду там, где ее в помине быть не могло. Наконец, справившись с собой, он сказал:
– Знаете, я увидел то, что не мечтали увидеть даже те, кто строили собор. Теперь все увидят, что его строили не зря. Не сказки им рассказывали проповедники. А мы взяли, да отреклись от святого. Теперь мне просто страшно.
– Значит, боишься, – сказал капитан, спрятав руки в карман пальто, и уточнил, – Не жалеешь беспризорника, а боишься как чудовища? Так?
– Мне просто страшно! – повторил Мильц. – Разве можно объяснить страх?
– Если это страх, – продолжал капитан, – то должно быть очень старый и неискоренимый. Ну конечно, раз капище разрушено, то место, где оно было обходят стороной. А ведь это любопытно, это очень интересная мысль, рядовой Мильц.
Мильц ничего не ответил. Он слышал, как сухо щелкнул замок и как в соседней комнате, где жил его товарищ, пробили часы. У них единственных в казарме были «отдельные жилые аппортаменты». Рядовой Мильц ждал утра, как ждут его приговоренные к смертной казни. Сейчас он не думал ни о своем старом доме в окрестностях столицы, ни о своих стихах, ни даже о той, кому их посвящал. Он превратился в совершенно другого человека. Мильц помнил, как на чистой, как заснеженная площадь постели в соседней комнате, лежали аккуратно сложенные больничные вещи и армейская куртка Нитвиша. Неужели с ним все уже случилось! Значит и он, этот вечный зануда, высмеивавший всех и вся, счел за благо не вмешиваться, ничего не выведывать о том, что человеку не следует знать, не трогать до поры до времени ни о чем не подозревающего ребенка.
Рядовой Мильц тихо произнес:
– Вот и хорошо. Значит я – не один такой.
* * *
«Ее следов будет не найти, – думал мальчик, – И как я узнаю ее, будет ли она похожа на меня? Но так уж повелось, никто не знает, как из ничего появляются плоть и кости, и почему руки всего две и на каждой из них всего пять пальцев. Те, кто говорят, что знают – лгут. Неизвестно, кто или что может появиться на свет. Интересно, стоит ей говорить, что я могу повисать под потолком? Может, не стоит?»
Где-то в отдалении послышались женские шаги.
«Я совершенно не помню ее лицо, цвет волос, имя… Нет, имя у нее было… Мама…»
Каблуки умолкли, не отсчитав до конца длину коридора.
– Кто здесь? – в тусклом свете, падающем из окна, была едва различима фигура обомлевшей Лёли. Каин понял, что разговаривал сам с собой вслух.
Лёля развернулась и быстро пошла назад по коридору, и цокот ее каблуков несся за ней, как гирлянда из консервных банок, привязанная к хвосту затравленной кошки.
Когда она остановилась, в дверь кабинета доктора ударила барабанная дробь костяшек.
– Войдите!
И Лёля влетела в кабинет.
– Доктор, оно разумное, оно человек!
– Оно?! – передразнил ее насмешливый голос капитана, – О чем вы?
– О Леви… О Каине в общем. Он, он знает, что у него есть Мать!
– Ну и что? – сердито произнес доктор, – Вы думаете, один только Homo sapiens проявляет заботу о потомстве? Без этого же просто не выжить!
Лёля поняла, что капитан и доктор смотрят на нее глазами василисков, что они сейчас приговорили ее, вернее причислили к безнадежно больным, которым уже не дожить до исцеления… – к сумасшедшим.
– Позвольте, доктор, – заметил капитан, – но его же бросили. Он, по-видимому, долго скитался по городу, пока мои парни его не нашли.
– Такое тоже бывает в природе, – сухо сказал доктор.
* * *
Это была не первая ночь, проведенная вот так на подоконнике. Такое случалось с ним в последнее время все чаще. Как и всякий маленький ребенок, Каин мог уснуть где угодно, в любом уголке пустеющей по вечерам больницы. Утром он просыпался от нарастающего гула нижних этажей больницы, который полз вверх по лестницам и обветшавшим трубам. Но, если кому-то из больных доводилось встать в такую рань, когда ничего кроме собственных шагов ничего не слышно, и Каин еще спал, то обитатель больницы шарахался от спящего мальчика, так словно наткнувшись на чудовище.
Всю ночь за желтым прямоугольником стекла, вставленным в дверь, шел разговор на сложные философские темы.
– Вы достаточно наблюдали за Левитиусом. Он несмышленыш, и это для меня очень неплохая новость, утешительная можно сказать.
– Почему? – с недоверием спросил доктор.
– Помните, я говорил, что для божьей твари шесть конечностей – это много. А для наглядной агитации – самое то! Это так мудро, не правда ли, доктор, взять и до поры до времени позабыть про ваш скальпель! Ведь ясно: всю эту дурь, с начала времен въевшуюся людям в головы не вытравить за одну жизнь. Но почему бы не сыграть на этом: вот оно ваше чудо, колченогое, не способное что-либо разумное сказать. И стоит ли теперь писать о других мирах красивые сказки, ломать само устройство вселенной теперь, когда все складывается на редкость удачно. Ради чего? Пусть сначала посмотрят на эту тварь, похожую на статуи собора. Ну как, помогли они его создателям, которые верили в них слепо? Уберегли собор? И только так мягко без нажима убеждая людей, мы сможем отвратить новые потрясения. Нет, птенец определенно еще пригодиться. Только бы выздоровел, но это уже ваша забота.
Доктор кивнул. Его собеседник был увлечен, и доктор рядом с ним чувствовал сырой давний страх. Что же это была за сила, заставлявшая людей век за веком возводить собор? Быть может, тоска по чему-то невозвратно утраченному в процессе эволюции, тоска, которая куда древнее всех революций и всех идей. Столько, сколько стоял собор, и его башни тянулись вверх, люди грезили о небе. Может ли быть, что за все пролитые слезы, за все муки и труды, одному единственному созданию было даровано то, о чем втайне тосковали все, кто когда-либо жил на земле… Благодаря собору они прикоснулись к тайне, которая не может быть объяснена до конца. И если так, кто поручится за неведомые и неслыханные доселе последствия? Но ведь приручают же медведей и львов, просто так ради потехи, а ведь у них ужасающая сила мышц, острые зубы и когти, и хищная, неутолимая страсть к охоте. А что есть у этого существа?
Что оно может им сделать, полуслепое и беспомощное, затерявшееся в пространстве и во времени? Это же ребенок, вернее он был ребенком, до того, как капитан полиции принял это решение. Теперь из года в год под присмотром доктора будет подрастать послушное маленькое чудовище.
* * *
– Вы отлично знаете, что я – не светило науки. Мне просто выпала честь открытия…
– Понимаю, – снисходительно откликнулся капитан, – и как видите, мы военные – не мясники, Я хотел бы лично в среду встретиться с мальчиком. Скажите ему обо мне что-нибудь хорошее, если не трудно.
И капитан ушел. Заперев дверь на ключ, доктор пошел по коридору, расчерченному блекло-оранжевыми полосами лунного света.
Он остановился рядом с тем подоконником, где спал, обняв колени, его маленький монстр. Доктор любил наблюдать за ним, когда он спит. Ночью, когда не было слышно ничьих шагов, и можно было услышать дыхание Левитиуса: то тихое и ровное, то сбивчивое с еле слышным стоном боли, скрытой где-то в глубине воспалившихся легких. Иногда он что-то произносил или улыбался во сне.

Доктор рассматривал лицо Каина, словно изучая составляющие его кости. Теперь, когда яркие, как мозаичная смальта, глаза были прикрыты веками, оно казалось перламутровым. У мальчика лицо было худое, острое из-за пережитой дистрофии. И нечто старинное, иконописное было в нем, как отклик византийского благородства.
Часть 2
Обитатель часовой башни
Как мне биться среди клеветы?
Все, что свято, одето в ложь.
Среди тех, что несут цветы
На поклон, я сжимаю нож.
В битве жизни краса и стать,
Живы истины в мире чар.
Среди тех, кто не может летать
Лишь один несет этот дар.
И в разгар колдовской ночи
Я молю, снова дать ему срок.
Среди тех, кто несёт мечи,
Лишь один он держит цветок.
Анна Штернбург Лето неизвестного года.
Глава 1
Платон

Где-то далеко звенела дождевая вода, капавшая с карнизов в трубы, и трубы становились флейтами. У него над головой ржаво, устало и бесконечно медленно покачивалась одна из шестеренок целого космоса деталей, навеки остановивших свою разумную тонкую работу.
Огромный подвес застыл в неподвижности между полом и небом; многие тонны немого дряхлого металла выступали из густой темноты, поселившейся под кровлей. Совсем как белые кости доисторических животных.
– Как не хочется вставать! Еще так рано. Ни один самый торопливый горожанин еще не сел в трамвай, искрящийся в огнях фонарей. Еще ни одна мать не кормила детей завтраком, о-о-о-ох!
Каин закрыл глаза, а потом снова открыл. Было слишком холодно, для того, чтобы снова уснуть. Поэтому он продолжал лежать с открытыми глазами, покрываясь гусиной кожей под тонким шерстяным пледом. На его худое лицо падал блеклый голубоватый свет.
Потом Каин встал и стал натягивать поверх сшитой специально для него больничной одежды с казенным номером халат, просторный, как тога. Этот халат он некогда сам сшил себе из старой простыни. Но этого оказалось недостаточно. Каин обмотал шею шарфом из серой колючей шерсти и начал пробираться к узенькому, словно бойница, окну.
Добравшись до подоконника, юноша с удовольствием уперся в него острыми локтями, затем осторожно убрал кусок надколотого стекла, служивший заменой ставни, и высунул из окна руку. Словно желая потрогать сегодняшний воздух, вонзить тонкопалую смуглую кисть в молочный туман облаков. «Нет, сейчас вовсе не так рано, надо поторопиться». На ладони остался запах дождя. «Но у меня есть еще немного времени», – успокаивал себя Каин, ощупывая драп своего старого безобразного пальто, которое было на несколько размеров больше, чем нужно.
Денег у него оставалось ровно столько, сколько нужно, чтобы купить на улице пирожок, и что ему делать дальше, не знал никто.
Не знал этого и всеобъемлющий старый часовой механизм башни, как не знал бы этого и неумелый школьник из начальных классов, если он вообще мог представить себе подобное затруднительное положение.
Ведь Каин был единственным обитателем часовой башни, ее единственной живой деталью. Нельзя сказать, чтобы он очень любил это место. Иногда попросту ненавидел. Несколько лет уже прошло, а он все не мог отделаться от ощущения, что проглочен каким-то гигантским чудовищем. Особенно по вечерам. Умершие часы все еще скрежещут ржавыми зубами и скрипят от сквозняков, расправляя в темноте бесчисленные суставы.
В детстве Каин с удовольствием карабкался по зубьям заржавевших огромных шестеренок, представляя, что перед ним отвесные скалы, не думая при этом, насколько его часы могут показаться кому-то интереснее каких-то скал. Но он никогда не решался забираться к самому сердцу главного циферблата, откуда берет свое начало железная стрела, беспощадно рассекающая время. Даже теперь, когда это сердце остановилось, от него веяло упрямой силой, движущей континенты.
Между тем Каин накинул на себя пальто, подошел к черному холодному кругу, испещренному серебристыми заклепками, и навалился на него. Круг ответил приглушенным, долгим скрипом и погрузился в стену. Мгновенно его силуэт очертила щель, похожая на молодой месяц.
Каин шагнул в этот просвет неба и затворил за собой дверь в город.
Юноша нервно прошелся по карнизу, как будто нащупывая что-то, а потом шагнул вниз. Слившись с восходящим потоком воздуха, он скользнул мимо главного циферблата, похожего на витражные розы готических соборов, и понесся над крышами и трубами города.
Воздух был сладким, немного с привкусом гари, но ничего. Еще продолжал идти мелкий накрапывающий дождь. На шелковых улицах люди закрывали бутоны зонтиков, бугристые спины немногочисленных трамваев замирали или же приходили в движение.
Он так быстро опустился в каком-то переулке, что чуть было не потерял равновесие. Иногда бывает такое: задумаешься и.
Через некоторое время Каин вышел из переулка и побрел вдоль трамвайных путей по широкой и оживленной правильной улице. Был конец зимы, конец того самого благодатного времени, когда жители северных широт чувствуют себя арабами и кутаются так, что порой в прозябшем мутном воздухе совершенно невозможно понять, кто идет рядом. Тем не менее, Каин не любил зиму, даже не потому, что он выглядел в этом непомерно широком и длинном для него пальто с леопардовыми пятнами просто безобразно, и не потому, что, пусть и покрытая тканью, круглая сутулая спина казалась со стороны верблюжьим горбом. Каин с детства переносил холод тяжело. Доктор всё время говорил, что у него очень тонкая кожа.
Вот и поворот на улицу Шестнадцати обезглавленных пути. Каин, любивший ради развлечения придумывать предметам, людям и улицам другие имена и названия, называл ее улицей Старушек. Нигде больше нельзя было встретить столько видавших виды дам, как живых, так и каменных. Старушка была в каждом окне, на каждом крыльце, под каждым балконом. Они вырастали из стен, кое-где толпились у самой крыши, и, кто знает, может быть, еще и пылились на антресолях. Женщины и кариатиды с лицами, покрытыми сеткой морщин, казались сестрами.
Что касается пути, украшавших парадные входы, нужно сказать, что крылья у всех них были тщательно отбиты. Не все младенцы в ночь, которую вовек не забыть, лишились голов, но у тех, кто не лишился, были черные раны на шеях.
Улица старушек изгибалась полукругом. Вот-вот откроется зубастая пасть старинной площади, окруженной домами с покатыми крышами, на которых бесчисленные трубы и флюгер стояли точно строй солдат, вставших по стойке «смирно». Запляшут, как цирковые животные, куртки, плащи и шубы. Каин слышал, как невинно чистыми голосами радиоприемники пели нехитрые песенки. Первыми из-за поворота показались юродивые бездельники, толпившиеся вокруг пестрых газетных герольдов. Они были совсем как отступники, покупающие прощение грехов из глянца и папиросной бумаги. Герольды с удивительным достоинством стояли на фоне плакатов с лицами их господ-богов неизменно далеких, в жизни не слыхавших ни о каком Иерусалиме, но зато обильно поивших эти улицы вином. О да, Каин знал, что это очередь к агитаторам, раздававшим буклеты и талоны на выпивку. Дальше за ней кипел настоящий калейдоскоп.
Здесь прямо на себе выносили весь свой гардероб, здесь торговали позолоченными часами, павлиньими перьями и гипсовыми мадоннами, а новости из газет, как боевые стяги, полыхали чуть ли не в каждой мальчишеской руке.
Неумолимо приближался полдень, а площадь не унималась. Пахло дождем, звериными шкурами и чем-то еще… Хлебом?! Скорее всего. Но его было мало.
Город чего-то ждал. Его жители готовились: продавали, обменивали, избавлялись от всего, что пряталось в шкафах и на чердаках. И главное, как можно скорее. Этот рынок рождался множество раз, он появился на том месте, где его не было в помине.
Каин путался в этой толпе. Засмотревшись на что-то ярко-оранжевое, он чуть было не столкнулся с торговцем, поднявшим руки подобно первосвященнику. Какая-то женщина прошла мимо с выражением презрения, но ничего не сказала. Все было бы замечательно, если бы не голод. Левая рука юноши, скрытая под пальто, сжимала на груди тонкий газетный сверток.
Внезапно кто-то стиснул свободную каинову руку и силой вытащил его из толпы торгашей, предлагавших старые журналы. Каин глухо охнул. Чтобы в этой толпе его кто-то за руку схватил – такого не бывало! Каин удивленно посмотрел на этого человека и с трудом узнал его. Старикашка взволнованно сопел, но все-таки с удовольствием оценил испуганный непонимающий взгляд.
– Так вот где тебя носит, змееныш! А ну, говори, что ты тут искал?!
Каин попытался высвободить руку, но старик, хоть и был ниже его, держал ее мертвой хваткой.
– Шалишь, – прошипел старик и сжал руку еще сильнее. От неожиданности и боли Каин выронил сверток, который прятал под пальто, что-то упало на землю со звонким деревянным звуком, заглушенным, правда, шорохом газеты. Старик побледнел; оторвав свой взгляд от земли, он увидел, что пятеро зевак наблюдают за ними. Он нагнулся с достоинством циркового артиста, схватил сверток и потащил Каина туда, где поток людей был гуще всего – к выходу с площади. Очутившись на улице Марата, они миновали первые четыре дома, а потом скрылись в первом же подъезде пятого.

– Господин Платон…
– Заткнись, – сухо оборвал его старик, поднимаясь по лестнице. На третьем этаже Платон вставил ключ в замочную скважину и толкнул юношу в коридор прихожей. Каин, сослепу натыкаясь в темноте на самые разные предметы, кое-как выбрался в гостиную, но, споткнувшись обо что-то, больно растянулся на трухлявом паркете.
– Куриные мозги, – пробормотал Платон, разворачивая поднятый на площади сверток. Пальто на Каине было измято. Из-под слоя тридцатилетней драповой ткани виднелись, как два клинка из обсидиана, распластанные крылья. Старик перешагнул через кончик острого махового пера и встал возле двери на балкон, чтобы лучше видеть. Шуршанье оглушило комнату. Через мгновенье старик завопил и отшвырнул от себя что-то с таким видом, будто это была ядовитая змея. Предмет покатился по полу, и Каин случайно смог ухватить его и спрятать среди складок одежды, так что Платон и не заметил, куда делся инструмент. Но он и не мог заметить, настолько глубоко был поражен.
– Это флейта… настоящая!
– Да это она, – тихо откликнулся Каин.
– Ты что, совсем ничего не соображаешь? – приглушив голос, проскрипел старик, – То, что твою куриную голову за это не погладят, еще куда не шло, но я старый человек, мне многого просто не пережить.
Платон был невысокий, гладко выбритый, с курчавой шевелюрой из седых волос и круглыми влажными серыми глазами.
– Господин Платон, но ведь о красотке Сапфир именно вы рассказывали…
На мгновенье Платон словно окаменел, а потом мягко, но холодно произнес:
– Как хочешь, конечно, мне нет дела до актрисок, тем более до тех, кто становятся мамашами таких, как ты. Да, я рискую, ведь господин О…, я хотел сказать, господин отец против. Но раз ты не хочешь знать… Это все. Больше ничего не последует.
Каин поднялся на ноги, не веря своему счастью, уткнулся рукой в подоконник и, мутным усталым взглядом посмотрев на Платона, произнес:
– Я очень хочу есть.
Старик даже вздрогнул от неожиданности и лишь через минуты три протянул:
– Ладно, не хватало мне еще твоей птичьей тушки на полу!
Нет, никогда еще звезды не были так благосклонны. Старый хрыч и одну-то пустячную просьбу мог исполнить раз в полгода.
Через некоторое время тощий мальчишка сидел на полу и, макая куски зачерствевшего хлеба в кастрюлю, доедал то, что осталось от вечерней готовки Платона.
– Смотри не подавись, – меланхолично предупредил старик, делая глоток из невесть откуда взявшейся фляжки, – Теперь будешь знать, как устраивать голодовки.
Каин оторвался от кастрюли, он вдруг почувствовал себя таким жалким, что захотелось плакать. А ведь в том, что он ранними влажными рассветами покидал башню часов, не было его вины. Винить нужно было только Платона и больше никого. Так же, как все стены этой комнаты, включая потолок, вместо обоев были закрыты наклеенными в несколько слоев газетами, журнальными вырезками и афишами, голова невзрачного старичка представляла собой хранилище городских сплетен и страшных тайн. Ничего удивительного, что в его умишке всякий раз, как он видел Каина, всплывало одно и то же газетное предание, извлеченное из груды номеров «Вестника» десятилетней давности. Каждое утро, согласно своим обязанностям, Платон поднимался по лестнице с лаковым подносом в руках, ставил его перед Каином и начинал осыпать бранью попеременно то свой радикулит, то белесую жидкость из миски, слащавую, как патока, расплескавшуюся по всему подносу, пока он поднимался. Кстати, с утра был еще стакан с абсолютно бесцветным чаем и хлеб. Обед и ужин бывали не всегда, но к чести Платона надо сказать, не то чтобы и очень редко. Но сплетни. Старик извлекал из своей памяти огромное количество подробностей, касавшихся загадочного исчезновения известной актрисы Цецилии Сапфир. А ведь стоило только сказать господину Ор…, то есть отцу, и Платон сразу бы умолк. Но не хотелось…
– Хорошо, что я оказался рядом, – с удовольствием произнес Платон и тут же спохватился, – А что ты там делал?
– Гулял, – сказал Каин, отодвигая от себя кастрюлю.
– Гулял, значит, среди торговцев… Я не подозревал до сегодняшнего дня, что у тебя есть деньги.
– Какие деньги?
– Мелочь, которая прозвенела у тебя в кармане, когда ты упал.
Каин вытащил из кармана все, что у него было, и безропотно протянул Платону. Тот криво усмехнулся.
– Похвальный жест. И все-таки, откуда?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?