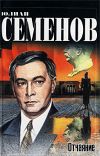Текст книги "Отчаяние. Бомба для председателя"

Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
12
Виктор Абакумов, министр государственной безопасности СССР, карьеру сделал головокружительную, как и все те, на кого поставили за год до начала Большого Террора аппаратчики Маленкова.
Казалось бы, его восхождение было случайным, вне логики и здравого смысла.
Однако же так могло показаться лишь тем, кто не знал Сталина, а его по-настоящему не знал никто.
Порою и сам Сталин во время тяжкой бессонницы поражался себе и тем словам, которые произносил днем: каждому находил свои, единственно нужные, спроецированные в Историю; иногда он ломал собеседника, порою подстраивался к нему, очаровывая; изредка готовился загодя, писал черновики, особенно когда встречался с писателями, зная, что это уйдет в Память – будущее Евангелие от Иосифа; с людьми академической науки встреч избегал, понимая свою неподготовленность, зато часто приглашал авиаконструкторов – практики, живут реальностью, а не таинством формул.
Он благодарил судьбу за то, что получил теологическое образование: ничто так не логично и бесстрашно, как школа трактовки слов и мыслей, заложенных в догматах церкви. Действительно, наука после поражения Святой инквизиции теснила религию по всем направлениям, опровергала святые изначалия, доказав вращение Земли вокруг Солнца, навязав человечеству электричество, выдвинув теорию тяготения, а затем – относительности, подняв человека на небо и научившись передавать голос на расстояние в тысячи километров. Надо было обойти все эти новшества, ранее караемые смертью фанатичными инквизиторами; необходимо было придумать объяснения случившемуся, сложить легенды о чудесном Прошлом; русские люди сказки любят, поменять бы только Иванушку-Дурочка на Ивана-Умницу, как можно было разрешить такое самоуничижение?! Надо уметь породить в пастве сомнения во всем новом, подчинив себе этих простолюдинов, а ведь их – тьма; мыслителей – единицы; примат массы очевиден…
Сталин не смел признаться себе в том, что главной задачей его жизни было умерщвление ленинской Памяти, подмена Значимостей и, наконец, создание Державы, послушной лишь его Мысли и Слову.
Он не смел признаться себе и в том, что относился к русскому народу с отстраненной, сострадательной жалостью, долей зависти и некоторым презрением.
Поддавшись в свое время блеску и напору Бухарина, утверждавшего, что принуждение на производстве и в селе малорезультативно, успеха в деле прогресса достигают лишь инициативные, сытые и свободные люди, Сталин, изучая статистические таблицы, приготовленные Молотовым и Кагановичем специально для него, видел, что справный «бухаринский» мужик и городской кооператор все более выходят из-под контроля отделов, секторов и управлений, делаясь независимой производящей силой. Пройдет пара лет, и они, кооператоры, нэпманы и мужики, реально ощутят свою общественную значимость, поскольку именно они подняли страну из голода и разрухи, а это гибельно для аппарата диктатуры; столь же гибельно и то, что рабочие, трудящиеся на концессионных предприятиях, на фабриках и в мастерских, построенных на принципах ленинской новой экономической политики, зарабатывали значительно больше, чем заводской пролетариат, подчиненный наркоматам; пошли разговоры – «власть не умеет править, обюрократилась, прав был Троцкий…».
Сталин поручил Мехлису и Товстухе, своему мозговому штабу, перелопатить Ленина, сосредоточившись на одном лишь вопросе – кадровом.
Выдернул одну фразу Старика из его письма Цюрупе: «Главное – подбор кадров», слова «все наши планы – говно» вычеркнул; он, Пророк, не позволит низвести Ульянова до уровня простого человека; и так Ленин слишком часто снисходил. Сейчас новое время, русскими следует править иначе, являя себя; это в их традиции; Петра многие до сих пор ненавидят, над Керенским потешаются – болтун, а дурака-Николашку втайне жалеют, ибо тот следовал принятому веками: являл себя; событие, новость, общение Помазанника с народом…
Итак, ленинская ссылка на кадры, на их главенствующую роль – необходима. Он, Сталин, не предлагает ничего нового, он руководствуется заветом великого Ленина, своего верного друга и соратника.
Лишь однажды он не смог проконтролировать себя и услышал в себе правду: если и дальше в стране останутся люди, которые помнят, его будущее окажется в постоянной опасности, ибо, обратившись к периоду с семнадцатого по двадцать четвертый год, к засекреченному Завещанию парализованного Ульянова, всегда может найтись псих, который вылезет на трибуну съезда или конференции: «Товарищи, как можно терпеть диктатора?! Куда мы идем?!»
Да, Молотов, Ворошилов и Каганович подобрали достаточно устойчивое большинство, преданное ему, «верному соратнику» Ленина, лишенному блистательного фразерства Троцкого, шатаний Каменева и Зиновьева, философского фейерверка Бухарина («не вполне диалектического»), прямолинейности Рыкова, крестьянских «штучек» Калинина (того припугнул еще в двадцать шестом, разрешив напечатать в «Крокодиле» злую карикатуру на Старосту: неравнодушен к прекрасному полу, причем подставляется, об этом говорят, такое в политике не прощают – или будь во всем со мною, или ЦКК вышвырнет из рядов, фактов у Куйбышева и Сольца хватает). Все это так, людей подобрали, но истина такова, что можно управлять лишь сотней преданных, хоть и разнохарактерных политиков. А тысячью? Она неподвластна ничьей воле, даже Ленин порою не мог совладать со съездами, – отсюда дискуссии, оппозиции, турниры эрудитов, которые могут выстреливать без заранее подготовленного текста, швыряться латынью, приводить немецкие и французские первоисточники; он, Сталин, не может этого, но он в отличие от всех них решился на то, чтобы признаться себе: русским народом можно и нужно, для его же блага, управлять круто, жестко и немногословно, искушая при этом пряником будущего. Чем жестче с этим народом, чем беспощаднее, тем покорнее он и счастливее: наконец-то появилась Рука, пришел Хозяин, наведет Порядок.
Но русский человек пойдет за ним только тогда, когда он назовет врагов, на которых лежит вина за лишения, заклеймит тех, кто сознательно мешал коммунистической, равной для всех, благодати. И этими виновниками должны быть не пешки, а руководители, всем известные люди, признанные вожди.
Изначальный дух традиционного общинного равенства удовлетворится этим, он примет и одобрит крушение тех, кому ранее поклонялись, и будет благодарен именно ему за это очищение от чужих.
Однако масса – массой, а умы – умами; прав Грибоедов – «горе от ума».
Значит, начав сверху, надо уничтожить всех, кто вступил в партию до семнадцатого года; Калинин испугался, теперь во всем со мной. Испугаем еще с десяток ветеранов; таким образом, пуповина, связывающая качественно новую волну молодых руководителей с памятью о Ленине, не будет перерезана: Лепешинские будут славить его, Сталина, истинного продолжателя дела Ленина, так же как это делал в тридцатом Зиновьев, а в тридцать шестом – Бухарин с Радеком…
Именно поэтому Ежов, поднаторевший в аппаратной работе – просидел восемь лет в замзавах орготделом, – должен загодя приготовить списки: как на тех, кого надо уничтожить, так и на ту молодежь (прав был Троцкий: «молодежь решает все»), которая займет места памятливых.
…В тридцать шестом году Виктор Абакумов был младшим оперативным уполномоченным Воронежского НКВД; его любили за веселый нрав, отзывчивость и умение работать за других; если кто из товарищей зашивался, он всегда был готов прийти на помощь, просиживал на работе воскресенья, спал по-наполеоновски – пять часов.
Когда на второй день после расстрела Каменева и Зиновьева из Москвы пришел список и первым в нем значились начальник областного управления, два его заместителя, секретарь обкома и председатель облисполкома, его, Абакумова, заранее обсмотренного уже людьми Ежова и Маленкова со всех сторон в течение полугода, вызвали к аппарату прямого провода.
Звонил не нарком Ягода, внезапно занедуживший, но лично секретарь ЦК Ежов:
– Даю вам неделю срока на то, чтобы вы добились признания от воронежских троцкистов… Фашисты пытают наших товарищей по классу, Троцкий – агент Гитлера, почему мы должны работать в белых перчатках? Око за око, зуб за зуб! Я надеюсь на вас, товарищ Абакумов… Если возникнут какие вопросы – звоните к Миронову, Берману или Слуцкому, люди с опытом, дадут совет…
Лишь в конце недели (арестованные продолжали запираться, несмотря на то что Абакумову передали из Москвы папки с изобличающими их показаниями, данными на следствии Валентином Ольбергом и бывшим зиновьевским помощником Рихардом Пикелем, ныне членом Союза писателей) он зашел в буфет, купил коньяка и коробку шоколадных конфет, поднялся в свой закуток, выпил из горла бутылку «Варцихе», напоенного запахом винограда, вызвал из камеры бывшего начальника управления НКВД – того, кто учил его навыкам работы («у чекиста должны быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце»), и, заперев дверь, начал молча и яростно бить его со всей своей богатырской силой; потом, окровавленного, полубессознательного, взяв под мышки, подтащил к столу и заставил подписать чистый бланк протокола допроса.
Заполнив его, вытащил из камеры секретаря обкома, ознакомил с «чистосердечными показаниями» начальника НКВД и предложил: «Либо десять лет по Особому совещанию, если напишете то, что я вам продиктую, либо расстреляем сейчас же – партии нужны свидетельства против врагов народа, вам, большевику, это известно не хуже, чем мне… Даю честное слово чекиста – если поможете разгрому троцкизма, через год станете парторгом строительства на Дальнем Востоке».
Сломал всех, дела отправил в Москву, оттуда пришло указание: «расстрелять признавшихся, арестовать тех, кого они помянули в показаниях, готовить новое дело, более охватное…»
Организовал и это: расстрелял еще четыре тысячи ветеранов партии, получил орден Красной Звезды.
После этого Ежов хотел сразу же забрать его в центральный аппарат; Маленков, отвечавший перед Сталиным за создание нового партийно-государственного механизма, Абакумова придержал, поставив его исполняющим обязанности руководителя Воронежского НКВД; лишь когда Берия был назначен первым заместителем Ежова, а того стали готовить к переводу на работу в Наркомвод России, чтобы расстрелять без шума, Абакумова вызвали в Москву.
Вот его-то Берия и двинул на пост министра, сохранив свою старую бакинскую гвардию, провинившуюся при вывозе трофеев из Германии (собрал их в ГУСИМЗ): Меркулова, братьев Кобуловых, Деканозова.
И когда его, Абакумова, неожиданно для него самого назначили главою государственной безопасности, после первых недель счастья и сладостной, пьянящей эйфории постепенно, по прошествии месяцев, он начал отдавать себе отчет в том, что он окружен людьми Лаврентия Павловича и каждый шаг его контролируется; практически – поднадзорен; любая инициатива докладывалась Берия в тот же час, как только он выдвигал ее…
И Абакумов стал перед выбором: либо начать работу – тайно, аккуратно, исподволь – против своего высокого покровителя, выдвинувшего его на этот ключевой пост, либо смириться со своим положением: послушная кукла, которой управляет невидимая рука могущественного сатрапа; можно постараться войти в блок с секретарем ЦК Кузнецовым, который после Маленкова все активнее входил в дела аппарата, обращаясь к делам тридцатых годов, постоянно требуя борьбы с рецидивами «ежовщины» – «законность прежде всего».
Абакумов взял из архива свои воронежские дела, увидел следы крови на бланках допросов (начальник НКВД уронил голову на протокол, испачкал бумагу, сволочь); сжег, но понял, что таких дел – тысячи, особенно когда он отвечал за допросы и депортацию на Колыму бывших пленных и узников гитлеровских лагерей; все не спрячешь, сказал он себе, наследил, дурак!
Нет, блок с Кузнецовым не получится: тот просидел всю ленинградскую блокаду, от дополнительных пайков отказывался, лез в окопы, чистюля…
Тем не менее исподволь, постепенно он начал выстраивать свою линию: попросился на прием к Вознесенскому, внес предложение о более активном использовании заключенных на стройках коммунизма, попросив при этом увеличить пайки отличившимся зэкам. Тот посоветовал перевести на вольное поселение как можно больше узников, если, конечно, эти люди не были фашистскими наймитами на оккупированных территориях, обещал помочь с увеличением паек, ничего из предложенного не отверг.
После этого Абакумов позвонил Кагановичу. Министр путей сообщения был более аккуратен в разговоре, обещал подумать, но в принципе идею одобрил, заметив:
– Генерал Куропаткин, командовавший русской армией в пятом году, верно говорил: «Дайте мне вторую ветку во Владивосток, и мы опрокинем японцев…» В тридцать третьем мы пытались было начать этот проект, но силенок не хватило, спасибо за предложение, вижу разумное зерно…
Абакумов тогда лишний раз подивился напористости и уверенности в себе этого еврея. Одного брата расстреляли, другой покончил с собой накануне ареста как изобличенный бухаринец, кулацкий прихвостень, а этот сохранил позиции; более того, люди ездят в Метрополитене имени Кагановича, а не Сталина, поди ж ты!
…Абакумов ждал, как прореагирует на его визиты благодетель – Лаврентий Павлович; тот, однако, не сказал ни слова, хотя наверняка знал обо всем. Но кожей, каждой клеточкой своего существа, каким-то особым чувством, непонятным ему самому, министр ощутил, что Берия изменился к нему, хотя внешне стал еще более приветливым и радушным.
Вот тогда Абакумов и решил разыграть козырную карту: когда Берия уехал в отпуск, министр вызвал двух своих – тех, кого ему удалось притащить с собой из Воронежа, и показал им письмо, подписанное неразборчиво (сам продиктовал шоферу, верил ему, как себе, тот работал с ним девять лет). В анонимке сообщалось, что трое молодых контриков, живущих на Можайском шоссе, по которому товарищ Сталин каждый день ездит на Ближнюю дачу, готовят теракт против великого вождя.
– Это что же такое, а?! – Абакумов играл ярость. – У вас под носом орудуют террористы, и мне об этом докладывают простые советские люди, а не вы – с генеральскими погонами, лечебным питанием, двусменками и кремлевкой! Чтобы через три дня у меня на столе лежало оформленное дело, ясно?!
Арестовали троих «троцкистов»: семнадцати, девятнадцати и двадцати одного года. Сломали их за двое суток, выбили у них показания еще на пятерых юношей, и тогда-то Абакумов, замирая от ужаса, позвонил Сталину, сказав, что он не посмел бы тревожить, если бы не чрезвычайное обстоятельство…
Сталин питал слабость к высоким и статным военным; Абакумов помнил эти слова, оброненные как-то Берия во время застолья. Поэтому, отправляясь на прием к генералиссимусу, он надел генеральский мундир, галифе и сапоги-бутылочки.
Ознакомившись с делом, Сталин пыхнул трубкой и, задумчиво посмотрев в окно, выходившее на кремлевскую площадь, усмехнулся:
– Не унимаются? Скажи на милость… Что ж, если остались волчата, надо искать волка. Сами они на такое дело б не пошли. Как считаете?
И тогда, похолодев, Абакумов спросил:
– Разрешите докладывать ход следствия, товарищ Сталин? К сожалению, Лаврентий Павлович в отпуску, мне бы не хотелось тревожить его…
Сталин поднял глаза на Абакумова, изучающе, как-то по-новому осмотрел его и, пожав плечами, ответил:
– Что это за манера перекладывать ответственность на других? Мне не нравится такая манера, товарищ Абакумов. Это не что иное, как перестраховка. Трусость и перестраховка, извините за прямолинейность. Вам ЦК поручил руководить госбезопасностью, вот и извольте выполнять свои обязанности, нужен совет – звоните. Я, как и всякий член ЦК, готов обсудить с вами любой вопрос… За это меня, кстати, до сих пор и держат в этом кабинете…
Сталин снова пролистал дело, задержался на показании самого молодого «террориста» о том, что он был намерен поступать в школу-студию Еврейского государственного театра, поставил галочку на полях и заметил:
– Вы, кстати, знаете, что режиссер этого театра Михоэлс – брат моего лечащего врача Вовси? Не надо травмировать Вовси… Прекрасный доктор… Но если Михоэлс, – Сталин оборвал себя, нахмурился. – Вы читали информацию о том, что в сорок четвертом, когда Михоэлс был в Штатах, от имени Еврейского антифашистского комитета собирая для нас деньги, он довольно часто отрывался от остальных членов делегации? То, видите ли, к Альберту Эйнштейну ездил, то еще куда-то… Странно это – обычно наши люди держатся друг за друга, этим и сильны.
…Когда Абакумов взялся за ручку двери, Сталин окликнул его:
– И вот еще что… У меня вчера была жена товарища Жданова. («Визит продолжался семь минут, – автоматически отметил Абакумов, – с семи тридцати до семи тридцати семи, генералиссимус торопился, хотел посмотреть новый фильм; Жданова одолевала его звонками девять дней».) Говорит, плохо ему, – продолжил Сталин, – постоянно жмет сердце, нужен отдых… Я успокоил ее: нервы, пройдет… А потом пожалел: всяко может быть – а что, если у любимца партии, героя Ленинграда, действительно плохо с сердцем? Я ему позвоню, пожалуй, скажу, чтоб завтра отдохнул, полежал на даче, а вы организуйте консилиум… Женщины, особенно жены, хорошие жены, – многозначительно добавил Сталин, не отрывая глаз от лица Абакумова (тот ощутил, как после этих слов генералиссимуса по ребрам начали струиться крупные капли пота, у него самого с женой нелады), – порою слишком уж паникуют по поводу здоровья мужей…
– Ясно, товарищ Сталин. Разрешите доложить заключение консилиума?
Сталин поморщился:
– Что вы из Сталина бога делаете? Или какого-то царского унтера Пришибеева? Во-первых, не стойте во фрунт, мы с вами члены одной партии, единомышленники, товарищи… А вы весь напряженный, словно аршин проглотили… Позвоните, конечно… Если найдется окно – приму, а нет, так сообщите товарищам Молотову, Кагановичу… товарищу Вознесенскому непременно доложите, Кузнецову.
…За неделю до разговора с этим симпатичным ему русским красавцем Сталин просмотрел свой любимый фильм «Цирк» (эту картину и «Волгу-Волгу» он смотрел ежемесячно), сделал замечание Поскребышеву, чтобы наркомкино Большаков вырезал эпизод, где Михоэлс поет песню по-еврейски, передавая маленького негритосика грузину, и в добром расположении духа вернулся к себе. Берия, получив немедленную информацию от своего человека из охраны, позвонил Старцу и попросил уделить ему десять минут.
– А спать Сталину можно? – усмехнулся Старец. – Друзья бранят Сталина, товарищ Берия, за нарушение режима… Хотите, чтобы я поскорее уступил вам всем свое место? – Помолчал, слышимо раскуривая трубку, пыхнул и заключил: – Приезжай, батоно, жду.
Последние слова произнес тепло, мягко, как говорил с ним накануне расстрела Ежова, рассказывая со слезами на глазах; каких замечательных людей погубил этот душегуб и алкоголик. Глядя тогда на него, Берия испытывал ужас, ибо он-то уже знал одну из причин предстоящего устранения Ежова: Сталин был увлечен его женой – рыжеволосой, сероглазой Суламифью, но с вполне русским именем Женя. Она отвергла притязания Сталина бесстрашно и с достоинством, хотя Ежова не любила, домой приезжала поздно ночью, проводя все дни в редакции журнала, созданного еще Горьким; он ее к себе и пригласил.
Сталин повел себя с ней круче – в отместку Женя стала ежедневно встречаться с Валерием Чкаловым; он словно магнит притягивал окружающих; дружили они открыто, на людях появлялись вместе. Через неделю после того, как это дошло до Сталина, знаменитый летчик разбился при загадочных обстоятельствах.
Женя не дрогнула: проводила все время вместе с Исааком Бабелем; он тоже работал в редакции; арестовали Бабеля.
Сталин позвонил к ней и произнес лишь одно слово: «Ну?»
Женя бросила трубку. Вскоре был арестован Михаил Кольцов, наставник, затем шлепнули Ежова – тот был и так обречен, «носитель тайн»…
…Сталин улыбнулся Берия мягкой улыбкой, спросил по-грузински, как дела, что нового, как дома; Берия мгновение думал, на каком языке отвечать, Старец все более и более верил в то, что он русский, выразитель народного духа, вполне может быть, что идет очередная проверка, поэтому фразу построил хитро:
– Матлобт[3]3
Спасибо (груз.).
[Закрыть], товарищ Сталин, все хорошо…
– Ну, что стряслось?
– Вот, – Берия протянул папку, – здесь всего две странички, товарищ Сталин.
Тот отодвинул папку в сторону:
– Корреспонденцию можно было и с фельдъегерем прислать… Расскажи, в чем дело, а это, – он положил руку на папку, – я потом посмотрю…
– Хорошо, я готов, хотя мне очень больно рассказывать об этом…
– Тебе больно? – Сталин удивился. – Такой молодой, а больно… Это мне больно всех вас слушать… Наши споры – при Ленине – ничто в сравнении с вашей скорпионьей банкой… Откуда в вас такое макиавеллиевское интриганство?! Я же постоянно прошу: критикуйте, возражайте, деритесь за свое мнение… А вы? Кроме Вознесенского – тянете руки, как школьники… Ну, давай, что стряслось?
– В журнале «Вопросы философии» появилась статья, товарищ Сталин… Очень резкая… Не называя никого по имени, там, однако, мазали грязью тех атомщиков, без которых мы не получим штуки. А затем потребовали собрать совещание моих атомщиков, чтобы они покаялись и заклеймили космополитов… А у меня, к сожалению, их много, начиная с главы школы Иоффе и кончая Ландау… Словом, приехали товарищи из Агитпропа, объявили заседание открытым и предложили высказываться: по-моему, они подготовили двух младших научных сотрудников, но кому они нужны в нашем проекте, эти сопляки? Первым руку поднял Иоффе: «Прошу слова…» Поди не дай. Старик вышел и сказал буквально следующее: «Наша задача заключается в том, чтобы работать над проектом, с утра и до ночи, без отдыха и сна, речь идет об обороне Родины. Либо мои сотрудники будут заниматься своим делом, либо транжирить его на этих бессмысленных сборищах… Но тогда я попрошу наших уважаемых гостей-идеологов из Агитпропа ЦК отправиться сейчас же в лаборатории и приступить к работам по проекту…»
Сталин на мгновение замер, лицо собралось морщинами – больное лицо, – потом усмехнулся:
– Идиоты… Что, не на ком свои перья пробовать? Мало им физиологии и генетики?! Шмальгаузена им мало?! Кто давал задание опубликовать эту статью?
– Не знаю, товарищ Сталин… Но физики по сию пору бурлят…
Сталин снял трубку «вертушки», не посмотрев даже на часы: половина третьего ночи; гудки были долгими; Старец терпеливо ждал; дождался.
– Товарищ Жданов, – сухо сказал он, не поздоровавшись даже, – кто распорядился напечатать статью в «Вопросах философии» о космополитах в атомной физике? Я готов встретиться с вами часа в четыре, вас устроит это время?
И, не дожидаясь ответа, положил трубку.
Берия вышел от Старца так, словно летел по воздуху: вот оно, свершилось! Статью-то написал его человек, принес помощнику Жданова, тот читал, делал пометки; спокойной ночи, Андрей Александрович!
…А через три дня, сердечно попрощавшись с «дорогим Андреем Александровичем», Берия отправился в Сухуми – на отдых…
…Вернувшись от Сталина в министерство, Абакумов выпил стакан мадеры (присылали из Крыма, специальной очистки, почти совсем без сахара), дождался, пока внутри осело, снял френч, поменял совершенно мокрую от пота рубашку, переоделся в штатское и только после этого погрузился в тяжелое раздумье.
…Еще в первые месяцы работы в Москве, выполняя поручение Берия, он наладил наблюдение и подслух всех разговоров бывшего народного комиссара здравоохранения Семашко, одного из тех, кто начинал революционную борьбу вместе с Лениным.
Данные прослушки оказались любопытными: однажды Семашко сказал за чаем, что «гибель Холина, исчезнувшего в конце двадцатых, когда Ягода стал заправлять в ОГПУ, – серьезный удар по науке; гениальный врач, черт его дернул брякнуть о гибели Мишеньки, на каждую сотню честных приходится один платный мерзавец».
Поначалу Абакумова заинтересовали слова о «платных мерзавцах», но когда он затребовал дело на исчезнувшего доктора Холина, то оказалось, что тот ассистировал при операции Фрунзе.
Значит, Мишенька – это Фрунзе, понял тогда Абакумов, вот в чем дело!
Все знали, что преемником Фрунзе стал Ворошилов, – таким образом, армия сделалась сталинской. Через полгода после этого странно умер Дзержинский. Фактическим хозяином ОГПУ сделался Ягода. Первые распоряжения о слежке за Троцким, Каменевым, Зиновьевым, Преображенским, Смилгой и Иваном Смирновым подписал он, Генрих Григорьевич, не Менжинский…
Приказ войскам Московского гарнизона на обеспечение порядка при высылке в Алма-Ату Троцкого отдал Ворошилов…
Дело о смерти Надежды Аллилуевой, жены генералиссимуса, Абакумов затребовать не решился: прикосновение к высшим тайнам Кремля чревато.
Тем не менее о «Мишеньке» и Холине доложил Берия.
Маршал взял материалы на Семашко, несколько дней изучал их, потом отправился к Сталину.
Выслушав Берия, тот, не скрывая раздражения, спросил:
– А ты разве не знал об этой гнусной сплетне? В свое время японский шпион Вогау преуспел в раскрутке этой гнусности… Вогау – известно такое имя?
Берия знал, что врать Сталину нельзя: либо нужна заранее подготовленная двусмысленность – генсек это любил, либо правда.
– Нет, Иосиф Виссарионович, не известно.
– Псевдоним писателя Бориса Пильняка, – зло сказал Сталин. – Как не русский, так прячется за псевдоним… Один Эренбург удержался, молодец, ценю в людях достоинство… Ну а Семашко… Встретился бы с ним… Карпинский с Бончем молчат, конспираторы… Лепешинская – верна, я в ней убежден, тоже из нашей, истинно ленинской гвардии… Поговори с Семашко, по-дружески поговори: «Мы все знаем, шутить с огнем опасно, подумайте…» И пусть напишет статью о роли истинных ленинцев в Гражданской войне.
Через пять дней Семашко подписал панегирик в честь истинного организатора всех побед Красной Армии против беляков, об «иудушке Троцком», предателе и наймите фашистов; закончил, как и положено: «Сталин – вера, надежда и гордость народов всего мира».
Подслушка зарегистрировала (наблюдение с Семашко, конечно, не снимали): чай теперь пьет молча, все больше пишет, никого к себе не приглашает, успокоился…
После нескольких часов мучительных раздумий Абакумов с карандашом перечитал речь Жданова против Зощенко (обожал этого писателя, с дочкой раньше вслух читали, оба покатывались со смеху) и Ахматовой (эту и не знал вовсе; наблюдение за ней вели только потому, что была когда-то женой террориста и контрреволюционера Гумилева, бывшего сотрудника разведки царского генштаба; хорошо, кстати, работал в Африке, тоже что-то сочинял), попросил принести постановление ЦК по журналам, операм и фильмам, потом затребовал специнформацию у своих; те доложили, что якобы сын товарища Жданова сказал отцу в машине, когда ехали на дачу, будто борьба против космополитов, за патриотизм и приоритет русской науки и культуры начинает приобретать ярко выраженный антисемитский характер, отнюдь не антисионистский. Жданов якобы ничего на это не ответил, только пожал плечами. В другой раз, когда сын недвусмысленно высказался против гениальной теории великого ученого Лысенко, любимца товарища Сталина и всего советского народа, Жданов усмехнулся: «Смотри, он тебя скрестит с какой-нибудь морковью или яблоком – станешь фруктом, а фрукты – едят…» Была, оказывается, специнформация и о том, что якобы Жданов сказал одному из своих помощников: «Безродный космополитизм мы выкорчуем с корнем – это историческая задача, поставленная перед нами товарищем Сталиным, но давать пищу врагам о мифическом антисемитизме мы не должны, во всем надо соблюдать чувство меры».
И лишь после этого, уже вечером, постоянно вспоминая менявшееся выражение глаз Сталина, когда тот говорил о Жданове, министр снял трубку ВЧ и попросил соединить его с той дачей на Кавказе, где сейчас отдыхал товарищ Берия.
Маршал выслушал не перебивая, поблагодарил за звонок, поинтересовался, не просил ли товарищ Сталин обговорить этот вопрос с ним, Берия, и после короткого раздумья ответил:
– Как ты понимаешь, мне в этой ситуации давать тебе какие-либо советы нетактично. Тебе поручено – ты и исполняй. Сам знаешь, как всем нам дорого здоровье товарища Жданова… Я бы на твоем месте собрал два консилиума, пусть они, независимо друг от друга, выскажут свое мнение, знаешь ведь, как они цапаются, эти светила… А уж потом пригласи самых главных корифеев, познакомь их с заключениями первых двух консилиумов – с этим и иди к Хозяину… Заранее дай команду своим людям за кордон, пусть будут готовы немедленно купить все необходимые лекарства, сколько бы они ни стоили: Жданов есть Жданов…
На информацию о Михоэлсе и Вовси не обратил особого внимания – надо решать главное!
Сразу же после разговора с Абакумовым маршал позвонил Вознесенскому: «Может быть, я прерву отдых? Надо же быть рядом с Андреем Александровичем…»
Затем связался с Молотовым и Ворошиловым; те успокоили: «Иосиф Виссарионович считает, что это переутомление, все наладится, отдыхайте спокойно».
…Через два часа к Берия вылетел Комуров; Лаврентий Павлович попросил его срочно привести новые сообщения об атомных исследованиях в Штатах.
Говорили, однако, не об атомных проектах – о Жданове.
– Сталин вернет Маленкова в тот день, когда закопают любимчика, ясно? – Берия рубил, засунув руку в карманы пиджака. – Включай свою медицинскую агентуру, диагноз должен быть точным: «сердце может сдать, нужен отдых». Пусть уедет куда подальше, только б не остался на своей даче… Все дальнейшее – дело техники, не мне тебя учить… Запомни – это последний шанс вернуть Маленкова в Москву, тогда Вознесенский с Кузнецовым мне не так страшны. А я – это вы все!
…Вскоре директора и главного режиссера Еврейского театра Михоэлса пригласили в Минск.
Провокатор, подведенный к нему, – из старых добрых знакомцев – позвал на вечернюю прогулку. Шли по пустынной улице, был поздний вечер. Знакомец и подтолкнул Михоэлса под колеса полуторки, за рулем которой сидел друг Берия министр госбезопасности Белоруссии Цанава, подчиненный, естественно, Виктору Абакумову…
…В Москве великому артисту устроили торжественные похороны. Лицо загримировали, чтобы скрыть кровоподтеки: Цанава проехал по несчастному дважды, для страховки; на кладбище представители общественности говорили проникновенные речи.
…А Жданов умер на Валдае, в новой даче ЦК; Берия, рыдая, первым позвонил в Ташкент Маленкову: «Георгий Максимилианович, у нас горе, страшное горе!»
По прошествии нескольких недель, накануне заседания Политбюро, Сталин поставил кадровый вопрос. Берия отправился на дачу к Старцу:
– Товарищ Сталин, если вместо незабвенного Андрея Александровича, который так помогал атомному проекту, встанет кто-либо новый, работа может застопориться на месяцы: притирка она и есть притирка.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?