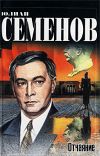Текст книги "Отчаяние. Бомба для председателя"

Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Какого числа Блюхер отправил вас в Хабаровск на связь к Постышеву?
– Это же было четверть века тому назад, точную дату я назвать не могу.
– А приблизительно?
– Приблизительно осенью двадцать второго…
– Осенью двадцать второго, – чеканно, поучающе, назидательно повторил Сергей Сергеевич и вдруг шлепнул ладонью по столу: – Ленин тогда провозгласил: «Владивосток далеко, а город это наш».
– Значит, это была осень двадцать первого.
– Перед отправкой в Хабаровск к белым Блюхер и Постышев инструктировали вас?
– Инструктировал меня Феликс Эдмундович…
Сергей Сергеевич закурил «беломорину», пустил дымок к потолку, заметил взгляд Исаева, которым тот провожал эту пепельно-лиловую струйку табачного дыма, и, глядя куда-то в надбровье подследственного, уточнил:
– Вы хотите сказать, что к Блюхеру и Постышеву вас отправлял лично Дзержинский?
– Да.
– Что он говорил вам?
– Обрисовал ситуацию во Владивостоке, попросил держать связь с ним через Постышева, тот, видимо, отправлял мои донесения Блюхеру, а от него они шли в Москву…
– Дзержинскому?
– Этого я не знаю.
– А в Реввоенсовет Блюхер не мог отправлять ваши донесения?
– Думаю, что в Реввоенсовет их отправлял Феликс Эдмундович…
– Троцкому? – спросил Сергей Сергеевич и еще крепче сжал ручку своими тонкими пальцами.
– Скорее всего Склянскому, заместителю предреввоенсовета страны Троцкого…
– Но вы допускаете мысль, что Дзержинский отправлял ваши донесения Троцкому?
– Вполне, – ответил Исаев.
Сергей Сергеевич как-то судорожно вздохнул, отложил ручку трясущимися пальцами и осведомился:
– Курите?
– Да.
Он достал папироску и протянул ее Исаеву.
– Пожалуйста.
– Спасибо.
– Продолжим работу, – сказал Сергей Сергеевич и снова вцепился в ручку. – Считаете ли вы возможным, что и Троцкий ставил перед вами оперативные задания, особенно накануне волочаевских событий?
– Считаю такое возможным, ведь в то время Троцкий возглавлял Красную Армию…
– Вы настаиваете на этом утверждении? – безучастно поинтересовался Сергей Сергеевич.
Исаев не понял:
– На каком именно?
Сергей Сергеевич зачитал ему текст:
– «Троцкий возглавлял Красную Армию»… Я правильно записал ответ? Искажений нет? Вы возражайте, если не согласны с моей записью… Вы правьте меня, это ваше конституционное право…
– Записано правильно.
– Скажите, а в тех инструкциях, которые вы получали из Центра, не было ли каких-то настораживающих вас моментов?
– То есть? – Исаев, внимательно следивший за каждой интонацией следователя, за каждым мускулом его плоского, совершенно бесстрастного лица, не понял смысла вопроса: как можно было сомневаться в указаниях Дзержинского?
– Фамилия Янсон вам говорит что-нибудь?
– Какого Янсона вы имеете в виду? Их было несколько: Николай, Яков…
– Я имею в виду того, который вместе с Блюхером вел переговоры с японцами в Дайрене, – уточнил Сергей Сергеевич.
– Лично с ним я не встречался, но фамилия эта мне известна.
– Я хочу познакомить вас с его показаниями, данными здесь, на следствии: «Лишь значительно позже, в конце тридцать третьего года, когда я активно включился в работу запасного троцкистского центра, Зиновьев сказал мне, что Троцкий переписал тезисы наркоминдела Чичерина, исправив их в том смысле, как это было угодно японским милитаристам. Тогда, в Дайрене, я отчетливо понимал, что наша позиция носит несколько странный, излишне бескомпромиссный характер, однако Блюхер держался этой линии неотступно. Зиновьев, когда мы встретились на даче в Ильинском летом тридцать третьего, совершенно определенно заявил, что Блюхер проводил политику Троцкого, чтобы спровоцировать выступление японцев и затем, после нашего неминуемого отступления, отдать им те территории, на которые они претендовали, в обмен на унизительный мирный договор». Что вы думаете по этому поводу?
– Я хочу ознакомиться с показаниями Янсона…
– Вы что, мне не верите? – Сергей Сергеевич обидчиво удивился. – В таком случае можете заявить отвод…
– Я не сказал, что я вам не верю. Я прошу разрешения ознакомиться с показаниями Янсона…
– Я вас с ними ознакомил.
– Это вздор. В Дайрене была занята правильная позиция. Советская делегация вела переговоры мастерски и мужественно – почитайте белогвардейскую прессу той поры, японские газеты…
– Итак, я формулирую ваш ответ: «Показания Янсона являются клеветническими»… Так?
– Что значит «я формулирую»? – Исаев не понял.
– Я формулирую ваш ответ для записи в протокол допроса. В протокол нелепо вводить слова типа «вздор», нас с вами не поймут… Вопросы и ответы должны быть конкретными, а не эмоциональными.
– Нет уж, давайте-ка я буду формулировать ответы сам, Сергей Сергеевич…
– У вас потом будет право прочитать документ и внести собственноручные изменения.
– Почему «потом»? Если право есть, оно должно существовать постоянно, а не «потом».
– Хотите писать ответы собственноручно?
– Да, предпочел бы.
– У вас есть какие-то претензии к методу и форме ведения допроса?
И Максим Максимович после паузы ответил:
– Нет.
Следователь быстро поднялся из-за стола, подошел к Исаеву, протянул ему свою ученическую ручку и, словно фокусник, растопырив пятерню, резко развернул бланк протокола допроса так, чтобы можно было писать подследственному:
– Пожалуйста, внесите в протокол этот ваш ответ собственноручно.
Русский Макгрегор, подумал Исаев, разбирая ученический почерк следователя, – парень продолжал писать по-школьному, с нажимом, буквочка от буквочки, а три ошибки все равно засадил, не знает, где и как ставить мягкий знак.
– У вас тут ошибки, – заметил Исаев. – Мне исправить или вы сами?
Сергей Сергеевич покраснел – по-девичьи, внезапно; потом, однако, лицо его сделалось пепельным, синюшно-бледным, он вернулся на свое место, медленно размял папиросу, закурил и, уткнувшись в протокол, начал изучать его: слово за словом, букву за буквой; ошибки свои не нашел или же намеренно не стал исправлять их.
Закончив чтение первого листа бланка допроса, он проверил, заперты ли дверцы стола, и сказал:
– С места не подниматься, к окну не подходить – все равно первый этаж, я скоро вернусь, продолжим работу.
Он вернулся через сорок два часа, когда Исаев свалился со стула.
– Простите, пожалуйста, – испуганно говорил Сергей Сергеевич, усаживая Исаева, – у меня с отцом случилась беда, увезли в больницу, я так растерялся, что никого здесь не успел предупредить. Извините меня, такая незадача, – он подбежал к двери, распахнул ее и крикнул в пустой коридор: – Юра, позвони, чтоб срочно принесли две чашки кофе и бутерброды!
– Разрешите мне вернуться в камеру, – попросил Исаев. – Я не в состоянии отвечать вам…
– А вы думаете, я прилег хоть на минуту? – следователь ответил устало, с каким-то безразличием в голосе. – У отца инфаркт, я все это время провел в приемном покое, тоже еле на ногах стою… У меня всего несколько вопросов, вы уж поднатужьтесь…
– Ну давайте тогда скорее…
– Всеволод Владимирович, может, я касаюсь самого больного, – следователь сейчас был мягок и чуточку растерян, конфузился даже, бедный мальчик, – скажите, кем по партийной принадлежности был ваш отец?
– Это же все есть в моем личном деле…
– Оно погибло, вот в чем вся беда, това… Всеволод Владимирович… Сгорело в сорок первом, когда наши архивы вывозили в Куйбышев… Поймите меня правильно, если б мы имели ваше личное дело, неужели вы б здесь сейчас сидели?
А может, действительно он говорит правду, подумал Исаев, ощутив в себе рождение затаенного тепла надежды. Тогда понятно все происходящее, доверяй, но проверяй, так вроде бы говорили…
– Мой отец был меньшевиком…
– А я не верил в это, – вздохнул Сергей Сергеевич и как-то даже обмяк. – В голове такое не укладывалось…
– Почему? Другие были времена… Отец в свое время дружил с Ильичом, несмотря на идейные разногласия.
– До революции?
– Да.
– В какие годы? Где встречались?
– Особенно часто в Париже, в одиннадцатом…
– А потом?
– Последний раз в Берне, когда обсуждался вопрос о выезде в Россию, это была весна семнадцатого…
– Вы присутствовали на этой встрече? Кто там был?
– Там было много народу, встреча была у нас дома: Мартов был, Аксельрод, кажется…
– Зиновьев, – подсказал следователь.
– Конечно, был и Зиновьев… А как же иначе? Он ведь первым с Ильичом уезжал, мы – только через месяц, с Мартовым…
Вошел надзиратель с подносом, на котором стояли стаканы с кофе и четыре бутерброда с колбасой и сыром…
– Угощайтесь, Всеволод Владимирович, – предложил следователь, старательно заполняя бланк допроса.
– Давайте поскорее закончим, – попросил Исаев, – тогда я съем бутерброды и вы меня отправите в камеру, не то я прямо тут усну…
– Мы практически закончили, ешьте…
Когда Исаев подписал бланк, следователь снова вышел из кабинета, сказав, что он позвонит в больницу узнать, как здоровье отца; вернулся на следующий день.
…В тот миг, когда голова Исаева сваливалась на грудь и он засыпал, сразу же появлялись два надзирателя:
– Спать будете в камере!
…Сергей Сергеевич появился уставший, с синяками под глазами:
– Чуть-чуть лучше старику, – сказал он. – Еще несколько вопросов, и пойдете отдыхать.
– Тварь, – тихо сказал Исаев. – Ты маленькая гестаповская тварь, вот ты кто. Отвечать на вопросы отказываюсь. Требую твоего отвода.
– Это как начальство решит, – рассеянно ответил Сергей Сергеевич. – Я доложу, конечно, а пока продолжим работу: вы жили с отцом в одной квартире? Формулирую: являясь работником ЧК, вы жили в одной квартире с меньшевиком и не отмежевались от него. Так?
А чем он виноват, этот несчастный Сергей Сергеевич, спросил себя Исаев. В стране произошло нечто такое страшное, что и представить нельзя. Передо мной не человек. У него в голове органчик, как у щедринских губернаторов, бесполезно говорить, непробиваемая стена. А я погиб. Все. Если б я один – не так страшно… Но со мною они погубят и Сашеньку, и Саньку, теперь я в это верю.
* * *
Накануне беседы с генералиссимусом Хрущев не спал почти всю ночь.
В который раз уже он задавал себе такой простой и столь же унижавший его вопрос: говорить ли вождю – один на один – всю правду или «скользить», как это было принято сейчас в Политбюро, ЦК, Совмине, обкоме, правлении колхоза, деревенском доме и даже городской коммуналке, где, по секретным подсчетам группы киевских статистиков, на семью из пяти человек приходилось семь квадратных метров жилья; дед с бабушкой спали на кровати, муж с женой – на диване, дети – на полу.
Засуха сорок седьмого сожгла поля Украины, Поволжья, Молдавии, Центральной России.
Семенных запасов уже не было – хлеб в колхозах забирали в счет обязательных поставок подчистую, деревенские амбары кишели худющими крысами, врачи открыто говорили о возможности вспышки чумы.
Сталин тем не менее подписал указание: Украина обязана поставить не менее полумиллиона пудов зерна; Хрущев отмолил снижение контрольной цифры до четырехсот тысяч.
Решился на это (звонил лично Сталину по ВЧ; номер набирал негнущимся пальцем, чтобы скрыть от самого себя дрожь) после того, как получил письмо от Кириченко, секретаря Одесского обкома, который был завален письмами колхозников с просьбой о помощи и поэтому объехал область, чтобы самому убедиться – паникуют, как заведено, или же действительно кое-где есть провалы на продовольственном фронте.
«Дорогой Никита Сергеевич, поверьте, я бы не посмел обратиться к Вам с этим письмом, – писал Кириченко, – если бы не то ужасное, воистину катастрофическое положение на селе, свидетелем которого был я лично… Я начну с крохотной сценки: женщина резала трупик своего маленького сына, умершего от голода; она резала его на аккуратные кусочки и при этом говорила без умолку: “Мы уже съели Манечку, теперь засолим Ванечку, как-нибудь продержимся…” На почве голода она сошла с ума и порубила своих детей… Во всех колхозах только одна надежда, чтобы вновь ввели карточную систему, лишь это спасет область от повального мора…»
Хрущев представлял себе, что его ждет, зачитай он такое письмо Сталину на заседании Политбюро.
Он знал коварство этого человека, но одновременно всегда хранил в сердце негодующее почтение к нему; кто вытащил его из безвестности? Дал приобщиться к образованию? Ввел в ЦК? В Политбюро?!
Он, Сталин, с подачи Кагановича.
Хрущев впервые ужаснулся на февральском Пленуме ЦК, когда Ежов предложил немедленно расстрелять Бухарина и Рыкова, сидевших в зале заседания среди других членов ЦК; было внесено другое предложение: предать их суду военного трибунала; Сталин, пыхнув трубкой, покачал головой: «Прежде всего Закон, Конституция и право на защиту. Я предлагаю отправить их в НКВД, пусть там во всем разберутся… У нас следователи – народ объективный… Невиновного они не обидят, невиновного – освободят…»
Он говорил это спокойно, с болью, убежденно, – через две недели после того, как Юра Пятаков, честнейший большевик, любимец Серго, умершего за несколько дней до открытия Пленума, признавался на очередном процессе в том, чего – Хрущев знал это тоже – не могло быть на самом деле!..
А в заключительной речи на Пленуме, когда Бухарина и Рыкова уже увезли в НКВД, где им дали право на доказательство своей невиновности, Сталин легко бросил: «Троцкистско-бухаринские шпионы и диверсанты…»
Второй раз он ужаснулся, когда Сталин проинформировал их: «Ежов – исчадие ада, убийца и садист, на нем – кровь честнейших большевиков… Он убирал конкурентов, мерзавец… Рвался к власти, мы все были обречены, вы все были обречены, все до одного, хотел сделаться русским Гитлером».
А на фронте? Хрущев мучительно вспоминал тысячи мальчишек-красноармейцев, которые – по его, Сталина, приказу – шли под пули немцев. Как он, Хрущев, бился, как молил Сталина отменить приказ о наступлении на Харьков! «А я не знал, что ты такой паникер, Хрущев, – сказал Сталин. – Сентиментальный паникер… Нам такие не нужны, нам нужны гранитные люди…»
И вот сегодня он должен заставить себя вымолвить просьбу о возобновлении на Украине карточной системы, чтобы уберечь от голодной смерти сотни тысяч украинцев…
А не просить – нельзя: когда начнутся чума и голодные, кровавые бунты, отвечать придется ему, первому секретарю ЦК КПУ, кому же еще?!
…Не дослушав сообщения Хрущева, голос которого то и дело срывался на фистулу, Сталин резко оборвал его:
– Что, бухаринские штучки?! Ты кто? Мужик? Или рабочий?! Мы тебя держим в Политбюро для процента, заруби это на носу! Единственный рабочий – запомни! Не крестьянин, а рабочий! Знаю я мужика! Лучше тебя знаю… В ссылках у мужиков жил, не в дворянских собраниях! Работать не хотят, нахлебники, манны небесной ждут! Не дождутся. А будут саботировать поставки – попросим Абакумова навести порядок, если сам не можешь… После такого доклада, как твой, тебя надо было бы примерно наказать и вывести из ПБ, как кулацкого припевалу, только у нас беда: тут сидят одни партийные бюрократы и министры. – Сталин медленно обвел взглядом лица членов Политбюро. – Не играй на этом, Хрущев, голову сломишь… Есть мнение, товарищи, – резко заключил Сталин, – рекомендовать первым секретарем Компартии Украины Кагановича… Он в Киеве родился, ему и карты в руки… Хрущева от занимаемой должности освободить… Перевести Председателем Украинского Совета Министров… И чтоб государственные поставки были выполнены! Если нет – пенять вам обоим придется на себя…
…В кремлевском коридоре, когда расходились члены Политбюро, Берия шепнул:
– Берегись… А то, что решился сказать правду, – молодец, в будущем тебе это вспомнят, поступил, как настоящий большевик.
…Никто другой не сказал ему ни слова – обходили взглядом…
Вот именно тогда-то он и признался себе: «Мы все холопы и шуты… По сенькам шапка… Хоть бы один меня вслух поддержал, хоть один бы…»
Однако, когда через месяц Сталин позвонил ему – уже в Совет Министров – и осведомился о здоровье, сказал, что понимает его трудности, «держись, Никита Сергеевич, если был резок – прости», Хрущев не смог сдержать слез, всхлипнул даже от избытка чувств.
Сталин же, положив трубку, усмехнулся, заметив при этом Берия:
– Докладывают, что он во всех речах клянет свои ошибки… Его беречь надо, такие нужны, в отличие от всех… Он хоть искренний, мужик и есть мужик.
6
И снова четыре недели Исаева не вызывали на допрос; душили стены камеры, выкрашенные в грязно-фиолетовый цвет; днем – тусклый свет оконца, закрытого «намордником», ночью – слепящий свет лампы; двадцатиминутная прогулка, а потом – утомительная гимнастика: отжим от пола, вращение головы, приседания – до пота, пока не прошибет.
«Приказано выжить»… Эти слова Антонова-Овсеенко он теперь повторял утром и вечером.
Первые недели он порою слеп от ярости: чего они тянут?! Неужели так трудно разобраться во всем?! Но после общения с Сергеем Сергеевичем понял, что никто ни в чем не собирается разбираться, ему просто-напросто навязывают комбинацию, многократно ими апробированную.
Они, однако, не учли, что я прожил жизнь в одиночке, четверть века в одиночке, наедине с самим собой, со своими мыслями, которыми было нельзя делиться ни с кем – даже с радистами; суровый закон, испепеляющий, но – непреклонный…
Они думают, что отъединение от мира, неизвестность, мертвая тишина, прерываемая звоном кремлевских курантов и идиотскими выкриками «пост по охране врага народа» (нельзя называть меня «врагом», пока не вывели на трибунал, я – «подследственный», азбука юриспруденции), сломят меня, сделают истериком и податливым дерьмом. Хрен!
Спасибо им за эту одиночку, я волен думать здесь, я совершенно свободен в мыслях; единственный выход – свободомыслие в тюрьме; страшновато, но, увы, – правда, поэтому-то я и вычислил, что не имею права говорить ни слова про Сашеньку и сына, нельзя открывать свою боль, это – непоправимо, будут знать, на что жать…
Ты достаточно открылся, когда работал на даче, признался он себе с горечью, не забывай этого. Видимо, они тянут не только потому, что это – метод, они составляют какой-то особый план, понимая, что со мной работать не просто, профессионал… Ерунда, возразил он, комиссар госбезопасности Павел Буланов тоже был профессионалом, вывозил Троцкого в Турцию, до этого круто работал по бандформированиям, а что плел на бухаринском процессе?! Какую ахинею нес?! Как оговаривал себя?! «Я опрыскивал ртутью кабинет Ежова». А что, пулю в лоб он не мог пустить?! Надежней, чем ртуть разбрызгивать, сам, кстати, первый от этого разбрызгивания и должен был помереть.
Они готовят план, исходя из системы своих аналогов, из наработанного ими опыта, – именно поэтому они сгорят на мне. Я помню, как мистер Шиббл, когда мы шли в Парагвай через сельву, смеялся, рассказывая, что является признанным эталоном красоты индейской женщины: плоское лицо, надрезы на щеках, закрашенные ярко-красной смолой, зачерненные зубы и кольцо в носу.
А что, верно, у каждой этнической группы свой эталон красоты и манеры поведения: где-то на Востоке принято рыгать, только тогда хозяин удостоверится, что его гость сыт, высшая форма благодарности…
Сергей Сергеевич и тот, кто им управляет, имеют свои эталоны; что ж, посмотрим, как мы наложимся друг на друга.
…На очередной допрос его вызвали в три часа. Сегодня, однако, его подняли на лифте, ввели в приемную – окно затянуто мелкой сеткой, чтоб никто из арестованных не сиганул головою вниз; за столом-бюро сидел элегантный мужчина в штатском; много телефонов; раньше у нас в ЧК были совершенно другие модели – с «рогами», трубки изогнутые, чтобы говорить прямо в мембрану, а здесь сплошь немецкие, самой последней формы, наверное, вывезли из Германии.
Поднявшись из-за стола-бюро, мужчина отпустил надзирателей и предложил Исаеву:
– Устраивайтесь на диване, руководство скоро освободится…
…Портрет Дзержинского, напротив – Сталина в форме генералиссимуса.
По-моему, никто из русских царей, подумал вдруг Исаев, не чеканил победные медали со своим изображением; в России был Георгиевский крест, были ордена святых – Анны, Владимира; во Франции – розетка Почетного легиона; даже Наполеон не изображал свой профиль на медалях; Сталин не постеснялся.
Странно, отчего мы начинаем думать об очевидном и поражаться этому, только когда судьба ставит нас к стенке? Спасительный инстинкт отгораживания от правды? Как у раковых больных? Что это – новое в нас или традиция? «Моя хата с краю, ничего не знаю» – вошло в пословицу более столетия тому назад… Значит, не можем без царя? Нужен Патриарх? Макс Нордау писал, что вырождаются не только преступники, в которых заложен изначальный посыл зла, но и артисты, политики, писатели, ученые, художники, цвет нации… Неужели этот паршивый прародитель нацизма был прав? Нет, он не был прав, ибо предрекал исчезновение такой «выродившейся» нации, как французы, но ведь рухнула не Франция, а именно Германия; немецкий народ несет на себе отныне тавро нацистского проклятия; нация разрешила фюреру и его банде создать государство ужаса, называвшееся ими «рейхом счастья»; немцы помогли созданию государства, где директивно, по указанию главного пропагандиста Геббельса, назначались «таланты», а подлинные таланты изгонялись за границу или сжигались в концлагерях… За все время правления Гитлера не было создано ни одного романа, фильма, картины или спектакля, которые бы оставили о себе память… А изгнанные Брехт и Эйслер знакомы каждому в мире, как и Манн, Ремарк и Фейхтвангер… И ведь немцы аплодировали изгнанию своих гениев, ревели «хайль», когда проезжал обожаемый фюрер, а потом становились в очередь за маргарином, отпускавшимся по карточкам, но в этом были виноваты большевики, масоны, евреи и мы, славянские недочеловеки, кто же еще?!
А что бы могло случиться с миром, не выгони они Альберта Эйнштейна? Всех тех евреев-физиков, которые сделали американцам атомную бомбу?!
Несчастные немцы… Гитлер рассовал всю нацию по контролируемым, поднадзорным сотам: каждый был членом какой-нибудь гильдии, общества, группы, домового комитета национал-социалистической немецкой рабочей партии; в каждом парадном был представитель «гитлерюгенда» и профсоюзного «трудового фронта» партийного товарища Лея… Он, Гитлер, и его партия превращали людей в бездумные автоматы, они разделяли общество, но ведь лишь человек многогранных интересов, занятый не только бизнесом, но и живописью, не только золотыми рыбками, но и спортом, может способствовать уменьшению разнородности нации, ее единению… Гитлер дал право злым, грубо сильным, недалеким, коварным и обязательно рабски послушным стать пастырями, это и привело нацию к гибели: народ не могут вести хамы, покорные фюреру; покорные трусы ничего не могут без приказа сверху, они теряются, когда надо принять самостоятельное решение, они некомпетентны, они парализованы тем авторитетом, в который их заставили поверить… А не верили б! Как можно заставить человека поверить в то, что перед ним лев, когда на самом деле это крыса?! Но заставили же! Поверили! Как?! В чем секрет этого механизма оглупления и покорения народа? А мы? Мы, наши люди?..
На столе-бюро что-то запищало, мужчина в штатском поднялся:
– Пожалуйста, вас приглашают к руководству.
Поддерживая локтями брюки, Исаев направился к двери; проходя мимо мужчины, заметил:
– В двадцать первом в этом помещении работал Сыроежкин и его группа, те, которые потом взяли Савинкова.
…Нынешний кабинет, куда вошел Исаев, был раза в четыре больше, чем все помещение группы Сыроежкина; видимо, объединили несколько комнат.
За большим столом сидел крупный, хорошо сложенный человек; ношеный пиджак висел на одном из стульев, окружавших большой стол заседаний; рубашка на этом крупном мужчине с симпатичным лицом и очень живыми глазами была застиранная, мятая, черный галстук приспущен.
– Ну, здравствуйте, Всеволод Владимирович, – сказал он, – присаживайтесь, я заказал кофе и бутерброды. Наша баланда, видно, стоит у вас поперек горла? Только-только карточки отменили, что вы хотите, страна лишь начинает оживать…
– Она по-настоящему оживет, – заметил Исаев, – когда не будет сажать своих солдат в одиночки внутренней тюрьмы…
– Тоже верно, – легко согласился мужчина. – Вы правильно расставили акценты: «своих солдат». Чужих – будем сажать и ставить к стенке.
– Докажите, что я не «свой», – можете ставить к стенке.
– Ну, знаете ли, у меня нет времени доказывать вашу невиновность! Это вам – карты в руки! Мне надо шпионов ловить, бендеровцев выкуривать из лесов, мельниковцев, литовских и эстонских «черных братьев»… Кто это за нас будет делать?!
– Я хотел бы знать, с кем я разговариваю. Вы не представились.
– Помощник разве не сказал? Называйте меня генерал Иванов. Можете по имени-отчеству: Аркадий Аркадьевич…
– Я бы хотел спросить вас, в чем меня обвиняют? Я уж тут отдыхаю третий месяц, пора объясниться…
– Именно за этим я вас и пригласил, Всеволод Владимирович.
Генерал положил крепкую руку на четыре папки, что лежали возле телефона, отличавшегося от всех остальных формой и цветом, внимательно, с некоторой долей сострадания осмотрел Исаева, поинтересовался, хочет ли его собеседник курить; выслушав отрицательный ответ, покачал головой: «Не все обладают такой силой воли, порою за одну затяжку такое начинают нести, что хоть уши затыкай…»
– Давайте по делу, – Исаев говорил сухо, совершенно спокойно, ибо он понял, что сейчас-то и началась игра; он слыхал об этом от Айсмана, прием назывался «тепло против холода».
– Давайте, – согласился тот, кто представился «Аркадием Аркадьевичем Ивановым». – Все документы, которые нам удалось собрать на вас, были доложены высшему руководству. Меня уполномочили передать: будущее в ваших руках, Всеволод Владимирович…
– То есть?
Иванов на мгновение задумался, потом, не спуская глаз с Исаева, позвонил по телефону:
– Кофе отменяется и бутерброды тоже. Пришлите парикмахера, принесите костюм, хорошие туфли, рубашку с галстуком и пуловер… Мы поедем пообедать в гостиницу «Москва». – Он дружески подмигнул Исаеву и, прикрыв ладонью мембрану, поинтересовался: – Как относитесь к такого рода перспективе, а?
Поднявшись из-за стола, генерал набросил на плечи обшарпанный пиджак:
– Вчера вернулся из Лондона, погода там дрянь, знобит чего-то, третью таблетку аспирина жую, как бы не свалиться… Кстати, то, что ни словом не обмолвились на допросах о жене и сыне, свидетельствует о том, что вы верно избрали линию защиты: не показывать болевые места контрагенту. Но беда в том, что все ваши предыдущие разговоры – на даче – фиксировались. Мы их тщательно изучили: мера искренности, степень привязанности к тем, кого так давно не видели, так что сейчас нам ясно: все эти недели вы готовились к драке. Правильно, кстати, делали… Побеждает – сильный.
– Побеждает умный.
– Э, пустое, Всеволод Владимирович! Романтика, прошлый век… Думаете, следователь Каменева был умнее Льва Борисовича? Сильнее был! Власть имел! Право на поступок! Оттого и победил… А ведь молодой был, тридцать два года всего… А вы, умница, столько напортачили в течение двух допросов, что вас с мылом мой – не отмоешь… Кто создатель Красной Армии? Троцкий? Ваши слова? Ваши. Вот вам восемь лет тюрьмы за антисоветскую пропаганду. Красную Армию создали Ленин и Сталин, руководил же ею Иосиф Виссарионович… Кто с Лениным ехал через Германию? Зиновьев? Ваши слова? Ваши. Еще десять лет – антисоветская пропаганда. На суде от своих слов не откажетесь? Не откажетесь. А суд будет открытый, публика станет кричать, требуя смерти гнусному клеветнику, агенту гестапо, а в прошлом связнику между врагами народа Постышевым и Блюхером с гитлеровским шпионом Троцким, – вы ж и эти свои показания подписали… И мы будем вынуждены приговорить вас по совокупности к смертной казни, но мы после победы подобрели, казнь автоматом меняем на четверть века лагерей, этим вы себя уже обеспечили… И не вините нас, никто вас за язык не тянул, а если выбрали принципиальную позицию – что ж, валяйте, выведем на очень открытый суд где-нибудь на заводе, посмотрите на лица людей, убедитесь в том, что вы пушинка, ничто, тогда-то и дрогнете…
Вошедшему парикмахеру сказал:
– Побрейте с «шипром»… Стригите аккуратно под полубокс, скопируйте тот фасон, что я привез вам из Лондона.
…Они стремительно выехали на «ЗИСе» из тюрьмы; возле ресторана «Иртыш», что наискосок от памятника первопечатнику Ивану Федорову, Иванов сказал притормозить, вышел из машины первым, протянул руку Исаеву, усмехнувшись при этом: «Не шатает?», захлопнув дверцу, бросил шоферу:
– Позвоню.
Максим Максимович ощутил в горле слезы: его обтекала толпа своих, он слышал русскую речь, она сливалась в какую-то музыку, он ощутил в себе могучие такты «Богатырской симфонии», на какой-то миг совершенно забыл, что его вывезли из тюрьмы, что это один из эпизодов в той работе, которую против него ведут, одна из фаз задуманной операции; он просто вбирал в себя лица людей, их голоса, смех, сосредоточенность, радость, угрюмость, спешку; свои…
Иванов, цепко наблюдавший за ним, чуть тронул его за локоть:
– Ну, пошли, тут до ресторана «Москва» рукой подать.
– Сейчас, – ответил Исаев. – Меня действительно зашатало.
И вдруг с мучительной ясностью он ощутил свою расплющенную, козявочью крошечность, ибо понял, что в этом совершенно новом для него городе – с махиной Совнаркома, с гостиницей «Москва», с «Метрополем», ставшим отелем, а в его годы бывшим вторым (или третьим?) Домом Советов, он – один, совсем один… На третьем этаже «Метрополя» в двухкомнатном номере жил Бухарин (Феликс Эдмундович как-то попросил его, «Севушкой» называл, съездить к «Бухарчику» за отзывами о работах академиков – тот особенно дружил с любимцем Ленина электротехником Рамзиным и Вавиловым; первого арестовали в конце двадцатых, другого – девять лет спустя). Там же, в однокомнатном номере, жил мудрец Уншлихт; впервые Максим Максимович увидел, как трагично изменились глаза зампреда ВЧК в восемнадцатом, после подавления мятежа левых эсеров. Уншлихт тогда тихо, на цыпочках, вышел от Дзержинского: тот никого не принимал, подал в отставку, заперся у себя в кабинете, который был одновременно совещательной комнатой и спальней (ширма отгораживала его койку); левый эсер Александрович, первый заместитель Дзержинского, старый друг по тюрьмам и ссылке, был объявлен им в розыск и провозглашен «врагом трудового народа»… Каково подписать такое? Всю следующую неделю на Дзержинского было страшно смотреть: щеки запали, черные провалы под глазами, новые морщины у висков и на переносье…
…Я совершенно один в этом незнакомом мне, новом, неизбывно родном, русском городе, повторил себе Исаев; если бы меня вывезли из тюрьмы в Германии – допусти на миг такое, – я бы знал, к кому мне припасть: тот же пастор Шлаг, актер из «Эдема» Вольфганг Нойхарт… Господи, стоит только броситься в толпу, проскочить сквозь проходные дворы Берлина, известные мне как пять пальцев, оторваться от этого «Иванова», и я бы исчез, затаился, принял главное решение в жизни и начал бы его исподволь осуществлять… И в Лондоне я бы нашел Майкла, того славного журналиста, который прилетел с Роумэном в аргентинскую Севилью, и в Штатах – Грегори Спарка или Кристину, и в Берне – господина Олсера, продавца птиц на Блюменштрассе, а к кому мне припасть здесь?! Ведь я даже не знаю адреса Сашеньки и сына! Да и дома ли они?! Этот Иванов хорошо думает, он развалил меня, когда походя заметил, что молчание по поводу семьи показывает, что это – самое затаенно-дорогое в моей жизни… Я на Родине, у своих, но это новые свои, никого из тех, с кем я начинал, нет более, все они «шпионы», все те, кто окружал Дзержинского, – «диверсанты», все те, кто работал с Лениным, – «гестаповцы»… Мне не к кому припасть здесь. И против меня работает огромный аппарат для чего-то такого, о чем я не знаю и не смогу догадаться до той поры, пока они не откроют карты, а откроют они свои карты только в том случае, если заметят, что я хоть в малости дрогнул, потек, перестал быть самим собою…