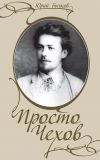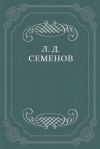Текст книги "Бог – что захочет, человек – что сможет"
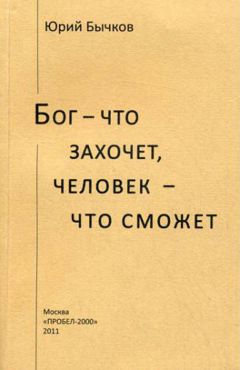
Автор книги: Юрий Бычков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Искусствоведческие эссе
С 1974 года я в Союзе художников; искусствоведческие схоластические рассуждения о формальных изысках в изобразительном искусстве меня не привлекают вовсе. Для меня искусствоведение – та же публицистика, исследование проблем и явлений общественной жизни, так как вижу её отражение и преломление в произведениях художников, близких моему сердцу. В книгу «Предназначение» я включил избранные очерки, эссе, рецензии на выставки, немногословные образы художников.
Владимирцы в Москве, на Кузнецком
Как уж там сладилось это дело – отчётная выставка «Художники владимирской земли» в любимом всеми зале Московского союза художников на Кузнецком – выяснять не станем. В дружественной атмосфере открылась великолепная выставка. Сам факт обнадёживающий, радостный: в трудное время раздоров, разделов, подсиживаний, мелкотравчатой «борьбы» москвичи принимают владимирцев в самом центре столицы. Кузнецкий мост в эти дни стал чем-то вроде Сретенки. Не забыли, чай, как встречала Москва икону Владимирской Божьей Матери – символ небесного покровительства государства русского и первоисток духовности отечественного искусства. Нам ли отрекаться от нашего родства с владимирцами. Гением Рублёва мы соединены навеки. В Москве, Звенигороде, Владимире, Троице-Сергиевой лавре иконы и фрески Андрея Рублёва благовествуют о мире и единении. Жизнеутверждающее, новаторское, земное и возвышенное искусство Кима Бритова, могучая живописная стихия полотен Владимира Юкина, цветовая изысканность Валерия Кокурина всегда были общим достоянием, нашей радостью. Ким Бритов дружил с Виктором Попковым; все годы и сегодня Ким Николаевич связан духовно, творчески с ведущими мастерами Московского союза. Впрочем, его любят, знают во многих городах и весях России. А Юкин? Кокурин?
У тех, кто вдохнул жизнь в адамово ребро, породил владимирскую школу живописи, есть основания для оптимизма. Владимирские живописцы – это блестящая школа без эпигонов. Тут, кого ни возьми, будет так.
В искусстве Николая Мокрова при том, что он взял на вооружение самые действенные средства из арсенала всех трёх храмоздателей есть своя тема, свой особенный трогающий сердце лирический контекст. Он вроде бы шагу не ступил с родной владимирской земли, а какое безбрежье Божьего мира открывается взору в его картинах.
Барбизонцы, импрессионисты приходят на память, когда видишь впечатляющие итоги освоения владимирской школой несметных духовных богатств этой древней исконно русской земли.
Братья Владимир и Евгений Телегины предстают тонкими лириками. Евгений, волнуясь, трепетно напоминает нам о душевной благости весны и осени – двух кризисных состояниях родной природы. Он деликатно напоминает тем, кто по сей час не поверил в откровения таинств весны и прощальные вздохи яркой, золотой, осени – в этом переломном состоянии природы есть нечто близкое святому причастию.
Ах, каковы тонкие градации весны! Вслушаемся в поэтические строки Афанасия Фета: «Едва лишь в полдень солнце греет, краснеет липа в высоте, и сквозь березник чуть желтеет, и соловей ещё не смеет запеть в смородинном кусте».
Владимир Телегин «сочиняет» поэмы на свой лад. Предмет обожания и восчувствования – обжитая земля: избы, дворы, амбары, мартовские проталины…
У братьев склонность к самостоятельности налицо! Колористические открытия Бритова, Юкина, Кокурина они заложили в свой генетический код, и их живопись стала владимирской не столько по внешним признакам, сколько по внутренней сущности.
Валерий Егоров… Его колористический дар близок к уровню высокой планки поднятой за сорок лет старшими товарищами – корфеями – Юкиным, Бритовым, для которых характерны картины-обобщения. Егоров конкретен. Пейзаж «Село Любец на Клязьме» – не плод фантазии. Однако, творческое, личностное видение здесь заявляет о себе впечатляюще. Картина – прямо-таки драгоценность. Воды Клязьмы, густой массив туч над прибрежным селом, древний храм, берёзы, словно взятые у природы для украшения, – это положенные на холст прирождённым живописцем слитки друзы, зольта, бирюзы, малахита.
Украсил интерьер роскошного выставочного зала эмоционально цикл пейзажей древнего Юрьевца. Каждая работа – откровение. Да, «дым отечества нам сладок и приятен». Добротность провинциального бытия, красота, естественность, сердечная привязанность к родному гнезду (живёт Егоров во Владимире, а пишет по большей части город детства и юности Юрьевец).
Выставка на Кузнецком обменная. Сегодня москвичи радушно встречают владимирцев, и не долго ждать того дня, когда ответная выставка московских художников отправится в древний город на Клязьме.
Знак интеграла перед фамилией Рукавишниковы
Скульптура, рисунки, живопись. Двадцатые – девяностые годы. Три поколения. Пять имён. Родоначальник скульптурного клана – Митрофан Рукавишников. Привой талантливой рукавишниковской породы к могучему древу конёнковской русской пластической гениальности. В биографической справке, розданной на пресс-конференции (небывало многолюдной), сказано: «В 1910 году он поступил учеником в мастерскую скульптора С. Т. Конёнкова, у которого работал в течение» трёх лет. На 1910–1913 годы приходятся вершинные творения Конёнкова: «Пиршество», «Старичок-полевичёк, «Кора», «Бах», «Эос», «Сократ», «Юная». Митрофан Сергеевич в том возрасте (23–26 лет), когда прочно усваиваются пластические идеи и уроки мастерства.
«Гегель» Митрофана Рукавишникова близок по духу, по пластике «Баху» Конёнкова. Можно сказать, в одном котле варились конёнковский «Рабочий-боевик Иван Чуркин» и «Волжский грузчик С. А. Баринов» Рукавишникова. Следом за Сергеем Тимофеевичем, поставившим в московском цирке пантомиму «Самсон и Далила», принимается за эскизы к массовому балетному представлению на библейскую тему «Исход» Рукавишников.
Видимо, Митрофана Рукавишникова Бог вёл: он, как оказалось, знал, у кого следовало учиться, как и чему учиться. После трёхлетнего пребывания в мастерской Сергея Тимофеевича Рукавишников оказывается в Италии (его наставник после окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества в течение 1896 года стажировался в Европе и Риме. В 1917-м Митрофан Сергеевич снова в мастерской Конёнкова. Это важные, определяющие биографические обстоятельства. Когда в качестве литературного секретаря великого русского ваятеля я рука об руку. С Сергеем Тимофеевичем работал над автобиографической книгой Конёнкова «Мой век» и позднее писал «Конёнкова» для серии «ЖЗЛ», не мог не почувствовать, что мой герой первым в персонифицированной истории отечественной скульптуры на собственно русском пластическом языке, как. скажем, Марк Шагал примерно в это же время открыл еврейскую живописную пластику.
Образный язык славян-древодельцев, конечно, не пресекался в веках – образы языческих богов, христианские святые, ковши-утицы, детские игрушки, корабельная резь, соляные круги, берегини на причелинах изб тому свидетельства. Конёнков в «Старичке-полевичке» свершил то. что осуществил в музыке Михаил Иванович Глинка в скерцо для симфонического оркестра «Комаринская».
Рукавишников, оказавшись в мастерской Конёнкова, черпал из первоисточника.
И ведь что характерно: Конёнков, национальный гений в эпоху революции встал во главе русского скульптурного авангарда. Увенчанный в 1916 году званием действительного члена Императорской академии художеств, уже с 1902 года Конёнков своим творчеством отменял, как рухлядь, академические нормы и правила.
На открытии выставки династии Руквишниковых сегодняшний академик Олег Константинович Комов подчеркнул, что представленное в залах Академии художеств мирового уровня авангардное искусство опирается на фундаментальную. реалистическую школу и в этом «виноват» прежде всего Суриковский институт, выпускниками которого являются Иулиан Митрофанович и Александр Иулианович Рукавишниковы.
Оно, конечно, так, но не было бы и в помине поражающего воображение пиршества скульптурных форм и напора будоражущих композиций без конёнковских дрожжей.
Когда я в очаровательной тесноте рукавишниковской экспозиции натолкнулся взглядом на «Леду и Лебедя» Митрофана Сергеевича (1912 г.), то в сознании моём тотчас стала прокручиваться воображаемая лента видеозаписи событий 1912 года. Конёнков только что вернулся из Греции, где во вдохновенном творчестве провёл почти год. В сознании его древнегреческие мифы реальней самой жизни. Впечатления. Ассоциации. Темы. Сюжеты. Миф о браке Леды с Зевсом, принявшим образ Лебедя, ещё в четвёртом веке до нашей эры был воплощён в бронзе скульптором Тимофеем. Эротический сюжет, очевидно, задел за живое Митрофана Рукавишникова. Только слепой не увидит, как всплеск молодой энергии, эротический комплекс, трансформировавшийся в высокое искусство в конёнковской пластике, теперь, в наши дни, могуче отозвались на независимом, истинно свободном творчестве внука Митрофана Рукавишникова – Александра.
На тех, десятых годов двадцатого столетия, дрожжах поднялась эмоционально-интеллектуальная опара. Сняты всяческие оковы: творческое бытие как спонтанное, самопроизвольное, непрерывное действо. Не столько физическое действование, сколько сканирование мыслью-лучом совокупного исторического пространства, чтобы выразить возможно полно и категорично суждение художника об эпохе. Не от частного к общему, то есть методом индукции, что было главенствующим методом в искусстве предшествующих десятилетий, а дедуктивным способом мышления: от цельной картины к каким угодно частностям, логическим выводам частных положений, извлечений из какой-либо общей мысли.
Инсталляция Александра Рукавишникова, представляющая в замкнутом пространстве конференцзала Академии художеств (дерзость, ещё пять лет назад вообразить которую не мог бы ни один смертный!) образно-интеллектуальный срез советской эпохи, действует завораживающе. В этой сложносочинённой, артистически осуществлённой композиции есть множество характернейших примет сканируемого временного пространства, но воля художника вынуждает (этого нелегко добиться – приходится преодолеть стереотип зрительского «штучного» постижения экспозиции) прежде, чем вы обратитесь к частностям, воспринять концептуальный авторский замысел. Рукавишников однозначен: ленинский план преобразования России оказался ложным, антигуманным, неправедным.
Образ вождя, вознесшего себя на высоту трибуны, имеющей форму искусственной конструкции из металлических уголков, эксцентричен. Ленин со зловеще сверкающими стеклянными глазами, являясь смысловым центром композиции, выведен за пределы геометрической оси, и воображаемое эксцентричное вращение сметает стены и перегородки, круша всё вокруг. Эксцентричны, логичны только по логике эгоцентризма поступки (декреты) Ленина. У подножия трибуны – символы российской государственности и опрокинутого большевиками тысячелетнего православия. Воздвигались же на площадях двух столиц в качестве кумиров мыслители-атеисты, цареубийцы. В пресненской мастерской Сергея Конёнкова, Митрофана Рукавишникова, в других художественных студиях – все, все, обольщённые речами Ленина, Троцкого, Луначарского, скульпторы Москвы и Петрограда творили большевистских кумиров. По плану монументальной пропаганды. Можете восхититься или ужаснуться, глядя на «Жан-Поля Марата», исполненного Митрофаном Рукавишниковым по декрету Ленина. И кто не приложил рук к осуществлению и пропаганде плана монументального оболванивания?!
В противоположном от Ленина-разрушителя углу, как живой (гиперреализм), великий труженик, созидатель реставрационной науки Пётр Дмитриевич Барановский. Воплощённая христианская нравственность в действии. Начало его крестного пути при большевиках – восстановление разбитых в июле 1918-го красной артиллерией архитектурных шедевров Ярославля. Апогей – решительное выступление в защиту назначенных к сносу архитектурных шедевров, за что был как «враг народа» арестован и трудился в Сиблаге, после чего с риском быть расстрелянным обмерял, фотофиксировал разбираемый на кирпич Казанский собор. Достойный финал его земного пути – передача бесценного архива (тысячи папок: обмерные чертежи, археологические изыскания, эскизные проекты, рабочие дневники) Музею русской архитектуры имени А. В. Щусева, а также проектных материалов, обмерных кроков и фотодокументов по Казанскому собору – своему ученику, архитектору-реставратору О. И. Журину Храм на Красной площади возводится. Недалёк день его освящения.
В инсталляции А. Рукавишникова наша советская история предстаёт в запечатлевшихся в памяти образах искусства. Как безымянный герой скульптурных мастерских – индустриальный рабочий, сталевар. Безымянный, поскольку нового в скульптурной пластике так и не состоялось. Но вот нечто конгениальное «Девочке с бабочкой» Сарры Лебедевой. Нет, не пародия, не гримаса. Произведение на уровне широко известной музейной вещи. Без бабочки, разумеется.
Школа, помянутая Олегом Комовым, ощущается во всём, что извергается вовне волею, вдохновением, трудом этого феноменально продуктивного ваятеля. Включён в инсталляцию широко известный цикл «Лето в городе. Мои современники». Помните, у Маяковского: «Эй, небо, снимите шляпу! Я иду!» Такими заносчиво экстравагантными, подчёркнуто знающими себе цену явились в мир его сверстники. Острый эстетический диссонанс рождается при сопоставлении включённых в инсталляцию реплик в манере Шадра – Мухиной – Лебедевой с «Моими современниками». Разные эпохи – разные стилистические пристрастия. Думается, и разные жизненные устремления, идеалы, ценности. Что выше? Что лучше? Талант большого масштаба не позволяет Александру Рукавишникову оценочных акцентов. Вот и живописные опусы на сценах конференц-зала объективно выражают сегодняшний день с характеризующим его состоянием разлада, настроения, экстремизма, не назидают, не намекают.
Однако все мы устали от человеческого экстремизма. В чём, собственно, высшая мудрость бытия и искусства как средства его постижения? Невольно ищешь ответ на этой выставке.
Многозначительно сказано в пресс-релизе: «целая серия работ, посвященных загадочной жизни насекомых и растений, открыла новую грань в творчестве Иулиана Рукавишникова».
Отдавая дань восхищения богатству, изяществу природных форм, с поразительным художественным чутьём, изобразительной метаморфичностью, любовью интерпретированных Иулианом Митрофановичем, думаешь почему-то не о «загадочности жизни насекомых и растений», а об отношениях HOMO SAPIENS, существа разумного (порой вздохнёшь печально над латинской формулой – так ли уж разумно это самое HOMO?), с божьим миром. От есенинского поэтического признания: «И зверьё как братьев наших меньших никогда не бил по голове», человек просветился и просветлел во много крат больше, чем от всех лекций и трактатов на тему любви к животным. То же самое и трогательные насекомые Иулиана Рукавишникова. Образная природа монументализированных, отлитых в бронзе на-се-ко-мых в первый момент умиляет, а затем непременно заставляет задуматься, соотнести их мир и наш мир с тем, чтобы, не напрягаясь мыслию чрезмерно, увидеть, что он, живой мир Земли, един и, между прочим, сильно зависим от нашего (каждого из нас) нравственного достатка и разума.
Несколько слов о династии, то есть о среде, в которой качества, определяемые генетикой, становятся характеристическими чертами художника, смыслом и поэзией, сущностью его.
На выставке достойно представлено творчество Ангелины Николаевны Филипповой (1923–1986) – талантливого скульптора, жены и матери Иулиана и Александра Рукавишниковых. Она стала мыслить скульптурными категориями так же, как Иулиан, в семье Рукавишниковых очень рано. Другом дома был С. Д. Меркуров, училась она у таких корифеев отечественной пластики, как А. Матвеев, Р. Нотке, Д. Шварц, Н. Томский. Её имя останется в истории искусства: балетный цикл Ангелины Филипповой – одушевлённое пластикой танца композиционное пространство. Высокоорганизованные ритмические структуры, завоёвывающие пространство объёмы, конструктивность трактовки фигур. Естественно, что черты её стиля обнаруживают себя в многогранном творчестве Александра и, наверное, проявятся с годами в искусстве младшего из Рукавишниковых – внука Филиппа, студента-суриковца, участника семейного кланового показа в Российской академии художеств. Семья художников – это, по малому счёту, сложение, а перед фамилией Рукавишниковы, думаю, закономерно поставить интегральный знак.
Чувство реальности
Тон критики, что азартно утверждает «особо плодотворную» роль современного авангарда, наступателен, безапелляционен, прокурорски суров: реалистическое русское искусство последних десятилетий – пример застоя, безнравственности, ретроградства. Лихие экзерсисы публикуемых порой статей насчёт отсталости реалистического течения русской советской живописи 70-80-х годов рассчитаны на простаков. Создаются новые мифы об оторванности реализма от острых социальных проблем. Но этим демагогам противостоит сама жизнь.
Обратимся к достаточно характерному примеру. Большинство работ художника Игоря Солдатёнкова, говорить о которых представился повод, создано в семидесятые годы. Мы изо дня в день слышим: глухое время застоя, фанфары ложного благополучия в выставочных залах, «бездумное изображение того, что расстилается перед взглядом» (А. Каменский).
Но ведь это, возразим искусствоведу-публицисту, как посмотреть. Если, допустим, непредвзято? Тогда то, что расстилается перед взглядом, может быть, заставит задуматься даже апологета «новых плодотворных явлений».
101-й километр. Боровск. Раннее утро. По периферии неуютной, пустынной площади стоят ободранный, опоганенный храм, покосившиеся жалкие дома. Крупным планом изображён идущий человек. На площади он и бездомные собаки. «Бывший» (1974). Художник вспоминает, что, когда условились начать работу над портретом, Старуха (таково было прозвище бывшего полковника «из органов», после тюрьмы, лагерей сосланного на 101-й километр) твёрдо сказал: «Ты рисуй меня таким, какой я есть сегодня».
В нём и теперь сквозит стать кадрового военного, черты былой красоты. Но он растоптан, поддался судьбе. Неприкаянность, надломленность, трагизм в измождённом лице, фигуре, как у подбитой птицы. В чём его преступление? Отвечал за охрану важного лица. В автомобильной катастрофе погибла жена этого человека. Виноват – не сохранил. Срок. Большой срок. Ссылка. В прозвище неприкаянного обитателя боровского базара, прозвище, содержащем издёвку, насмешливое отношение, – намёк на что-то. На что же? Бездомного привечали в Боровске старухи – добрые, сердобольные, простые русские женщины, потерявшие на войне или в лагерях и тюрьмах мужей, сыновей. Доброта, слава Богу, не истреблена полностью. Нравственность народа возродится на руинах духа – такой вывод сделал для себя художник не в наши дни, а в семидесятых, когда один за другим писал портреты-картины, писал «боровских женихов». Так с иронией определяет народ положение ссыльных.
Другой человек, пытавшийся теоретически обосновать магнетическое начало Вселенной, боровский самоучка-астроном Пётр Денисович Лабутин. В старости он был запечатлен И. Солдатёнковым («Пётр Денисович», 1973). Комиссар времен революции, краевед, любитель-астроном, оборудовавший на чердаке своего дома обсерваторию. Был репрессирован. Фашисты, оккупировав в 1941 году Боровск, сожгли его дом-обсерваторию. По возвращении оказался наедине с природой и своими мыслями. Для тех, кому довелось его слушать, представлялись стройными и убедительными рассуждения Петра Денисовича о магнетизме как сущности божественного. Столь же глубоко овладела его сознанием идея обожествления всего живого. Убеждённый пантеист, он считал грехом рвать цветы, травы. Жил в шалаше на пепелище своего дома. Кормился тем, что получал за собранные по берегам Протвы бутылки. Никчемный человек? Нет. Это не чудачество. И само пребывание на земле Петра Денисовича не отнесёшь к разряду пустопорожних явлений. Черты традиционного российского духовного искательства здесь ощутимо заявляют о себе. Этот старец не от мира сего, звездочёт, казалось бы, отстранённый от реального бытия философ, сознавал, что происходило в начале семидесятых. Посетителям дома-шалаша он показывал аттракцион-притчу. «Васька, – приказывал серому облезлому коту – покажи, как Россию пропили». Кот весьма натурально выламывается под пьяного.
Портрет привлекает значительностью, духовной содержательностью личности, спокойной величавостью облика народного философа.
Протест против бездуховности, насилия, подавления индивидуальности и в страшную эпоху сталинизма выражался в активной форме. Сергей Николаевич Меркулов в 30-е годы пытался организовать в Боровске неформальное молодёжное движение как альтернативу комсомолу. Был осужден как «враг народа». Через много-много лет вернулся в родной город. Последние годы жизни посвятил созданию математической формулы абсолютной красоты. В журнале «Наука и жизнь» в середине семидесятых опубликована его статья на эту тему. «Поэтическая натура» (1974) назвал портрет-картину И. Солдатёнков.
В Боровск, за 101-й километр, выслали в своё время одного из сподвижников Н. И. Бухарина. Звали его Николай Сергеевич. Фамилию свою он утаил от художника. В 1934 году его исключили из партии, арестовали, пытали. В тюрьме он ослеп, после чего последовала ссылка в Боровск.
Игорь Солдатёнков писал его в 1970-м. Назвал картину «Слепой». Взятый «в раму» накренившихся боровских «хором», сам искривлённый, будто скрюченный стручок, кривой на правый глаз, в выношенном, с чужого плеча пальто, Николай Сергеевич словно олицетворение материализованного времени, которое ломало, гнуло, калечило людей и среду, и пластика картины адекватна времени. «В замысле у меня, – рассказывал художник, – «Стальной». Тоже кличка. Он сам себя так обозвал. Из тех, кто в тридцатые годы церкви разрушал…» Ещё один персонаж – «Портрет пожилого мужчины в шляпе» (1972). Бывший священник, он растащил, пропил-прогулял церковное имущество, богохульничал… После очередной попойки его дом запылал в ночи. В пожаре он сгорел и сам, и поп-ярыжка.
Те, кто, доживая век в Боровске, оказался в поле внимания художника, противоборствовали как нравственные антиподы.
Сергей Николаевич Меркулов в полуподполье собирал силы молодёжи, чтобы противостоять Стальному и его сподвижникам-атеистам с динамитом, рушившим в тридцатых годах огромные культурные ценности древнего Боровска. Философ-астроном Пётр Денисович, безусловно, антипод, враг до конца ещё одного солдатёнковского персонажа – «Старика с папиросой» (1971). Этот доморощенный философ, носитель древнейшей безнравственной концепции полной свободы личности, покуривая, рассуждал на покое о том, что не должно быть тормозов и ограничений, все дозволено. Знакомые слова! Ювелир по профессии (дело было до революции), он исхитрился обокрасть кремлёвский Архангельский собор. Попался, был посажен, выпущен в семнадцатом году. В 1922 году его привлекли в качестве эксперта к экспроприации церковных ценностей. Снова крупная кража. Посажен вновь, теперь уже советской властью. В Боровске подвизался как активный атеист.
Портретист не упрощает и, кажется, не обнаруживает своего отношения к модели. Первое впечатление – интеллигентный, многоопытный человек. Но у старика с папироской царапающий взгляд, хватающие руки, внутренняя егозливость при внешнем спокойствии. Почти тогда же написан «Лазарь Михайлович» (1972) – образ собирательный, образ прошлой России. В облике этого крестьянина-старообрядца мощно заявляют о себе трудовой опыт России, строгие нравственные нормы жизни. Солдатёнков в деревне неподалёку от Боровска написал и «Бобыля» – одинокого старика, с надрывающей сердце печалью в глазах. Одиноких, подобных этому бобылю, у нас в стране десять миллионов.
Бывший купеческий дом в Боровске ныне – убогая «воронья слободка». Художник попросил население дома позировать («Старый дом», 1975). Это не похоже ни на плакаты, ни на кинохронику семидесятых годов. Юродивый с корзиной яблок – сын бывшего хозяина дома, боровского купца, справа – его сестра. В центре – старик с палкой, ему 94 года, за ним, а в дверях, – его жена (через несколько дней её не станет), вечно гонимые люди, «раскулаченные». Мытарились по всей России…
Без воспитания жизнью вряд ли можно получить серьёзного художника. Игорь Солдатенков, как говорится, хватил лиха на своём веку. С четырёх лет без матери. Отец тоже вскоре погиб. Военное детство. Но с помощью государства даровитый мальчик вышел на дорогу искусства. После художественного института в конце пятидесятых годов много путешествовал. Прошёл Ангару, Лену. Видел лагерников и бесчисленные следы бывших лагерей.
Около десяти лет (шестидесятые годы) правдивые картины И. Солдатёнкова аттестовались нынешними ярыми «перестройщиками» как неприемлемые, чуть ли не антисоветские. По этой причине в МОСХ целых десять лет тянули с его приёмом в члены Союза художников. Тем не менее он не уехал за кордон подобно иным деятелям кино, театра, изобразительного искусства. «Как можно было хоть однажды подумать об этом, – вскидывается Игорь Алексеевич, – Россия – моя родина. Единственная. Ей изменить? Никогда!»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?