Текст книги "Бестселлер"
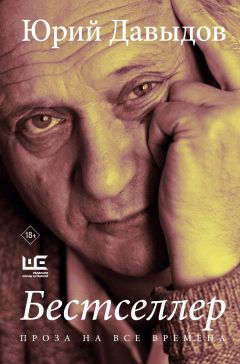
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 36 страниц)
Книга вторая
* * *
Жил Сталин в Петрограде жильцом у Горской. Она, вдовея, словесности учила гимназистов. Роль секcуальности в аспекте социальной революции мной не изучена. Интересно вот что: какой должна быть женщина, чтоб и десяток лет спустя питал к ней чувства добрые товарищ Сталин?
Известно, доброта, как гений и злодейство и т. д. Однако вечны ль истины высокие и те, которых тьмы? Недавно в Петербурге, в филармонии исполнили в один светлейший майский вечер два “Реквиема” – Моцарта и Сальери. Само собой, успех имел Моцарт. Но зал восторженно и бурно отозвался и на сочинение Сальери. Смущенным, сумрачным ушел к себе на Мойку Александр Сергеевич.
Что делать? Отвергнуть преступление Антонио Сальери. Или признать совместность, отвергнутую Пушкиным. Я изнемог в гаданьях на кофейной гуще. Да и признал, что доброта, пусть единично-штучная, случалось, забредала в сталинскую душу. А почему бы нет? В конце концов, он на Антихриста не тянет.
Груб, властен и капризен? Все это замечали и без ленинского “завещанья”. А вот, мне кажется, не замечали ни чуткости к созвучиям, ни тревожно-впечатлительного обоняния, куреньем не отупленного, ни обаяния, внезапно, но не беспричинно возникающего.
Все это объявилось, когда ему в Кремле сказали: “Горская…” А в Гори тетушка Нателла, не говоря ни слова, купила ему новые калоши взамен украденных, и он, семинарист, назвал ее вдовицей истинной и у нее отведал русских щей, приправленных горийским чесноком. В Кремле сказали: “Горская из Ленинграда…”, – ответил: “Пригласите”.
Она была прямой и сухопарой, прическа гладкая, в неяркой седине белел прямой пробор. Спросила, можно ль звать, как прежде, без отчества. Ответил, да, конечно, можно. Глаза – янтарь и черный ободок – светлели. Она спросила: “А щи по-прежнему?” Ответил весело: “Колбаски покрошить и чесночку добавить”. Она смеялась, он вытолкнул “хэ, хэ, хэ”, спросил с иронией: “Вдовица истинная ждет покровительства судьи?” (Тов. Сталин цитировал Евангелие от Луки: вдова просила о защите у судьи, который не боялся Бога, а людей нисколько не стыдился. Судья не отказал, но при условии, чтобы она уж больше ему не докучала.)
Иосиф ходил по кабинету. Горская, сидя в кресле, рассказывала. Дочь Наташа, она биолог, ну, совершенно аполитичная, а ее арестовали. Она, поймите вы, Иосиф, Наташа не умеет показывать напраслину и на друзей, и на знакомых; а эти люди лишили Наташеньку прогулок, передач. Он выслушал, сказал: “Попробуем помочь вдовице истинной, чтоб больше не докучала нашему Политбюро”. Зубы уже желтели от никотина, а ведь какие белые, белые были зубы. Сказал: “А вот сейчас все и решим” – и приказал какому-то сотруднику вызвать какого-нибудь руководящего сотрудника из ленинградского ОГПУ. Вызвали. Он, прикрывая рот ладонью, проговорил всего-то-навсего два, три слова. Горская расслышала: “И нэмэдлэнно”.
Она стала благодарить, всплакнула, он проводил ее до дверей, попрощался: “До свиданья. Не забывайте Иосифа”.
Не забывайте? Как его забудешь! Когда тов. Сталин убил тов. Кирова… Недавно по ТВ нам все до конца объяснил какой-то одуванчик в беретике, с гвоздичкою в руке: убил, мол, “в смысле классовой борьбы”, – тогда возникло в Ленинграде то, что называлось “кировским потоком”: ты каплей льешься с массами и в ссылку, и на пересылку. Горская, ее дочь подлежали остракизму. Она дала знать тов. Сталину. И грозный судия распорядился: не смейте трогать, оставьте-ка в покое. А прочих – прочь. Он Ленина любил, но Ленинград он не терпел. С тех самых дней, когда вернулся из Сибири и нашел приют у Горской. Она словесности учила в какой-то из гимназий. Имела дочь-красавицу лет девятнадцати.
Тогда тов. Сталин много думал о “деле Малиновского”. Он звал его, как и Ильич, “мой дорогой Роман”. Они были знакомы до войны. До первой мировой, конечно. Переписывались. Зимуя в столице вальсов Штрауса – Шенбруннер Шлосстрассе, 30, – Иосиф извещал друга Романа – Питер, Мытнинская, 25, – “Я все еще сижу в Вене и пишу всякую чепуху”. Выполнял поручение Старика, писал о марксизме и национальном вопросе. Знаете, спрошу вас, знаете, сколько из этой чепухи докторских диссеров настрогали? Ну, то-то. Скромность, говорил тов. Сталин, украшает большевиков.
Он был на “ты” с тов. Малиновским. Вацлавыч успешно двигал Виссарьоныча в ЦеКа. Задвинул плотно, навсегда. Письма из Вены и не из Вены тональностью были с исподу на меду. А содержанием не теория, пусть тешатся евреи и дворянчики, нет, практика партийная. Партийные заботы тов. Сталин излагал так, чтобы сразу был виден человек “верхушечный”, осведомленный о всех решениях подполья. Кому, собственно, виден? Не только Вацлавычу, не только. Письма-то шли обычной почтой, расчет имели не совсем обычный – на черный кабинет, на перлюстрацию. Пусть там, где надо, не забывают: не только Малиновский свет в оконце. И верно, не один же Малиновский имел расчисленные рандеву с бо-ольшими из Департамента полиции в ресторанных укромных комнатах, где запах бурных соитий, а за стеною фортепианы. Нет, там бывал и Виссарионыч. По зову Виссарионова.
Хоть тот еще и не старик, а в черной бороде проседь. Всегда он бледен. На высоком лбу от лампы блики. И эти белые, как алебастр, руки. Юрист Евлампий Петрович дипломированный, московской университетской выделки. Как Муравьев или Домбровский. Но линию избрал другую, заглавным был в секретном сыске. Говорил, как Флобер: “Наше дело наблюдать”. И благородно прибавлял: “Но не подстрекать”. Насчет последнего позвольте усомниться. В делах подчас ни буквы и ни духа г-жи Законности. Вацлавыча он заарканил банально, грубо. А с этим-то грузином и вовсе обошлось без всяческих затей. Честолюбив и зол, хитер; его язвит и зачисление по третьему разряду; так сам предполагает и, пожалуй, без промашки. С ним не возились. Как говорится, по собственному желанью. А дальше дьявольский извив: подкоп повел под дорогого друга – мол, этот Малиновский вам не друг и не сотрудник, он предан Ленину-Ульянову. Вопросец выставляет тов. Сталин по-ленински, как тот манерою Азефа: кому приносит больше пользы – революции иль Департаменту?! Вот вам и буква, вот вам и дух подполья, келейный дух. Но короток державный глазомер. Был Малиновский предпочтен тов. Сталину. И Кобу, дабы охладил свой пыл, угнали за Полярный круг.
Но вот заре навстречу вернулся он из Туруханки, нашел приют у истинной вдовицы. Покоя нет. Причиной не партийные докуки, не статьи для “Правды”, не заседания ЦеКа. Покоя нет: здесь, здесь, здесь изъят архив ДП, департаментский, полицейский. Интеллигентики сидят в Комиссии, в ЧеКа, вертят, крутят, ворошат. Виссарионов за решеткой, дает он показания. Конечно, сам Вацлавыч далеко – он пленный унтер, спасал отечество-царя. Как жаль, что не убит. А ты ходи и озирайся, откуда чертом выскочит ужаснейшее обвинение: из упраздненного ДП с его архивом иль прямиком от Виссарионова, ухватит белыми руками за черно мясо. Ходи и озирайся, унимая дрожь, испытывая тягу к Бурцеву. О, Бурцев знает много; изобличитель, он публикует списки, он человек опасный. А ну как что-то уже вынюхал? И все ж тов. Сталину хотелось встречи с Бурцевым. Какая-то томительная тяга, какой-то острый риск, а вместе тайная надежда ублажить и даже пригодиться… Зудит проклятый псориаз. Бледнея, чувствуешь на лице рябинки, и возникает ощущение какой-то каши-размазни. А все-таки помедли. Гляди-ка, муравьевское ЧеКа по делу Малиновского к допросу вызывало пархатого Зиновьева и Ленина, еще других, а вот тебя-то не позвали, и это хорошо. Нехорошо, однако, что ферзем не числят, числят пешкой… Зачем возобновлять знакомство с Бурцевым? Хэ, осведомиться, куда девался тот мальчишка, который в Монастырском изобразил тебя Иудой?.. Он медлил, потом решился… Припахивало тонкой сизой гарью: за городом слоились сланцы, курились мхи, болота прели, слонялись и болотные огни, он шел, напоминая мне асмата, новогвинейского асмата, который тайно от миссионеров чтит Иуду… Припахивало гарью, и небо начинало мглиться… Пришел. Поднялся во второй этаж иль третий. В редакции “Былого” кончалось заседанье соредакторов. Сидел в прихожей, ждал, курить робел. Ну, кажется, закончили, стулья отодвинули. Вминая половицы, шел к выходу громаднейший историк Щеголев. С ним рядом – Водовозов; он был когда-то мне очень симпатичен, имел он замечательное собрание газетных вырезок на дюжину различных тем; бедняга, после Октября не вынес он чужбины в златой Праге, с собой покончил… А следом г-н Тарле, еще не академик. Костюм из белой чесучи, светла соломенная шляпа, он направляется на дачу – в Сестрорецк или Мартышкино? Он, как и другие, на Сталина не глянул. Нет, не дано Тарле предугадать, что именно тов. Сталин, ненавистник иудеев, его, еврея, не даст в обиду тридцать лет спустя. Нет, не взглянул, спешит он в Сестрорецк, а может быть, в Мартышкино, а лучше бы мы снова сидели на веранде в Мозжинке… Ушел. И в ту минуту – дискант главного редактора, дискант Бурцева: “Прошу, прошу. О-о, здравствуйте…”: узнал, прихлынуло оттуда, из Монастырского, расположение к невзрачному грузину. Как бишь его?
В.Л. приветливо взглянул на гостя. Тот молча выразил почтительность: я младший, а вы, Владимир Львович, старший. Но… Черт дери, он, Бурцев, нравственного права не имел питать расположение к рябому: рябой-то был из шайки Пломбированного. Однако и тов. Сталин нравственного права не имел питать почтительность к бодливому Козлу: ведь Бурцев громче всех и неустанней кричит о Ленине-шпионе, о немецких деньгах, о генштабе кайзера.
И получилась пауза.
Там, в колодезном дворе, ломовики дрова валили в сарай-дровяник. Оттуда, снизу, поднимался дух березняков и ельников, тотчас одна и та же мысль: хорошо летом за городом. А рядом, ниже этажом, пальчиками слабыми ученица повторяла экзерсисы; тов. Сталин неодобрительно прицокнул. И оттого, как это ни покажется вам странным, он решился, что называется, нащупать почву. Спросил фальшиво-равнодушно, уж не грозит ли Ильичу арест? Не шутка, мол, шпионство, финансы от генштаба вражеской страны… Конечно, Бурцев ногами не затопал; напротив, рад был: член большевистского ЦеКа, а понимает – спасение России в аресте Пломбированного… Да, он, Бурцев, ждет, он добивается… Народ свободной родины имеет право на расследование всей деятельности Ленина. Чего ж ему на суд-то не явиться? Он, Бурцев, перед войною не боялся царского суда. Как можно социалисту бояться Демократии?! Вскочил и руки на груди скрестил. Пусть этот член ЦеКа большевиков ответит.
Болота финские, Ингерманландские, наверное, сменились вдруг Гвинейскими. И прели, и пускали пузыри размером с бычье око, и колыхались, будто бы всплывали динозавры, рисует динозавров внук мой Саша, но он не знает про асмата. Тот осмотрителен, всегда найдет надежное прикрытие и нападет внезапно.
Тов. Сталин был мастак на паузы. Он знал в них нетеатральный толк. Он знал, что ведь молчать-то можно об очень многом. Потом сказал… Одну минуту, извините. Престранность двойственного впечатления. Глаза его казались мне задраенными, как у полковника Макмиллана, шпиона; из-за него ваш автор безвинно натерпелся на Лубянке. Глаза-то, говорю, непроницаемые, а вот лицо – оно, как и всегда, невыразительное, вдруг промельком имело сходство с г. Сталинским. Не знаете? Да где ж вам знать? Такой был прокурор в Баку, служил, да и попал под суд и за растраты, и за подлоги. Тов. Сталин и г. Сталинский, я полагаю, в родстве не состояли, но что-то общее мелькнуло. Извините… И вот тов. Сталин, на Бурцева не глядя, говорит неспешно, весомо, вдумчиво: конэчно, надо нам поднять перчатку, которую вы нам бросаете, Владимир Львович. То есть товарищу Ленину надо в суд явиться, я подал голос “за”; остальные против: расправятся с товарищем Лениным еще до суда… Теперь уж он, тов. Сталин, сдвинув брови, смотрел на Бурцева в упор и повторял упорно: расправа не исключена. Она возможна и без ведома правительства. А? Почему бы нет?
Бурцеву было не по себе, нехорошо.
* * *
Иные полагают, что началом Новой Эры был этот День: просторно, холодно, высоко, грозно; Нева катает волны, как на прокатном стане, а на Неве красивый крейсер, одноименный с розовой богиней утренней зари. Нет, в нашу прозу с ее косоглазием забрел октябрьский денек невзрачный и вроде бы бельмистый.
Облачно. Температура плюсовая, до четырех. Юго-восточный ветер в секунду метров пять. Осадки слабые. И никаких вам аллегорий. Преобладает смесь кислятины, махорки, пота. Гауптвахтой и подвалами припахивают бухлые бушлаты, шинели, кацавейки. И бесконечный бисер, бисер мороси на чугуне, граните, на торцах и на булыжнике, на бемском и простом стекле. И мрак, и морок, и мираж. Все зыбко, знобко, зябко. И склянки на кронштадтских кораблях, бьют тупо, кратко. Матросы, собираясь на берег, не заправляют брюки в сапоги; матросы, попирая правила, выпрастывали клеши поверх сапог, пускай метут. Кливер поднят, за все заплачено; кто поперек – гляди-ка, за борт.
Не ведал Бурцев точно, в какой денек приспеют сроки, но жил он ожиданием беды. Ужасно нежелание правительства изъять из обращения Ленина-Ульянова.
Казалось Бурцеву, что он предвидит многое. И оказалось, что он не видит у себя под носом. Ему и невдомек, что вечером к подъезду дома на Литейном подадут мотор Его Величества.
Ах, ах, Владимир Львович, вы с этим-то авто бы разминулись, когда бы ужинали в “Европейской” с Мими или Зизи. Да, проститутки. Однако ведь не политические, как Каменев, Зиновьев. А между тем… а между тем там, в “Европейской” с Мими, с Зизи, там ужинал Васильев, флота лейтенант, давно и коротко известный автору.
Вкус и манеры у Мишеньки, сына нашего консула в Нагасаки, были отменные. Говорил: лучше нашенских, таких аппетитненьких, и в Гонконге не сыскать, а там в борделях устроили недавно большущие вентиляторы, лопасти большие, плавные, как опахало, над вашими, извините, ягодицами струится не то эфир, не то зефир… Дело, как вы, надеюсь, сообразили, не в ягодицах. Девицы спрашивают приятелей, Васильев не один был, а где же, господа, последует то, что следует после ужина? Им ответили – недалеко, на Мойке, у Синего моста. Это, говорят, хорошо. А то, говорят, на Васильевский не попадешь, на Петроградскую, может, тоже, да и вообще… Вот это-то “вообще” и было тайной большевистского переворота, выданной Зизишей и Мимишей: Ленин какой-то мосты разведет, и телефоны перережет, и почту, ну, еще что-то, и это правильно, потому что “временные” давно всем надоели…
Как видите, и лейтенант Васильев, и его приятель были загодя оповещены о начале Новой Эры. А Бурцева Владимира Львовича в тот же вечер арестовали.
Их было полдюжины с винтовками без штыков. Все рослые, на кронштадтских харчах – довоенного запаса – хорошо выкормленные, аж лоснятся. Бушлаты нараспашку; клеши широченные, ремни брючные отличнейшей кожи; сколько бы подметок вышло для ребят; а бляха на ремне, медная бляха так, чтобы бывший орел вниз головами находился; патронташи не по-флотски через плечо, а по-солдатски на ремне. Старший в кобуре маузер держал, а раньше маузеры полагались лишь офицерам-подводникам или командирам торпедных катеров, а этот, вишь, с минного заградителя “Амур”, при маузере.
Минуты не теряя – свистать всех наверх, – кинулась балтийская краса и гордость производить шмон у контры, а молодой обладатель маузера солидным баском осведомился: “Вы граждин Бурцев?” – и предъявил гражданину Бурцеву В.Л. машинописный приказ об аресте, подпись и печать военно-революционного комитета. “Ишь ты, – устало ухмыльнулся гр. Бурцев В.Л., – всё, г-н матрос, по форме, как при царском режиме”. “Эт точно, – весело согласился г-н матрос с «Амура», – еще счас поедем, как при царе”. И точно, у подъезда на Литейном большой, тяжелый, надежный и элегантный автомобиль. “Вот, – все так же весело объявил владелец маузера, – вот, гражданин Бурцев, прислан за вами. Садитесь. А прежде на нем Николашка ездил”.
* * *
– А потом, знаешь, кому достался? – спросил Дорогов.
– Не музею ли Революции?
Дорогов усмехнулся. В том музее, сказал, поставили карету Александра Второго, по которой народовольцы-то бомбой шарахнули… Было видно, что мой собеседник презирает террор. Индивидуальный, мелкобуржуазный. Нет, продолжал бывший матрос минного заградителя “Амур”, нет, Николашкино авто досталось Зиновьеву. Он возглавил Петроградскую коммуну. Разъезжал, тоже мне коммунар. Медвежья полость, как барину, ножки грела. Ну, и доездился! Колька Ежов две пули в бумажку завернул, вроде бы как на память сохранил. Одна досталась Зиновьеву, другая Камневу… Про Кольку Ежова потом… Куда Николашино наследство после Зиновьева делось, понятия не имею. Я что хочу тебе сказать? Зиновьев – враг народа? Враг! Оттого в царскую машину и забрался. Теперь обрати внимание: товарищ Сталин кто? Нутром коммунист, настоящий. Скромность, говорит, украшает большевика. В Кремле-то не занял царские палаты. А-а, знаю, знаю! На “паккарде”, говоришь, ездил? Лет десять ездил, это так. У-у, брат, шесть тонн весом, махина бронированная. И стекла с палец толщиною. Шесть тонн, семь мест, сам видел. Ну и что? Не вместо царя, а на своем месте. “Паккард” от всей Америки, от Рузвельта подарок, Советскому народу-победителю. Тебе, что ли, ездить…
Собеседником моим был тот самый матрос с минного заградителя “Амур”, тот самый обладатель маузера, висевшего на тонких прочных ремешках-пасиках, который и произвел в доме на Литейном арест Бурцева.
После гражданской, а воевал Алексей Александрович и на Северах, и в Крыму, подался он в Москву, москвич был, зажил в Подколокольном переулке, в местности некогда достославного Хитрова рынка. Тут-то мы и беседовали. Само собою, не без 0,5. И происходило вышеуказанное уже после кончины тов. Сталина и упразднения тов. Берия. Позднее лето стояло прочно и ясно. Кто-то играл на аккордеоне; понятное дело, изъятом у фашистов и доживавшем свой музыкальный век на московских задворках, не имевших “шарма”, как, скажем, арбатские, а имевших словно бы тлеющий запах жулья, пропойц, шулеров, марух, отставных бандерш и стукачей сыскной полиции, выведенных за штат.
Круглая голова бывшего председателя судового комитета обросла седым ежиком; круглое твердо-бурое лицо имело две-три грубо-мужицкие морщины и никаких паутинных сеточек.
Я разыскал его, так сказать, “по делу Бурцева”. А когда увидел, сразу и подумал о Володе Шилове, покойном друге дней моих суровых. Такой же нос чижиком и белесые брови вразлет. Стоим на пирсе в Балаклаве. Там совершенно секретно от ясельных младенцев швартуются подводные лодки. И вместе с ними всплывает в памяти Володино присловье, вмещавшее едва ли не весь спектр офицерской службы: “А… им в горло, чтоб голова не качалась!” Похож, похож был Володя Шилов на Алексея Дорогова. Однако последний пламенел идеями социализма на много градусов выше, нежели первый.
Дорогов, посадивший Бурцева в Петропавловку, и других туда же доставил. Вчерашний ненавистник дисциплины корабельной теперь боролся за дисциплину городскую. По его мнению, все вопиющие нарушения происходили не оттого, что стихия гуляла, а потому, что все и вся исподтишка учиняла контрреволюция.
Вот ты говоришь, говорил Дорогов, хотя я ничего не говорил. (Между прочим, весьма распространенный способ собеседования, не уступающий сократическому.) Вот ты говоришь, говорил он и продолжал костить “Аврору”, легендарный крейсер. Слава и символ, ежели по справедливости, должны принадлежать минному заградителю “Амур”. Ты возьми, объяснял Дорогов, погром винных подвалов. В Зимнем. Это кто?! “Аврора”! – вот кто. Орали: “Допьем романовские остатки!” А мы?! А наши-то с “Амура” – ни капли. Наши – сознательность. Мы у этих, с “Авроры”, бутылки отнимали и бутылки об бутылки били, так что ручьи ручьились. Погуще, посильнее, чем на Фурштадтской, из магазина Черепенникова – красные и зеленые, ликер, понимаешь ли, а тут прямо радуга, да и только. А ты говоришь: “Аврора”, “Аврора”… Вконец расстроенный всемирной известностью крейсера, Дорогов по какой-то филиации, известной только ему, обрушился на Фурцеву, тогдашнего министра культуры: “Губы красит, а еще коммунистка”. Моя робкая попытка защитить – мол, губная помада не помеха убеждениям – не имела успеха. Он стал рассуждать, как троцкист, о разложении кадров. А мне хотелось взять ближе к моим сюжетам.
Дорогов брал, оказывается, и Пуришкевича. Пояснять надо? См. сноску. Брали его в гостинице “Астория”, тогда офицерской. Он там скрывался. Голомозый, на башке шишка. Матерился страшно. Дорогов повез его на извозчике (!) в крепость. Чем она ближе была, тем больше мрачнел голомозый. Вдруг и говорит: “Слушай, матрос. Вот тебе деньги, передай моей женщине, она сестрой милосердия в таком-то лазарете”. Я об этом даже и прапорщику Благонравову не сказал. Улучил часок, отвез. Красавица! И никакой тебе помады. Хотел отобрать расписку – не посмел.
А прапорщика Благонравова, интеллигента, поставили начальником комиссии по борьбе за революционный порядок в Петрограде. Отличный был товарищ, вежливый, решительный. Он потом в ГПУ важный пост занимал, с Артузовым – знаешь? – дружил. Ну, и что же думаешь? А чего ж надумаешь, Колька Ежов расстрелял. Он когда в Социалистической академии учился, бывало, налижется и в комендантской, я комендантом служил, так он у меня и дрых. Мозгляк, соплей перешибешь, щуплый, на одной щеке крест-накрест шрамы, физия какая-то треугольная, и чего это в нем товарищ Сталин обнаружил?.. Обознался, да быстро понял, в расход пустил.
Наконец занялись Бурцевым. Очень он Дорогову не нравился. Сука кусачая! Чего он только товарищу Ленину не шил. А везли-то мы его, я тебе говорил, по-царски. Да чуть было не прикончили, это уж на Троицком мосту было. Стрельба поднялась и ружейная, и орудийная. Ты говоришь – “Аврора”, “Аврора”… Вот тебе и “Аврора” – трехдюймовочки от стен Петропавловки – через реку – по Зимнему. И в этих трехдюймовочках – ни капли компрессорного масла. Понимаешь? А? А то надо понимать, что Революция побеждает и без масла. Компрессорного… Так вот, видишь как, на мосту, до Петропавловки рукой подать, а нас пулеметная очередь чуть не срезала. То ли наши, то ли не наши, а как влупили… Ночь была мягкая, темная, будто ветошью обложили, луны не было. Какие-то вспышки, крики, кто-то из моих ребят и говорит: оплоту контрреволюции каюк. А этот твой Бурцев голосочек, видишь ли, подает: да, гибнет Россия, дети ваши дорого расплатятся… Пулемет по мосту шпарит, прожектор щупает, однако товарищи-то мои правильную реакцию на этого Бурцева: а чего, мол, с им возиться; головой вниз с моста, и концы в воду. Не, я команду даю: ложись! – все ничком, его положили, за руки, за ноги держим… Ну, дальше не буду. Скромность большевиков украшает, а эта Фурцева губы мажет… Мы твоего Бурцева – смотри-ка на одну букву разница: Фур и Бур…, невзирая на пулеметный огонь, в крепость, в тюрьму доставили. А чего он там дальше, это бы Павлова найти, он, может, знает. А может, и не найдешь, кокнули, в Могилевскую губернию отправили.
Спрашиваю: значит, мой Бурцев – первый зек Новой Эры?
Отвечает: вот-вот, а ты говоришь “Аврора”.
И рассмеялся, славно так рассмеялся. Что-то вдруг простодушное высветилось на круглом твердо-буром лице.
* * *
В тюрьме Трубецкого бастиона первого зека Новой Эры следовало вместе с тем считать и ветераном. В.Л. сидел в крепости и при Александре Третьем, Миротворце, и при Николае Втором, Кровавом, он же впоследствии Государь-Мученик. Солдат-стражник Бурцева вспомнил, горестно подивился: вот тебе и революция – “Они и вас арестовали”.
Пушки-то били рядом, ну, совсем рядом, чуть ли не в тюремном дворике. Там деревца были, памятные В.Л. Нет, не деревца – тридцать лет минуло – деревья, кронами повыше крыши бастиона. А пушки, трехдюймовочки, как и говорил мне Дорогов, стояли на невском берегу, в нескольких шагах от крепостной стены, на которой спустя десятилетия 7 ноября возникала надпись, буквы белые саженные: “Слава КПСС”. Потом пушки утихли, слышалась пальба ружейная и пулеметная, как недавно на Троицком мосту, над Невой, хотя и невидимой, но принимаемой чувством, таким же тяжелым и черным, как сама река, готовая принять и заглотнуть тщедушного человечка, похожего на козелка-перестарочка. Затишье не было долгим, но казалось-то бесконечным, потому что первый зек Новой Эры страстно хотел убедиться в поражении Пломбированного.
И вот в тюремном коридоре послышался шум, топот, стук прикладов, лязг засовов, хлопанье дверей… Солдат-стражник неурочно принес Бурцеву кружку кипятку – и от себя, впридачу, кусок сахара. Принес, объяснил давешнее движение, шум, топот: министров Временного правительства переместили из Зимнего в Петропавловку.
Там он и встретил Рождество. А в новогоднюю ночь вывели из Трубецкого бастиона. Ночь была ясная, лунная, тени резкие, аспидные. На расстрел шел? Нет. Некоторых арестантов уже отпустили, некоторых, сильно занемогших, определили в городские больницы, а некоторых, его в их числе, переселяли в Кресты. Что за притча? Оно так вроде бы и притча: кто-то в Смольном дрогнул пред известиями о том, что гарнизон Петропавловки, тюремная стража во главе с бывшим писарем большевиком Павловым (не ошибался Дорогов, правильно указал: ищи Павлова) так высоко держит пар, что вот-вот учинит самосуд над заключенными.
Сидела в Крестах публика крупного калибра. Сановники царские, министры “временные”. Разнопородные социалисты. Пуришкевича тоже из Петропавловской доставили. Сидели и тузы политического сыска. Все они дожидались, когда их перекрестит немилосердный красный крест.
Все они жадно, торопливо общались друг с другом, разговорами и перекорами стараясь заслониться от этого красного возмездия. Сколь бы ни были пестрыми политические пристрастья, в одном сходились – в ненависти к ленинцам, к большевикам, “пломбированным”. Каждый, не колеблясь, скомандовал бы: “Патронов не жалеть!”
Министр юстиции Щегловитов, тот, что упек Бурцева в Туруханку, встречал В.Л. в тюремном дворике, моргал медвежьими моргалками, жевал губу, старался “взять шаг”, то есть идти в ногу, дудел, дудел: Владимир Львович, виноват пред вами, но больше – перед родиной за то, что вовремя не расстрелял ни Ленина, ни Троцкого. И, упадая голосом, лицом – теперь вот сам сижу и жду расстрела. И Бурцев отвечал с оттенком философическим: Иван Григорьевич, извините, расстрел министра Николая Второго – невелика потеря для России, но ваша-то ошибка действительно престрашная.
Вот так же думал и Белецкий. Его, как и В.Л., переместили из Петропавловки в Кресты. Они соседями сидели, нет, лежали, в тюремном лазарете, каковые тогда уже ласково именовали “больничками”. Вот эта ласковая нота была так внятна, так трогательна всем зекам эры Сталина. Известно, все они были оборудованы “по первому” слову техники, как говорил бандит с угрюмым прищуром стального глаза и лирик-гармонист Вася Горностаев, приятель мой и покровитель.
Больничка плохой быть не могла. Она была только хорошей, как и водка. Во-первых, какая свежесть перемены барачной тесноты и вони на относительную свежесть скуднейшей из палат. И пахнет ведь не только преющей одежей иль газами кишечника, а самое-то главное: вдруг возникает обманчивое ощущенье заслона от стукачества. Ну вроде бы как за хребтом Кавказа. И ты охотно благорасполагаешься к соседу. И замечаешь, ах, Господи, как всем нам недостает благорасположения друг к другу.
Соседом В.Л. – койки на расстояньи локтя – был Белецкий, бывший директор Департамента полиции, а потом и товарищ министра внутренних дел. Джунковского сменил. Генерал считал Белецкого большим мастером втирать очки. А Блок, поэт, отмечал у Степана Петровича мужицки грубую память. Что сие значит, ваш автор смекнуть не может. Но следует отметить, что именно эту память Белецкий, еще в пору допросов муравьевской ЧеКа, вытряхивал торопливо, вытряхивал, угодливо опережая вопросы следователей. Очутившись однажды в карцере – это еще в Петропавловке, – кругло-брюхастенький Белецкий громко стенал. Заключенные, предполагая пытки, содрогались; особенно фрейлина императрицы, несчастная Вырубова. Вернувшись из карцера, Степан Петрович, по обыкновению, втирал очки, заверяя, что к нему в карцер пожаловал святой черт Гришка Распутин.
А здесь, в Крестах, Бурцева будили его глухие рыданья. И это уж Белецкий очки не втирал – ему снились дети. Несколько месяцев спустя Белецкого расстреляли.
Что сталось с детьми? Знаю лишь, да и то по слухам, что племяннику директора Департамента полиции как-то втихую покровительствовал Сталин. Коли охота есть, пораскиньте мозгами, сопоставляя сроки руководства Белецким спецслужбой и хождения Сталина окрест Малиновского.
Белецкий, оказывается, уважал Бурцева как достойного противника. И признавал, еще будучи в кондиции, то, на что заурядный службист не решился бы. Говаривал Белецкий: мы, господа, должны быть признательны Бурцеву: его изобличения побудили нас к агентурным проверкам, а эти ревизии выявили, какие из наших секретов уже не секреты.
Ау, Женя! Нет, ты не матерись, Черноног. Тебя, подполковника, на Лубянке за что жучили? А за то, в частности, что ты, слушатель военной академии, притащил в общежитие конспект организации армии США. Должен был сдать тетрадочку в спецчасть, а ты – в общагу. Майор Сурский в Лефортове зубы-то и оскалил: ты, Черноног, хоть и был артиллерийским разведчиком, но оказался преступным ротозеем: по твоей, вражина, тетрадочке опытный шпион империализма легко установил бы, какие ихние секреты для нас не секреты. Понял?! Жень, а Жень, да они, может, и правы, а? И действительный статский советник Белецкий, давно расстрелянный, и майор Сурский, давно пенсионер.
В отношении Белецкого к Бурцеву замечаешь то, чего в отношении белобрысого майора к чернявому подполковнику и в микроскоп не разглядишь. Первый уважал горячего, сильного пропагандиста войны до победного конца. Второй не уважал офицера, увенчанного победой. Сурский и его сотоварищи, готовые ежечасно грызть друг другу глотку, все эти героизмы-патриотизмы славословили вслух яко массовые. Втайне же полагали благим воздействием на массы – штрафбатов, заградотрядов, трибуналов. Звучал, но под сурдинку, и мотив самооправдательный: вот ты там был, а сука; я там не был, но честный защитник отечества.
Освобождение Бурцева из Туруханки, а тамошних “пораженцев” от Бурцева подвигло Степана Петровича на хлопоты о постоянном его петроградском проживании. Противились не участковые и даже не генералы известного значения, нет, председатель всех министров. А Белецкий не осекся, не проглотил язык. Вместе с тем, нечего греха таить, ежели грехом считать прямое исполнение служебных обязанностей, вместе с тем Белецкий, продолжая хлопоты, в параллель с ними установил всепроникающее наблюдение за давним недругом царя и государева правительства. Особенно интересовало Белецкого, кто, какие круги финансируют Бурцева. Собственно, задавался он той же задачей, какой задавался Бурцев, присматриваясь к Пломбированному.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































