Текст книги "Бестселлер"
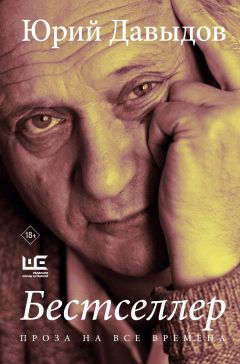
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц)
– И не тянет вас ноги унести, а?
– Свыкся. Да и правду сказать, полюбил здешних. Ну, ровно дети. А сперва жуть брала. Вьюга встанет, ничего не видать, жутко. Ну, думал, брошу все, убегу из этой белой могилы. Отец Петр удержал: не бросай их, врачуй недуги телесные, сколь можешь. А сам он души врачевал. Расстояния, сами знаете, немереные. А он – с котомочкой: запасные дары несет.
– Один?
– Как можно? Я б его одного не пустил!
– Так кто же с ним? Уж не вы ль, Сергей Гаврилыч?
– Гм… Ну-у…
– Вы, что ли?
– А кому ж еще. Был безотлучно.
Лекарь умер. Священника о. Петра, жалобщика по начальству, отправили в какой-то монастырь на послушание.
Камаев, обер-аудитор, расследовал по высочайшему повелению дело о людоедстве. Выехал тайно, дабы предварить намерения местных властей. Видел, как люди с голоду поедали друг друга. Семья из шести душ вся вымерла. Сперва старшую дочь съели, потом сына прикончили, его мясом кормились, потом другими трупами насыщались. От сей пищи лишились жизни.
– Господи! А где ж казенные хлебные запасы?
– Да на поверку-то всего-навсего сорок пудов оказалось. Рапортовал начальству. Мне же и устрашения пошли: мол, жди погибели.
– Таких, как вы, в Петербурге прежде “ябедниками” называли.
– Вот, вот. А вы попробуйте-ка при моей-то должности взятку не взять…
– Не взять?
– Именно. Приходит купец. Просит “устроить” раздел имущества с братом. Ну, и предлагает барашка в бумажке. Спрашиваю: “А по правде поступить не можешь?” – “Так ить проволочка большая. У брата ж и так добра выше головы, кой ему ляд наследство?” Нет, говорю, не возьму. Ушел. Попил я чаю, выхожу в сени. Глядь: на табуретке узелок. Ударился догонять, ушел, нету. Посмел, понимаете, мне взятку сунуть! Кое-как отдал. Рассказал братии своей. Что ж думаете? Житья не стало. Так и подрезают подметки, даже и в Петербург сообщили своим знакомцам, столоначальникам.
О купце Скорнякове.
Спасая вымирающих иноплеменников, все свои торговые хлебные запасы безвозмездно передал, а когда их не хватило, пустил в распродажу и недвижимость.
– Кто вас, Иннокентий Васильевич, на сей путь наставил?
– Не ведаю. Но Камаева большая часть есть. Я о ту пору находился в Туруханске. Заехал он ко мне, возвращаясь в Енисейск, всякие страсти рассказал. Я не поверил. Он говорит: возьми нарты, съезди, убедись. Ну, думаю, гляди у меня, Камаев, не так уж я и прост. Поехал в улус. Приезжаю. Батюшки-и-и, юрты разметаны, песцы с визгом разбегаются – рыла красные, в крови. Все перемерли, тунгусы, остяки.
Рогачев, конторщик купеческой конторы в Енисейске.
Одевался просто, жены не имел. Женатый не волен в духе своем. Постоянно спорил с сослуживцами, людьми разных сословий. Все эти споры непременно кончались великой печалью о греховности людской, позволяющей бесам ликовать. Составил свой молитвослов:
О, Иисусе Христе, Сыне Божий!
Помилуй раба грешного Ты,
Внемли его скорбям и воплям,
От аггелов Сибирь Ты спаси.
Стал на площадях говорить, народ собирал: “Пора бороться с силами адовыми, пора мир от грехов очистить”. Купец, у которого Рогачев служил, увещевал: “Полно, Илья. Не хули явно при народе правителей наших”. Отвечал: “Воля ваша, Петр Тимофеевич, не могу. Я мысль укрепляю, что с неправдой бороться надо, а не потрафлять ей”. – “Ой, в беду попадешь, Илья, страшную…” Потом приходит к этому купцу квартальный надзиратель. “Имею, – говорит, – секретное дело”. – “Прошу садиться и удостоить беседой”. Полицейский офицер сказал: “Уймите вашего конторщика. На базарной площади непотребства возглашал. Я огласки-то не сделал по личному к вам расположению. Теперь еще вот: Рогачев нищих детей повсюду собирает, хибарку нанял, чтоб ночами не мерзли, всякое довольствие покупает”. Лобанчиком ублажил его и обещанием “удержать”. Квартальный удалился. Призвал приказчика. “Скажи, Илья, хороший ты, честный, а зачем норовишь и себя погубить, и мне большие хлопоты доставить, а главное, и детский приют свой разорить?” Отвечает без запинки: “А как же, Петр Тимофеич, терпеть, когда видишь страждущих? Третьего дни пошел на Торговую площадь, вижу, сейчас плетьми станут драть старого человека. Кричу: «Эй, не закон драть старцев!» Стражники на меня: «А ты кто таков?!» Говорю: «Сирых, убогих, старых заступник». «Вот мы тебя, чер-рт!» Тут барабаны забили, все глядеть бросились, им, видишь, куда-а интересно… Я ведь, Петр Тимофеич, не против власти изрыгаю, я ж за правду стою”.
Кончилось арестом. Замкнули Илью Рогачева в узилище, а потом тайно увезли на далекое расстояние да там, в пустыне великой, где камень и снег, бросили один на один с диким зверьем. Безо всяких жизненных припасов.
Смахнул очки В.Л., отер глаза тылом ладони, они опять наполнились слезами. Сквозь слезу на реснице – огонь от свечи плавает, расплывается. В.Л. грозил кому-то кулачком: “А, тухлые вы души, вы говорите: нет святой Руси!”
Буран лег. Ночь настала ясная, наискось обозначилась плотная тень колокольни. Над колокольней, в звездной россыпи витал на ковре-самолете Васёна Мангазейский. Далеко-о видел, все замечал. И даже эти нарты на реке.
* * *
Ездовые собаки, запряженные цугом в нарты, бежали из дальней деревни, по-здешнему – станка, бежали по замерзшему Енисею к селу Монастырскому, путь был верст в двести.
Мы поедем, мы помчимся…
Ветер дул северный, в спину. Наст лежал крепкий, длинный, отчего гоньба получалась легкая и шибкая. Лишь бы этот наст не оказался слишком уж мелким-мелким, как битое стекло: сотрут собаки лапы, изранят, да и долой из упряжки.
Мы поедем, мы помчимся…
Ехал на нартах мужичок нерусский, но и не остяк, и не тунгуз. Завернулся в оленью парку, обут он был в сапоги; назывались они бакарями, а потом, когда блатная музыка вовсю играла, стали – прохарями. Накрылся мужичок романовским тулупом. На голове помещалась большая меховая шапка-ушанка, насунутая на самые брови. Уши держал он завязанными натуго, и вот вам причина, по которой я не сразу признал всемирно-историческое значение человека, который торопил упряжку и восторженно пел на языке, мне не знакомом.
Когда он переставал петь, слышно было трение ледяной корочки березовых полозьев о мерзлый снег, и этот характерный росчерк, содержавший то раздельное, то слитное “р” и “щ”, означал, что мороз, нажимая, перевалил за тридцать.
Мы поедем, мы помчимся…
Как бы, однако, мужичок ни торопился, как бы ни любил он быструю езду, но правила знал, и посему каждый час-полтора давал собакам роздых, себе учиняя перекур. И черта с два вы поймаете меня на ошибке! Ни фига не курил он тогда “Герцеговину Флор”, а курил папиросы “Нора”. А трубкой не баловался. Минуты перекура позволяют мне сделать нижеследующее сообщение.
Видите ли, на кратком биваке, готовясь закурить, этот человек развязывал уши своей шапки и, приподняв одно из них, подносил к папиросе горящую спичку; в такую минуту и пробрал меня нешуточный испуг. Мороз в Москве был сильный, сухой, декабрьский, все как бы пресекало дыхание и скрипело, а колеса орудийного лафета скрипели, казалось, особенно пронзительно, с Каланчевки, от Ленинградского вокзала везли гроб с телом убитого Кирова, за гробом шли мрачные, угрюмые начальники, а первым шел он, убийца, в шапке-ушанке, уши не завязанные, и я, тогда некурящий, почувствовал, как ему хочется курить.
Роздых длился минут пятнадцать – двадцать. Прежде чем гнать дальше, тов. Джугашвили-Сталин проверял надежность поклажи на вторых нартах.
Мы поедем, мы помчимся…
При виде тов. Джугашвили-Сталина не грех было б задаться лингвистическим вопросом на тему: “нарды”-“нарты”-“нары”. Да и Нарым, он там бывал. Но, правда же, язык немел при виде клади на задних нартах: осетр пуда в три! Летом для сохраненья пихали им под жабры влажный мох, сырую паклю; зимой морозы костенили. И эдакую рыбу-царь он вез в подарок царь-девице.
* * *
Казалось бы, что мне Гекуба – эта Вера Д.? Ан нет, сконфужен, хоть виноват я без вины. Сидел себе в архиве, о пакостях не помышлял, да вдруг как будто бы приник к замочной скважине. Читаю документ начала века: “Солдат Мойше-Иуда Губельман живет гражданским браком с дворянкой Верой Александровной Д., 1888 г. рождения”. Сей Губельман был Ярославский. В Серебряном бору я видел, как он гуляет по берегу Москвы-реки: зерентуйский каторжанин, безбожник, не веривший ни в Бога, ни в безбожников. Сивогривый, сивоусый, руки за спиной. А рядом, через дорогу – дача; там он растил цветы.
Но здесь я исключительно о розе. Как дева русская свежа в пыли снегов! Головка белокурая; камея, право. И белый, как снежинка, профиль. Точь-в-точь как тот, что обозначен на бандероли папиросок “Нора”. В присутствии лишь Веры Д. курил их Джугашвили-Сталин. А покупал тотчас же в день приезда в магазине фирмы “Ревильон и K°”. Да, он дымил, молчал, слова роняя скупо. Не мастер говорить он обо всем и ни о чем. Да ведь они ж беседуют об Ибсене, о Норе. Свердлов – цыплячья грудь и трубный бас, утрами бегает на лыжах, говор шибкий, будто шашкою лозу сечет, однако пойди-ка угадай, что он в единственном числе нам все казачество возьмет да расказачит.
Ой-ой, забыл дать информацию, за что и почему актрису Веру Д. столь щедро осыпала пыль нордических снегов.
Загадка для меня ее служенье Мельпомене. Бывала на подмостках МХТ, что в Камергерском? Когда? Не знаю, не уверен. А если да, то, думаю, недолго и без блеска. А путь на норд, в эфиры северных сияний? Тогда воскликнем дважды: о, Ибсен! Нора, о! Ее сослали за храненье нелегальщины? Опять сомнения берут. Сослали в Туруханку? Уж это слишком, согласитесь, негуманно – женщина… Уж так ли негуманно? Дочь Цветаевой туда же угодила – в Туруханку. И тоже, знаете ль, при жизни И.В. Сталина. Как все мы, щепки, леса рубившие для всех лесов на стройках коммунизма. Ариадна жила здесь с полувзводом ссыльных женщин, ударников труда. Она писала письма Пастернаку. На поле снег, над полем вьюга. А в дымоходе подвывает каторга. Да полно нам чернить эпоху. Из Туруханки в годовщину Октября – вот это: “Представляете себе, какая красота все эти алые знамена, лозунги, пятиконечные звезды на ослепительном белом снеге, под немигающим, похожим на луну северным солнцем!”
* * *
Но немигающее солнце скрылось. Взошла луна, похожая на солнце. Летел, спешил влюбленный Джугашвили. Упряжку гнал и пел наперекор ветрам.
Мы поедем, мы помчимся…
Он мчался в Монастырское. Он Веру Д. любил. Она его считала “из Помяловского”: сальный, неопрятный и корявый. С таким об Ибсене не побеседуешь.
Однако нынче он почему-то верил в разделенность чувства. Спешил и гикал, смеялся, хлопал рукавицами. И вот уж в Монастырском лайки лаяли взахлеб.
Тов. Сталин-Джугашвили приблизился к избе.
На желтизне оконца четкий черный профиль, повис шнурочек от пенсне. Проклятый жид! Нет, нет, не Соломон, известный накопитель капитала, нет, Яшенька Свердлов, на “Капитале” проевший зубы. Что ж делать-то теперь с увесистой царь-рыбой? Она бы кушала. А Янкель станет жрать. А черт дери, отдать исправнику?.. Курейку оставлял тов. Джугашвили-Сталин с согласья Мерзлякова, стражника. Здесь, в Монастырском, член ЦК не смеет не отметить свой приезд в полиции. А все же осетра он осетину не отдаст. К администрации на цыпочках?! Свердлов умеет и устроиться, и обустроиться, и слать корреспонденции в газету, и льстить Кибирову. Но что же делать с осетром? Ага, исчез наш Мефистофель.
И верно, четкий черный профиль сменился – скула, подпертая ладошкой, тяжелый узел на затылке и подбородок – спэлый пэрсик. Ну что, тов. Джугашвили-Сталин, сладко тяжелеет сердце, желаешь быть любимым?
Метель мела б во все концы, но нет концов ни в тундре, ни в лесотундре. Тов. Сталин-Джугашвили, припахивая псиной, глядел на освещенное окно, переминался с ноги на ногу и привставал на цыпочках; последнее необходимо, поскольку он размером в сто шестьдесят четыре сантиметра.
* * *
В заиндевелое окно условный стук, я вышел из барака. В ночи навылет постреливали бревна. Мы обнялись с Таисией. Запястия мороз окольцевал. Дышал ее теплом и слышал запах невозвратной жизни… Таисию Двухвацкую сразу после медицинского “распределили” в гноища ГУЛАГа. Она там вскоре умерла. То была первая смерть, оплаканная мною в лагерях… Я обнимал ее, боялся, что мороз подарит ей ангину, и этот страх, как Таин запах, происходил оттуда, из родительского дома. Она сказала: “Вот новый год, порядки старые” – известно это всем зекам; и я прибавил: “Колючей проволокой наш лагерь обнесен” – и мы, такие молодые, мы улыбались. Из плюшевой муфточки – наверное, единственной на тыщи миль окрест – она так плавно, так осторожно извлекла две склянки с водкой. Сравнишь ли с осетром? А бедный Джугашвили-Сталин, кряхтя под тяжестью царь-рыбы, ввалился в дом.
* * *
В сенях он сбросил ношу. Звук был тупой, тяжелый, как от бревна. В комнате все стихло. Потом опять наладилась беседа. О том, что Генрих Ибсен и т. д. О том, что мещанин боится коллектива и т. д.
Тов. Джугашвили-Сталин, ревнуя, злясь, остался благородным человеком. Он должен был спасти партийного товарища. Нет ничего прекрасней звезд на небе и чувства долга в сердце. Не зря ж Калинин, слезинкою блестя на клине бороды, не зря он говорил, что нашему вождю всегда была присуща жертвенность.
Тов. Джугашвили-Сталин пил чай, курил, сказал, что Ибсен, хоть не пролетарий, не марксист, подметил верно: крестьянин знать не знает ни бескорыстия, ни свободомыслия. И словно невзначай спросил партийного товарища, по совместительству соперника, спросил заботливо, участливо, мол, сколько дней осталось до приезда его жены?
Свердлов переглянулся с Верой Д. И молча обмененный взор ему был общий приговор. Вера Д. перебирала шаль. Но нет, не от смущенья, а для того, чтобы не прыснуть со смеху. Свердлов навскидку голову держал; казалось, козлоногий Янкель бьет, бьет копытцем… А тов. Джугашвили-Сталина мне, право, жаль. Накожный зуд, который привязался с детства, свербел и егозил по коже, и это называлось псориазом; с ума сойдешь.
* * *
Да, с детства, когда калоши у него украли.
Все старожилы похожи друг на друга: “А я вот помню как сейчас…” И город Гори в том не исключенье. Но верно ведь и то, что случай приключился памятный. Не потому, что криминальный, а потому, что стали красть калоши – и больше ничего, кроме калош. Невзирая на состояние предмета и его владельца. Грузин ли ты, сидящий в полутемной комнате (она же трапезная домочадцев) и занятый честнейшим ремеслом. Иль ты лезгин, сизо-обритый оружейник, вооруженный неутомимым молотком. Иль древнеликий армянин, скупающий виноградники, и ближние, и дальние. Не обходили и евреев. Наверное, в знак протеста: они уж составляли чуть ли не один процент от населенья Гори.
О, чую, чую: читатель-недоброжелатель кривит и в ниточку растягивает губы. Мол, этот романист за неименьем лучшего изволит щеголять дотошностью своих околороманных разысканий. А вот и фиг! Здесь похвальбы ни на понюх. Мне важен ожог души – след от калош – возникший в стенах духовного училища. Калоши-то пропали только у Сосо. Все потешались: сын сапожника, ты без калош?! И дергали, таскали за нос. Ему бы с кулаками, глядишь, и побежали б робкие грузины, а вослед – неробкие. Но трусоватый Сосик разрыдался.
Мне отмщенье и аз воздам?
* * *
Давно уж наш герой усвоил: ни за калоши, ни за Веру Д. не жди отмщенья свыше. Бог любит человеков, как не любить? – они венец Его творенья, а на поверку – тварь. И сын – оппортунист, как и еврей Бернштейн. А эта стэрва Вэра, блядь по-монастырски, недостойна и мизинца Юлии. Кура и Ангара – ну чем не рифма? На Ангаре певали песни Грузии печальной. А в Малышовской беспечально Плеханова читали…
О, внутренние монологи! Их дешифровка завсегда ошибками чревата. А тут ведь – гений. Что ж держит на уме тов. Джугашвили-Сталин? Пред ним сибирское селенье в уезде Балаганском. Балаганов-шалашей, пристанищ временных, давно сменило избяное постоянство для подселенья “поселюг”. Таких, как молодой Иосиф с компанией младых кавказцев. Все они эсдеки, все они красавцы, все втюрились, как титулярные советники, в дочь генерала, Юлию. Она душевно и духовно делила ссылку с учениками Маркса и Плеханова. А плотию сошлась и навсегда с Калистратом Гогуа. Потом они в Париже жили, в эмиграции. Конечно, знали Бурцева. Его все знали: изобличил Азефа.
И Малышовское, селенье, и Бурцев – вот тут и есть “бином”, не очень, впрочем, замысловатый. Тов. Джугашвили-Сталин в селенье Малышовское убрался из Монастырского с понятной и естественною целью – чтоб Веру Д. уничижать сравненьем с Юлией, которую любил и не забыл. Достигнув Малышовского, завидел он тот дом, что на обрыве Енисея, тот самый, что назывался “маяком”. Блеснул луч света, и стало внятно, в чем, собственно, иная ипостась – народник Бурцев, сын штабс-капитана, питерским студентом там отбывал свой срок, да не дождался истеченья срока и сбежал в Европу. Тов. Джугашвили-Сталин не то чтоб подольститься к старику, но вроде бы прицокнет языком: “Ай, молодец!”
Давно ему хотелось повидаться с Бурцевым, бесспорным знатоком охранных отделений. Само собой, для пользы дела. Препоной прагматизму оказывался принцип. Принцип неприятия того, кто был сторонником войны за нашу родину с немецким пролетарием и бауером. Тов. Джугашвили-Сталин сей принцип обошел бы, как эти телеграфный столб. Коль скоро истина конкретна, скажу конкретно: как телеграфные столбы, совсем недавно шагнувшие до Монастырского. Обошел бы, да. Но – украдкой. Зачем же огорчать товарищей по партии?
В давешний приезд пришел он к “маяку”, был в доме, но не застал В.Л. Тот находился в монастырской келье – читал записки о деяниях сибирских праведников, и умилялся, и вздыхал, глаза влажнели… А в доме находился только паренек, которому недавно Бурцев предоставил кров. Но тов. Джугашвили и так уж из-за этой “стэрвы” задержался в Монастырском. Он ждать не мог. И, уходя в досаде, пребольно ущипнул парнишку за нос, буркнул: “Ты передай: князь приходил”. И хлопнул дверью.
А нынче – шел опять. Мороз сменился снегопадом. Звезды скрылись. Он остановился у обрыва. Он медлил. Знаток охранных отделений, изобличитель самого Азефа… Тов. Джугашвили-Сталин заробел. Пардон, мошонка холодела, и екало под ложечкой. Конечно, это прозаизм, но очень точный. Приличней бы сказать, его душа озябла. Душа – душой, но вновь зудело, жгло, чесалось: псориаз.
Я не отгадчик его загадок. Все просто: знавал я Дмитрия Иваныча.
* * *
Дверной звонок был старенький. С такой вот вежливою просьбой: “Прошу повернуть”. Он прозвенит и кратко, и деликатно – ну, значит, Дмитрий Иванович. Войдет, негромко спросит: “Мы одни?” Конспиративность старого большевика. Мой младший братец Витя, тогда студент физфака, улыбался: “Нет, на троих”.
Дмитрий Иванович не обижался. Был он ладненьким, крепеньким. В добром настроении – курносым; в дурном – нос вроде бы вострился. Ходил чуть косолапенько, но быстро и твердо перебирая ногами, неизменно обутыми в сапоги. На лацкане пиджака от “Москвошвея” неотъемно держал значок Международного общества помощи рабочим, давно ликвидированного; на значке изображалась черная тюремная решетка устарелого образца – без козырька-намордника. Дымил трубочкой, круглый чубучок – чернее антрацита. На шутку: как у вождя – сердито отмахивался, а случалось, и объяснял раздраженно, в чем разница.
Сняв пальто и кепку, проходил не в комнату, а на кухню. Диссидентских, воспетых Кимом, еще в заводе не было. А сортиры стена в стену с кухнями уже были, имея и окольное назначение, а именно как бы заглушающее кухонный разговор шумом воды из бачка. Дмитрий Иванович регулярно производил эдакую операцию, после чего, словно бы уличенный в суеверии, несколько смущенно разводил руками: “Поживите-ка с мое…”
“Поживите-ка с мое” вот какое имело содержание. В деревне прозывались они Грызкины. Потом он стал Гразкиным. Благозвучнее. В цусимскую годину отправился в люди; пришел в город, работал в пекарне, выпекал насущный – дай нам днесь. Но кто-то объяснил: мол, не единым. И этот кто-то позвал преломить хлеб с беками… В гражданскую сощелкивал вшей со склизкой кожанки, выколачивал об колено пыльный шлем. Потом без объяснения причин зачислили его в секретариат генсека. Помаленечку, потихонечку, бочком отчалил: поучиться бы мне, товарищ Сталин. А товарищ Сталин не терпел, когда от него по своей воле уходили. То ли обижался, то ли подвох чуял. Но Гразкин – якобы само простодушие – улучив минуту, приставал со своей просьбой, пока генсек не цыкнул: “Черт с тобой, иди. Да только постарайся, чтобы я о тебе забыл!”
Где бы ни привелось ему строить социализм, молил Маркса-Энгельса-Ленина, чтобы тов. Сталин не обнаружил его в своей бездонной памяти, где уместились и все богатства, выработанные человечеством, и все, на кого он зуб имел.
Но как было удержаться, не спросить: отчего же это вы, Дмитрий Иванович, извините за выражение, слиняли из кремлевской канцелярии? Неужто распознали, кто он таков, дорогой наш Иосиф Виссарионович?.. Э-э, ничего он тогда не распознал. Причина несложная, но и не ложная. Надоело! Понимаете, надоело, и баста. Они ведь один другого на дух не выносили: Сталин – Троцкого, Троцкий – Сталина. Им, видишь, и голоса мерзили, не желали в телефон говорить. Ну, и так получилось, что товарищ Сталин ему, Гразкину, особенные поручения давал: снеси записку этому – картавил нарочито – Бронштейну-Бернштейну. И Гразкин бегал к Льву Давидовичу. А тот: “Подождите, товарищ, сейчас отвечу”. Туда-сюда, сюда-туда и обратно. И надоело, и, не сочтите за амбицию, нехорошо, знаете ли, унизительно для партийца с дооктябрьским стажем.
Накатил тридцать седьмой. Такие вот грызкины, душ пять, шесть, кандидаты в мертвые души, сбежались к старому товарищу, бывшему депутату Государственной Думы: что делать?! А бывший депутат Бадаев отвечает: “Разбегайтесь, ребята, и нишкните, будто вас не было и нет. Авось пронесет. Расходись по одному да с оглядочкой, сами знаете”.
Пронесло. Тогда пронесло. А под занавес, в пятьдесят втором, в бездонной памяти нашего дорогого Иосифа Виссарионовича в час бессонный на подмосковной ближней даче вдруг да и возникло желание проверить, уцелел ли некий Митька Гразкин. Уцелеть-то уцелел, но на Лубянке, во внутренней, каши отведал. (Между нами говоря, и там, и в Лефортовской каши варили отменные; это уж как хотите, так и расценивайте.) Но едва Главный Вахтер отдал концы – выпустили. И старый бек ринулся восстанавливать ленинские нормы. Что это? Мираж, обман зрения и слуха, революция как опиум для народа? И ведь Дмитрий-то Иваныч знал, хорошо знал практику нормировщика, знал и его предсмертное и бессмертное: “Обосрались мы со своим социализмом”. А все равно – так, бедолага, с Лениным в башке и помер.
Вышел из народа, а приложился к номенклатуре на Новодевичьем. Между нами говоря, глупое кладбище: в гробах повапленных мундирные и безмундирные бонзы фигуряют друг перед другом весовыми категориями бронзы. А скромнейшему Гразкину райком позабыл казенный венок прислать. Я об этом к тому, чтобы отменить досужие суждения о близости коммунистов и нацистов. Потому хотя бы, что последние “грамотно” провожали в последний путь ветеранов движения. Но и понять можно гауляйтеров районного масштаба. Тов. Сталин пусть и ушел, но дух свой оставил до второго пришествия; ветеранов он изничтожал, как Грозный – бояр. “Родовитых” отстрелял в тридцатых, уцелевшие, калибром мельче, ни хрена не значили. Одобряли. Особливо же высворенные и униженные свои одобрения в газетах пропечатывали: “Мы, старые большевики еврейской национальности, целиком и полностью…” Так что даже очень хорошо, что районные фюреры не явились и нам с братом Витей, студентом физфака, никто не мешал молчаливо наблюдать, как урну с прахом замуровывали в кладбищенской стене. День был осенний, ясный, сухой. На Окружной дороге маневровый паровоз светло посвистывал.
* * *
Девять дней минуло, зовет меня в Перловку неизвестная, желающая исполнить поручение покойного Дмитрия Ивановича.
Приезжаю в назначенное время. Точность оценена строгим кивком резко-морщинистой, высокой, костлявой старухи в белой блузке, темной, до пят юбке, схваченной широким поясом. Ее звали Клавдией Васильевной. Она говорила отчетливо, несколько резко. Такую дикцию распознаешь тюремно-лагерным слухом. Она есть следствие многолетних ответов на вопросы бессчетных начальников и начальничков: фамилия-имя-отчество? статья? срок? начало срока? конец срока?
Ясное дело, она принадлежала к могиканам политзеков. Из тех, о которых говорили: чудом уцелела. Подумал об Орловском централе, то есть о тюрьме, когда к городу катили, оставляя вонь танков, немцы, там, на тюремном дворе расстреляли Марусю Спиридонову, стариков и старух, “выходцев из других партий”; разумеется, непролетарских… Так ли, нет ли, выяснить не пришлось. Клавдия Васильевна не желала завязывать беседу, а желала поскорее выдворить гостя. Она указала пальцем на тощий почтовый конвертик; если помните, были марки – рабочий-молотобоец или крестьянин с серпом. Она сказала: о содержимом не имею ни малейшего представления; исполняю последнюю просьбу… Смысл был отчетливый, как и ее дикция: именно это и заявлю в случае очной ставки с вами.
Говорю: “Спасибо. Всего доброго”. Слышу: “Хорошо, хорошо. Дорогу запомнили? Очень хорошо”.
Осенний дождик сеялся, брызгал, такой уж невеселый, скучный, что, глядя на дома с крылечками, потемневшие и тоже скучные, невеселые, не было в душе прелестного отзвука от этого вот: “Гости съезжались на дачу”. Да и откуда взяться: свернул за угол – “Ул. Ленинская”.
Известно, Ленинских – пруд пруди. Нашу окраинную Старую Башиловку, булыжную, в грохоте ассенизационных бочек, испускающих зловоние, ее, помню, с бухты-барахты переименовали в Ленинскую. Ассенизаторы-золотари ездят да ездят. Кто-то за голову схватился. Назвали – ул. Расковой, летчица такая была, красивая и храбрая. Ну, и провеяло над обозом-то, над бочками: летайте выше всех, быстрее всех, дальше всех.
А эта Ленинская пролегала в дачной местности. В Перловке жил Джунковский. К нему Артузов приезжал, чекист в четыре ромба. Был разговор серьезней некуда. И оба сгинули… Послышался глухой вопрос тов. Джугашвили-Сталина: “Что в имени тебе моем?” Ответил я неизреченно: “Подобраны удачно звуковые колебания – они влияют на массовый психоз обожествленья”… Про сапоги тов. Сталин-Джугашвили не спросил, а будто бы поставил “vale” – мол, прощай. Ага, семинарист, должно быть, что-то помнил из латыни. Ну, хорошо. Тогда про сапоги. “Caligae” – обувка римских легионов. Они подбиты псевдонимом: “Калигула”. Про звуковые колебания молчу. Скажу другое: обоим мнился народ одноголовый. Во-первых, одномыслие – залог державной монолитности. А во-вторых, одноголовость скоропостижно устранима.
Лукаво мудрствуя и безопасно (наедине с самим собой), я оказался на платформе. Она была пустынна, готова слушать глас вопиющего, но я об этом не догадался сразу. Уселся на скамейку под навесом, достал конверт. Извлек машинопись, бумага папиросная, мне неприятная, как вялое рукопожатье. Взглянул, напрягся – прочел и перечел. Покойный Гразкин изложил как факты, так и фактики. Они к тому клонились, что наш любимый, наш боготворимый служил шпиком в охранке… Меня взяло негодование. Такое мрачное, что поискал глазами, где буфет. Буфета не было. И я смирился, негодование угасло в унылой теплой жиже периода застоя. Зачем же нам великие-то потрясенья? Великая Россия нам нужна. Положим, вы опубликуете записку Гразкина Д.И. И что же? Спасибо вам скажет русский народ? Нет, ответит: “А нам все равно, а нам все равно…” Но есть же племя молодое? Услышишь: “Нас не колышет…” В таких уныло-огорчительных раздумьях я пропустил и электричку, и международные рессоры, они оставили домашний самоварный запах, и в этом было указанье на тщету уныло-огорчительных раздумий. Не надо, не надо, не надо, все поезда, все электрички проскочат мимо, и ты умрешь на полустанке Турунья, где друг твой, покойный Женя Черноног, ловил клестов, чтоб суп сварить и поддержать слабеющие силы.
И мне осталось, мне осталось… Я понял, отчего тов. Джугашвили-Сталин, желая ради пользы дела увидеть Бурцева, робел свиданья с проницательнейшим человеком, изобличителем Азефа.
* * *
Большевики В.Л. не жаловали, да вдруг один пожаловал. Сказал, как говорил всегда: “Будем знакомы. Иосиф Джугашвили”. Это “будем знакомы” показалось В.Л. повтором возгласа того парня, о котором Карамзин – вошел в гостиную, огрел хозяев и гостей: “Здорово, ребяты!” Тов. Джугашвили-Сталин смущенно улыбался. (Потом он и плечами пожимал: а я и не знал, что был таким уж обаятельным.) В.Л. слегка развел руками и указал на лавку.
Тов. Джугашвили-Сталин сказал: он не пришел для споров-перекоров о войне и мире; его забота – обнаружение двурушников; он ждет советов, можно считать, инструкций. И снова так хорошо, так симпатично улыбнулся. Бурцеву понравилось: дву-руш-ник. Ни к черту французское “агент-провокатор”. Он тоже улыбнулся. И тотчас это смачно-точное “двурушник” адресовал всем ленинцам. Когда грохочут пушки, не делают революцию. Да еще в стране, народ которой не знает, что такое политическое воспитание. И не имеет демократических традиций. А вы… А вам… Пугачевщина, сарынь на кичку…
Тов. Джугашвили-Сталин курил, выжидая, когда старик болтун избавится от перегретого пара. Дождался паузы и, как в пролом, вломился. Но, изменив обыкновению, на Ленина не ссылался, чтоб не дразнить гуся. Речь шла о том, что каждой партии, а им, большевикам, в первую голову, необходимы люди, выявляющие двурушников. Конечно, гидру поголовно не истребишь, покамест есть охранка. Однако учреждена особая комиссия. И она, Владимир Львович, постановила просить вашей помощи.
Бурцев захлопал в ладоши иронически: “Бурные рукоплескания”. И заговорил серьезно: ваш Ленин меня сторонится; с чего бы это? В.Л. колебался. Предупредил, что еще не убежден, что предполагает… Он почувствовал напряженную настороженность vis-a-vie… Да, не убежден, однако имеет основания предположить еще довоенные переговоры главного большевика с немцами… Тов. Джугашвили-Сталин как бы захлебнулся коротким смехом. Пегие глаза его заслонились чем-то непроницаемым; в эту непроницаемость физически ощутимо уперлись глаза Бурцева. Но вот ведь что его поразило: сподвижник Ленина не вспыхнул, не закричал, не обозлился на него, В.Л., как сподвижник Азефа Борис Савинков при первых намеках на предательство своего товарища…
Бурцев, помолчав, сообщил почти надменно: недавно польские социал-демократы просили меня указать им адрес Дзержинского. Навел справки, сообщил. Тот и возглавил что-то похожее на вашу комиссию – следственный отдел в Главном правлении польских и литовских эсдеков. Собака-то зарыта вот где: в такого рода разысканиях – альфой и омегой строгое беспристрастие. Последнее – убежден, убежден – последнее решительно невозможно, если разыскатель, следователь находится в партии, внутри партии, а не вне партии. И вот еще что… Он, этот следователь, должен быть готов к тому, что его осудят… нет, проклянут честные из честных. Вот как меня прокляла Вера Николаевна Фигнер. Вы ж знаете, два десятилетия изжила в Шлиссельбурге! По милости Дегаева, почище Азефа фрукт. Вникните: Вера-то Николаевна, она-то и считает меня черным человеком. Товарищей стравливаю, отравляю их существование, убиваю самое драгоценное в людях – доверие… Он руками развел, потом над головой поднял: и анафеме предала, как Синод – писателя Голованова за изображение Иуды… В.Л. по-детски моргал. И вдруг поник, сжался. И это уж было “не от Фигнер”. Он усмотрел свое сходство с уголовными – у них ведь первое движение – дурная, гадкая мысль: такой-то или такой-то непременно объегоривают, ищут свою выгоду. Они и в розариуме не слышат запах роз, а слышат запах дерьма, удобрений.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































