Текст книги "Бестселлер"
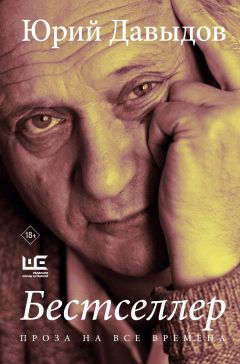
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 36 страниц)
Крестовский не кокетствовал. Разряд свой, степень втайне сознает едва ль не каждый литератор. Один – покамест трезв; другой – покамест пьян. А в классики – кому охота? Предмет для классных сочинений. Иль сообщений кафедральных, где есть и схема, есть и схима. Ну, хорошо, вы говорите, время все расставляет по местам. Положим, так. Да штука в том, какое время. Не зря ж в распахнутую форточку кричат, какое, мол, тысячелетье на дворе?
А на дворе-то начинался Тысячелетний рейх. И он венчал покойного Крестовского классическим венцом. Писатель русский, но классик, классик… В одном его романе узрел Лесков социализм; в трилогии о Тьме Египетской, о том, что жид идет, был обнаружен национал-социализм. И в министерстве Геббельса признали за нашим Всеволодом “заслуги исключительные”. Определили четко: предупредил все европейские народы о еврейском заговоре.
Выходит, господа, второстепенный выше первостепенного. Достоевский – что? Предупреждал одну Россию… Внушал вчера с телеэкранчика какой-то ректор иль проректор: “Россия – всё; всё прочее – ничто”. Сей князь дундук намерен в Думе коммунистическую думу думать. А Достоевского не мыслишь без всемирнейшей отзывчивости. Но в рассуждении еврейства он лишь России предрекал погибель от жидов. Крестовский шире. И не боюсь прибавить – глубже. Однако он, увы, не очень-то оригинален. Тут прочь фигуру умолчания, хотя куда как огорчительно отнять приоритет у Всеволода и, что гаже, хуже, признать еврейское влияние, то есть фигуру Яши Брафмана.
Тот Брафман был обрезанный. Достигнув возраста Христа, он принял христианство. Пришелец-иноверец тем самым обратился в домочадца. Старик Аксаков полагал, что всяк еврей, крестившись, прекращает блуд блужданья и, словно всем известный сын, вертается под отчий кров. Гм-гм, а как нам быть с пословицей о жиде крещеном, о коне леченом? Э, я за плюрализм, как за последний “изм”, мной услышанный. И это, между прочим, значит, что я не целиком согласен с почтенным коренным славянофилом. Он утверждал – даю пунктиром: наличье у еврейского народа каких-то там великих дарований; что иудеи презамечательное племя в человечестве, и что идея всечеловеческого братства сложилась под оболочкой исключительности избранного народа; созрев, она и воплотилась во Христе… Ну, знаете ли, отсюда уж рукой подать до представления о христианстве как высшем историческом моменте иудаизма. Старик-славянофил Иван Аксаков руку подал. Крестовский этого понять не мог. Должно быть, не хватило средств – умственных. Ему дороже был, представьте, Яша Брафман.
Крестовский с детства знал: при каждом польском графе состоит свой Мендель. Крестовский смолоду слыхал: при каждом русском губернаторе кружит доверенный еврей. Брафман у них не подвизался. Имел самостояние, имел позицию. И написал две книги. Крестовский их держал настольными. И не скрывал – вот источник моих воззрений. И выступал публично, едва ли не восторженно хвалил он Брафмана. За то, что Брафман указал на заединщину еврейских братств, на их стремление к владычеству над миром; а заодно на власть кагала над еврейским плебсом. Короче говоря, сей Янкель Брафман презентовал Крестовскому магический кристалл. И сквозь него он различал за далью даль свободного романа. Свобода, как и несвобода, имеет сверхзадачу. Осознанную иль восчувствованную; бывает и без “или-или”.
Реальности экономических соревнований исконных и пришельцев сменились в разумениях Крестовского бореньем двух Мессий: великорусского народа и малого народца.
Зов мессианства – вечный зов. Вставать и володать – велик соблазн. Чреват он катастрофами, да все равно прельщает. Всевышний надзирает за очередностью. И это означает, что претенденты преходящи. Но Русь – вся в будущем.
Ее самоназвание – святая. Самоназванье иудеев – избранный народ. Но только ведь святая способна чудо сотворить. Все впереди! От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги до Евфрата, от Ганга до Дуная – вот будущее царство русское, и не прейдет оно вовек. Фельдъегери летят во все концы – и в одночасье вершится наша воля. Мы – масса грозная, она к себе притягивает всех. Само собой, за вычетом евреев.
Сказал нам Петр Великий: будь ты крещен, будь ты обрезан – едино, лишь знал бы дело да был бы добрым человеком. Но и прибавил, лишь бы не был иудеем. А дочь его, Елизавета, их признавала прагматичными, но выдворяла за порог, яко врагов Христовых. И вдруг Екатерина… Она мечтала трезво: турков за Босфор я выгоню; Китая гордость усмирю. Что ж до евреев, то матушка-царица не желала впускать их в свою державу. Большой-де вред нашим торговцам принесут. Резон? Резон! Да резонанс другой. Всего сильнее власть земли. Вы назовите, как хотите, – покоренье, присоединенье, но, всем известно, что назначение России досягнуть, распространиться вширь. Ну, как не посягнуть на земли Польши? Однако получился казус – евреи, евреи, кругом одни евреи.
* * *
Как не понять и направленье мыслей, и искренность тревог сердечных, и частоту употребленья слова “жид” на четвергах у автора романа “Жид идет!”. Как не понять нам тех, кто понимал: мессианизм иудейский и мессианизм русский сошлись лоб в лоб. Не символически. О нет, реально.
Да-с, четверги Крестовского. Он прежде жил на Загородном. Теперь – на Мытнинской. Как прежде там, так ныне здесь бывали: г-н Пржецлавский, старик угрюмый; вихрастый и широколицый генерал; и шепелявый вкрадчивый поляк, благонамеренный сотрудник “Русского еврея”, а заодно секретнейший дружинник, имевший личный номер 504. Для толкований талмуда наведывался белобрысый Брафман. Бывали также братья-литераторы из разряда стрекулистов, в который автор ваш зачислил и Матвея Головинского. Ошибка. Но об этом позже.
Пржецлавский, согнутый годами, под гнетом старости не угасал – ему надежду подавало решение еврейского вопроса. Свои седины он неизменно красил черным, как было велено давным-давно всем генералам, статским и военным. Осип Антоныч интересен противоречьем мыслей и поступков. Восстание поляков жестоко осуждал в правительственной прессе; восставшими заочно приговорен был к смерти, и сам секретно за них ходатайствовал пред вышней властью. Служил в комиссии Сперанского, она сводила все законы в свод, и полагал, что и обход законов возможен в интересах государства. Не год, не два нимало не манкировал Цензурным комитетом, был строг чрезвычайно и лично разрешил печатать “Что делать?” Чернышевского. С младых ногтей масон, на склоне лет способствовал разоблачению великой тайны франкмасонства. И тут уж занял однозначную позицию, продолжив свою же стародавнейшую экспертизу в делах о разыскании по части ритуальнейших убийств. Центральный пункт его позиции совмещался с позицией Крестовского: иудеи шаг за шагом приближаются к построению иудейской патриархии, ибо они уже не прежний народец, забитый и ничтожный, а воскресшая, сильная умом нация, овладевающая торговлей и финансами многих наций и, стало быть, стоящая на пути русского мессианизма, русского Третьего Рима. При всем при том Осип Антонович в годину назревания фурункула еврейского погрома нашел необходимым прекратить печатанье трилогии Крестовского. Да, временно, но прекратить.
Ему внимал румяный плотнобрюхий генерал. Он в гастрономии держался начал суворовских: щи кислые и поросенок с хреном. А толстогубость, толстоносость, вихрастость куафюры, наклонность к апоплексии – вот это уж фамильное, семейное. Как у всех Дрентельнов. Однако ни факторы гастрономические, ни факторы физиономические, нет, не они функционируют в явленьях стойкого антисемитизма. Владело таковое отнюдь не всеми Дрентельнами. Насколько мне известно, лишь Александр Романычем, насквозь читавшим сочинения Крестовского. Еще вчера был Александр Романыч наиглавнейшим в ведомстве жандармов и политического сыска; засим, начальствуя в губерниях на юге, ужаснулся стратегической промашке Екатерины, “впустившей” иудеев.
Поляк, сотрудник “Русского еврея”, поджарый, длинный, востроносый, хоть не был завсегдатаем, но был знаком со всеми. Но эти “все” не знали многого о нем, Петре Иваныче. Вот разве Дрентельн, генерал, тот был осведомлен о востроносом хитреце. Ваш автор уже не раз, не два упоминал Рачковского. Но впереди еще одна шпионская забава.
Его присутствие, сказать вам правду, меня не удивляло. Дивила глухота присутствующих. Не к ним ли обращался философ Соловьев: “Судьбою павшей Византии / Мы научиться не хотим, / И всё твердят льстецы России: / Ты – третий Рим, Ты – третий Рим…” Вот только “льстецы”-то зачем? Напротив, без лести преданные. И крепки верой, взошедшей на византийских дрожжах.
В исполинском назначении нашем, сказал Леонтьев, философ, вы сомневаться не извольте. Ха! Попробуй усомниться, тотчас же русофоба опознают да и начнут на окна ссать. И будут правы. Какие могут быть сомненья в положениях и выводах Вернадского, провидца гениального? Он на пороге новой эры – стоял Октябрь у двора – провидел исключительную роль России в установленьи цивилизации планетарной, рекомой ноосферой.
Во субботы сосед мой, санитарный техник, собирал друзей, младых мужчин и юных жен окрестных домоуправлений. Шумели, пели и смеялись. К одиннадцати вечера стихали. И под конец – как гром – могучий хор: “Ух ты, ах ты, все мы космонавты”. И становилась явью правота Вернадского.
На четвергах Крестовского вот так же весомо, крупно возвещали, какой России быть. И расходились поздно. Не слышно было шуму городского. Но слышались куранты крепости Петра и Павла. Она была недалеко. Курантов бой переменял четверг на пятницу. И Головинскому являлась тень отца. Там, в крепости Петра и Павла, отец когда-то дожидался расстреляния.
* * *
Сидели в казематах утописты-коммунисты числом, мне кажется, тринадцать. Еще недавно по пятницам сходились все у Петрашевского. И разговоры шли о назначении России; о том, чтоб сказку сделать былью. Писатель Федор Достоевский привел однажды или дважды сенатского чиновника, годами младшего, но духом близкого. Василий Головинский желал освобождения крестьян посредством пугачевских топоров; засим желал взбодрить и коммунизм посредством диктатуры.
Как не помыслишь в сотый раз о нем, о нем, о нем – Сергей Нечаев, предтеча большевизма, смерть принял в этом равелине, в каземате номер пять. А прежде здесь же, в нумере девятом, находился Достоевский. В седьмом – Василий Головинский. Здесь можно притянуть знакомых Головинским неких Ульяновых, родивших Ильича. И призадуматься: каков пасьянс-то, а?
Набоков, старый генерал, суровый видом, но, видимо, то есть невидимо, добряк душой, исполнял две должности. Второй уж год, как был он комендантом крепости. И вот уж месяцы – главою следственной комиссии по делу петрашевцев. Его явленье в равелине предварялось звоном затейливых ключей и крепким, справным щелканьем пружин в замках. В дверном проеме разливался блеск погон, но блеск неяркий, все тушевал угрюмый гулкий полумрак. Происходил опрос претензий арестантов. И неизменно возникал вопрос: а скоро ль наше дело кончится? Старик ворчал: “Почем мне знать. Такую кашу заварили”.
Его ответ, сказал бы я, имеет смысл философский. Иль, ежели угодно, историософский. А если оборотиться на Достоевского и Головинского, то и сугубо личный. Нечаевым они не стали б нипочем. Могли бы стать нечаевцами… У Пушкина: “И я бы мог…” указывало на стан цареубийц. А тут, тут в виду заглавный бес, он же и убийца беса и, стало быть, предтеча большевизма. Как ярко на штыке у часового горит звезда пленительной свободы. Свободы от штыка или свободы со штыком?
Но все уж решено. Их больше не водили на допросы в Комендантский дом, украшенный гравюрами Венеции… Размокшей каменной баранкой в воде Венеция плыла. Холодный дождь мочил облезлые фасады, пузырил грязные каналы. У пристани с гондолами качался на воде гондон, погибший в жарком деле. Не видел я венецианский карнавал, венец всех впечатлений гостей-туристов… И не увижу никогда, поскольку в Северной Пальмире, где Комендантский дом и час, указанный курантами, совсем иные карнавалы. Здесь не трубит адриатический тритон – трубит военная труба. Корнеты-а-пистоны, как маги на жестянках с чаем, удавку из удавов вяжут, и это символ виселиц. А барабаны сыплют дробь, она и сизая, и черная. Положено всем барабанам пробить три дроби, как будто б выложить три карты, последней подмигнет нам пиковая дама. Понтирует декабрь. Такая стыдь, кровь стынет в жилах. Бог есть, не все дозволено, но никому и ничего не стыдно. Все на себя берет царь-государь, наместник на земле небесного царя царей.
Едва развиднелось, возникли под сводами ворот и гул карет, и цокоты жандармского дивизиона. Сия батальность сменилась мягким и негромким движеньем по деревянному мосту. И этот шорох будто спрашивал: пороша есть иль нет?
Пороша присинила плац, и пахло на плацу пороховницей. Шершавым от волненья голосом пустил в пространство офицер: “Прицель!” Еще бы миг – и роковое: “Пли!” Но, словно с горней высоты, упала милость государя: к ноге – ружье, на ноги – кандалы.
Народ всей грудью выпуклой, широкой толкнул клубами пара: “Уф!” Но радостное облегченье христиан тотчас и замутилось: сбежались на расстрел, а тут, гляди-ка, вроде бы как на торговой казни. Айда-ка по домам, кусается декабрьская стыдь. Жандармы и фельдъегери и без тебя определят кандальников в кареты.
В карете прошлого недалеко уедешь? Уедешь далеко и к самому себе вернешься. Случалось так с Матвеем Головинским, когда в ночи куранты Петропавловской звонили “Коль славен наш Господь в Сионе”, и, стало быть, кончался четверток Крестовского с его девизом: “Жид идет!”, и наступала пятница у Петрашевского с девизом: “Грядет фаланстер!”. И Головинский-младший замечал на кронверке тень своего отца, как на театре – Гамлет.
Но датский принц карет не ждал, не кукарекал: “Ка-а-рету мне, ка-а-рету”. Кусается декабрьская стыдь. Она здесь, в Петербурге, и въедливей, и злей, чем там, у них, у Головинских, в Симбирске иль в Казани.
Ну, вот он, вот ночной извозчик. Валяй-ка, братец, в 16-ю линию да побыстрее, побыстрей.
* * *
Он мог бы для житья поближе выбрать закоулок. Но нет, не выбирал, а просто-напросто исполнил просьбу покойного отца. Головинский-старший просил Матвея: случится-де стать жителем столицы, найми квартиру в линии 16-й; и указал Матвею номер дома.
Ваш автор по-деревенски любит городскую местность. Милы не планировка, не ансамбли, не зодчих имена. Охота знать, кто жил здесь до меня, кто живет вот там, свойство и служба интересны, чудачества и склонности. Ну, а другой об этом знать не хочет. Вины в том никакой. Что из того, что в доме, где Головинский-младший фатеру нанимает, давно уж проживает некто Вольф? Э, для меня-то он отнюдь не “некто”: Людвиг Маврикиевич, коммерции советник, редактор и издатель; одно его лукошко для сеянья на наших нивах доброго и вечного звалося “Задушевным словом”, журнал, любимый бабушкой, как и вечерний звон. Другой из Вольфов… Давным-давно ваш автор приглядывался к тайному агенту “Народной воли” Клеточникову, его внедрили в тайную полицию; приглядываясь, углядел зав. заграничными агентами Маврикия Маврикиевича; в Варшаве был рожден, учился он в Берлине, а здесь он был советником коллежским, то есть полковником, и вот какая редкость: на сослуживца Клеточникова, уже изобличенного, поганых показаний не давал…
Все это, я согласен, что-то вроде игры старинной и настенной, игры китайских теней. Они нас увлекали даже в пору упроченья Великого Немого. Тени имели засекреченное свойство “на потом”: будить воображенье и устремлять враспыл, без связи со своим сюжетом. И это было с вашим автором в квартире Матвея Головинского. В той самой, где до его рожденья живал отец, известный в узком круге петрашевец В. Головинский, где навещал Василия писатель, самолюбивый, нервный Федор Михайлович, тогда носил он красную рубашку с распахнутым воротником.
Так вот, извольте, стих нашел. Притом, скажу вам, мрачный, чистейший образец соцреализма.
Узорщики-морозы безмолвно прикладывались к стеклам. И на Васильевском, в домах, что на 16-й. И там, в бараках, в 16-м лагпункте, а при мне – лесоповальном, а позже, кажется, больничном. Прильни к барачному оконцу, дыханием сведи доисторический рисунок.
Он начинается абстракцией. Мороз-узорщик ее изображает на окнах дома, что в линии 16-й Васильевского острова и на оконцах в том бараке, что на 16-м лагпункте, тогда лесоповальном.
Дыханьем отдышу, протру полой бушлата барачное стекло; ведь в этом наше ремесло. Увижу нары. Они на ножках, на штырях; штыри – в консервных банках, всклянь налитых водой. Клопу не проползти, клоп плавать не умеет. В вагонку эту веришь, как предок верил в свайную постройку. Но положите глаз на потолок – клопиные армады шевелятся. Век свободы не видать, способны кровушку по капле высосать. Коричневые, бордовые. И этот легкий блеск, когда в барак заглянет луч денницы.
Сосед мой, питерский доцент-очкарик, угрюмо формулировал: “Фиксирую: фаланстер давно уж факт и фактор научного социализма”… Ученый малый, но зануда. Однако что ж тут возразить? Я материл и Академию общественных наук, и срок общественных работ в условиях естественной природы, но вне природы естества.
Итак, “фаланстер” – слово ключевое – включаю в текст. А уж в подтекст оно само проникнет.
Вот обольщенья прежних дней – как ярки окна в линии 16-й, в общественной квартире Голубинского В.А. Да, петрашевец вознес высокий факел фаланстерии… А на 16-м лагпункте не возжжена там чистая лампада, а зажжена там лампочка от Ильича. На нашем шелудивом темени и на мозолистых руках какой-то хилый свет. У нас бригадно на просушке портянки и портки. Доцент-зануда просит “процентов десять”. И это значит: дай курнуть немножечко от самокрутки. Елецкая махорочка трескуча. А Ильичева лампочка беззвучна. Знай себе мерцает, как ложная мудрость пред солнцем бессмертным ума.
Но там, где нары и клопы, где этот электрический фонарик-пузырек, там ты впадаешь в ересь, довольно мрачную: бессмертный ум выписывает годовые кольца дерева Познания и этим наклоняет к смерти древо Жизни.
Суждения на сей предмет не возникали в общественной квартире Головинского В.А. Все потому, что у коммуны, в отличие от нашего барака, имелись коммунальные услуги. И в узкой комнате при кухне жила прислуга. Как тут не верить в бессмертный ум?
Нам Достоевский указал: социалисты произошли от петрашевцев. Нельзя, однако, не отметить трещинки в доктрине. Одна из барышень спросила озабоченно, а будут ли в прекрасном будущем кухарки? И все растерянно переглянулись. Никто не догадался отвечать в том смысле, что они, конечно, будут, но не затем, чтобы кухарничать, а для того, чтоб править общежитьем коммунаров.
Коммунное житье в 16-й линии как форму ненасильственного существования оборвал полуночный визит насилия, обряженного в голубую униформу. Жандармский офицер сказал вождю фаланстера: “Вставайте”. Но не прибавил: “Вас ждут великие дела”. Нет, продолжил так: “Извольте-ка одеться. Произведем мы обыск и вас попросим ехать с нами”. Вы слышите: “Попросим”. А? Не то, что нынешнее племя: “Лицом к стене и руки на затылок!”
Дальнейшее все вам известно. Послышалось: “Прицель!” – и счет пошел на миги – на миги с высоты престола, где не такой уж глупый император помиловал всех осужденных.
Забрили лоб, в казенный полушубок обрядили, обули в валенки, все справное, все чистое, да и отправили в линейный батальон. Свободы друг губил, ничтожил племена Кавказа. Дворянство воротили, он воротился в край родной. Служил чиновником. Имел именье, женился и сыновей родил. Первенца назвал Матвеем. Прошу запомнить мастера сюрпризов.
А старшего из Головинских опять настигла милость. Лицо безвидное имело честь поздравить. Ужасно удивился В.А. Головинский: с чем поздравить, сударь? – Безвидный отвечает: я, говорит, агент тайной полиции, имею честь вас известить о снятии полицейского надзора. – Да разве я был под надзором? – Да-с, сударь, были, мы писали, куда следует. – Гм, что ж вы писали-то? – А все, чего надо, то и писали. – И были довольны мною? – Помилуйте, уж чего ж довольнее…
Экс-фурьерист на радостях ему целковый выдал. Всего-то рупь. А вот Домбровский, многолетний зэк, писатель, мой приятель… Сдается, здесь я повторюсь, но, право, слышу, как времечко нас смачно чмокало… Так вот, Домбровский незабвенному Папуле сунул трешник.
Папуля – так он звал соседа по коммуналке – безвидным не был. Напротив, был он видным. Седой, как лунь, и ясноглазый. В коммунистическую партию пришел, вняв громкому призыву – ленинскому. Служил он в коммунальной службе – истопником на Сретенке. Ильич – не утопист, а реалист, фаланстер понимал насквозь – и указал, что всякий коммунист обязан и чекистом быть… Писатель наш Папулю раскусил. Но был Домбровский гуманистом – в пивнушку с ним ходил и в Сандуны, к домашнему застолью звал. И все ж… Однажды глубоко вздохнул и скорбно вопросил: “Папуля, друг, когда ж ты перестанешь на нас стучать?” – и уронил на лоб густую смоляную прядь. А гегемон, нимало не конфузясь, отвечал: “Чего стучать-то, а? На вас уж больше не берут, не принимают”. И ясными глазами поглядев на опустелую бутылку, любезно предложил: “Добавь трояк, в минуту обернусь…”
Как славно все устроилось на Сретенке. Да разве только там? И вот: ах, старая квартира! – старушки, старики сидят у телевизора, слеза туманит взор. И посему нельзя нам не понять и Головинского В.А.
Поэт Самойлов прав: в провинции любых времен был свой уездный Сен-Симон. Он был и в Буинском уезде. И четверть века обретался под надзором. И все же, так сказать, полулегально посещал Петра творенье.
В Неву ты дважды не войдешь. На невском острове, однако, как была, так и осталась крепость. Наверное, потому, что никому охоты нет входить вторично в крепостные казематы. А на другом из островов, на острове Васильевском, остался дом.
Когда-то Петрашевский учреждал фаланстер на пленэре. Он был из тех дворян, в которых видели освободителей крестьян. Пушкин утверждал: народ наш глуп. Неверно. Фаланстер сей спалили мужики.
Фаланстер Головинского был предназначен пролетариям. Отнюдь не физтруда, а умственных задумчивых трудов. Не получилось. Не потому, что Головинского из обращения изъяли, а потому, что тот фаланстер не вписался в житейский оборот, еще не подчиненный научному социализму.
Но титулярные советники бо-о-ольшие чудаки. Головинский-старший рассказывал Матвею-сыну, хоть тот от роду был и невелик, как дружно, чисто, справедливо жил фаланстер на Васильевском.
* * *
Родительский наказ исполнил Головинский-младший. Закончив курс наук в Москве, в университете, в Казань он не вернулся, подался в Петербург, встал на постой в указанном дому, в линии 16-й. И тотчас сочинил донос в тот департамент, что на Фонтанке, дом 16… Ах, черт дери, ваш автор не охотник манипулировать цифирью. Но получается кругом шестнадцать. То на Васильевском, то номер лагерного пункта, а вот и особняк насупротив Михайловского замка. Прибавьте-ка донос, ну, разве не кругом шестнадцать?
Потом я вам представил сына утописта на четвергах Крестовского. Ничуть не удивительно. Давно пора понять, как редкостно универсален антисемитизм. Годится при любой погоде, любому умонастроению и направлению. О-о, господа, за эдакое надобно благодарить евреев, а не шпынять по мелочам – взбодрили банк, мошну набили.
Глобальный, стержневой антисемитизм воспринимали с пониманьем в собрании витий, не очень знаменитых. Да, у Крестовского, на Мытнинской. Не то чтобы я враг им, но мне любезней знаменитые витии, которые сходились у Рылеева, на Мойке. Быть может, оттого любезнее, что там и Синий мост, где я, поклонник Юрия Тынянова и молодой повеса, назначал свиданья Тане П., влюбленной не в меня, а в Пушкина. Она, как и Ахматова, не терпела пассий Пушкина; она, как и Ежов, и ваш покорнейший слуга, считала, что надо было ликвидировать Дантеса по дороге к Черной речке. И сочиняла повесть, что было б с Пушкиным потом. (Такие повести всегда напоминают философическое наблюдение Орлова, севастопольца: чтоб был ты, брат, такой же умный, как моя жена “потом”.)
Опять язык молотит, чего он хочет и чего не хочет. При чем здесь Александр Сергеич? Ага, смекаю! Купил я нынче сдуру книженцию Ю. И. Ну, про евреев. Они, оказывается, всех царей поубивали. Ей-ей, занятно. Не отрицаю права на собственные версии истории. Да здесь – другое.
На первой же странице крупным шрифтом всем нам известное со школы: “Проклятый жид, почтенный Соломон… / Да знаешь ли, жидовская душа, / Собака, змей! Что я тебя сейчас же / На воротах повешу”. И подпись автора. Чтоб, значит, мы в ладоши хлопнули: ай да Пушкин.
Эх, Юрий И., работать надо тоньше. Брань на воротах повесить, дабы сам читатель вешал соломонов на воротах. А Пушкина не подставлять. Он, как всякий автор, что называется, стоуст. И не ответчик за непрямую речь или прямой поступок своего героя.
Другое дело наш Крестовский: “Жид идет!” – и баста… А впрочем, нет, не баста. Роман не кончен, а записка начата. Название дано прельстительное: тайна. И соблазнительное: еврейства. Секретная записка “Тайна еврейства” имеет адрес: Чернышева площадь, там министерство. Да, дел внутренних. Раздавались, однако, и предложения – лучше, мол, сразу же, без Чернышевой площади, в один из департаментов. Вот именно, в тот, что мы тогда имели на Фонтанке. Еще не направляющий, еще не вполне руководящий, но очень, очень перспективный.
Такие были предложения, и я украдкою гляжу на Головинского.
Матвей Васильевич все тот же, чернявый, моложавый, нос не курнос, но чуть привздернут, и это, на мой взгляд, как бы снимает пресность выражения лица. Высокий ростом, в движеньях ладный, напоминает мне учителя гимнастики. Притом, могу сказать, незаурядного. Ему присуще нечто музыкальное, какая-то, сдается, чуткость гармоническая, и это удивительно, поскольку я совсем-совсем не наблюдателен по этой части.
Матвей Васильевич уже не производит впечатленья юриста-стрикулиста. Он давно не ищет примененья своей университетской умственной поклаже. Знакомство с Вольфом… Тот живал на линии 16-й, был издателем, был и редактором, и я это отметил, пусть и мельком, но неспроста: Вольф дал Матвею ход, на линию поставил, протянутую за пределы Васильевского острова. Он стал редактором, он стал писать, и самостийно. Увы, не самобытно. Его рассказики читал и я. Бледны и водянисты, как наше северное лето. Потом он рынок отоварил сборником рассказов. Дышала эта проза Пшебышевским. Определенье жанра – новизною: психограммы.
К нему протягивались длинно сумрачные тени уходящего столетья. Век двадцатый был близок. Но путевые сборы оказались в беспорядке. Разбросано, набросано. И, вроде б, прободения души. Факт, но психограммами отмеченный.
Отцовское наследство раздвоилось на существенное и мечтательное. Существенность – земля и рента – примиряла с развитием капитализма. Мечтательное, скажем так, включало родовые признаки либерализма, родимое пятно социализма. То и другое допускало примерку по лекалам привычек своих мыслей, а также чувств. Фаланстер он отверг едва ли не цинически. Кому охота денно-нощно обретаться на виду? И стряпать в очередь на кухне? Развития утопии в науку Матвей Васильевич не отторгал. Бывая у Крестовского, он, собственно, был равнодушен, кому платить за то-то или то-то, торговцу русскому или еврейскому, и этим обнаружил недостачу личного патриотизма. Он чистоган любил, как сумму полностью, – в виде гонорара. А духу чистогана был он чужд как чистоплюй. Суждения о столкновении мессианства, о прописке двух мессий ему казались “академическим вопросом”. Но вот он чем меня смутил, так это умозаключением внезапным: антисемитство он признал как составную часть социализма.
Конечно, пастор Науманн… Люблю – вслед Тютчеву – богослуженье лютеран. Но это было чтенье книги, вполне мирской. О, Фридрих Науманн открыл мне то, о чем не догадался Фридрих Энгельс. А именно: произойдет сближение антисемитов с социалистами. Парадокс? Считайте так, однако знайте, что местность не оскудеет парадоксами. И примечательно: Матвей Васильевич сие сознал пораньше пастора. Сперва наш коммунист был по мандату долга и чекистом. Засим уж – по веленью сердца – стал антисемитом. И этим он отмстил хазарам. Э, полноте, сочтемся славой; сейчас еще раз приглядитесь к Головинскому. Какая прозорливость, а?!
Отсель бы погрозить семитам. Конечно, не арабам – иудеям. И ринуться в Париж. И там увидеть нашего героя в секретном напряжении. А в этой экспозиции поставить точку. Томителен нам долгий штиль. Но не могу я не продолжить. На памяти зарубка, как затесь на сосне. Они указывают просеку, где впору поразмыслить о доносах – их роль в быстротекущей жизни; рознь отношений к доносительству, включая дьякона П.К.: в журнале православном он объявил Иудин грех необходимым государству. Однако автор ваш хотел бы дело кончить без долгих слов, и, значит, надо говорить о Головинском и его доносе. Прошу припомнить, свое прибытие в Санкт-Петербург Матвей Васильевич знаменовал доносом. Престранных свойств, однако.
Сколь ни читал я “человечьих документов”, а такового не читал. Весь белыми нитками шит. Несуразность разительная. Вроде бы и пародия, и стародавнее “слово и дело”. Позвольте в вашей памяти возобновить, вот вам экстракт из документа.
Темным осенним вечером шел он, Головинский, кандидат прав, от Иверской; видит, впереди двое идут, люди молодые, один такой-то внешности, другой – такой-то; идут и тихо-тихо разговаривают о покушении на священную особу государя императора. Это – первый пассаж. Извольте, второй. Темным зимним вечером шел он, Головинский, кандидат прав, по Невскому, видит, впереди двое идут, люди молодые, один такой-то, другой такой-то, а оба – те самые, которых он, Головинский, еще в Москве заприметил; идут и тихо разговаривают о покушении на священную особу государя императора.
Время в государстве было утешительное: недавно повесили в Шлиссельбурге горе-террористов; они позыв имели бросить бомбу в Александра Третьего.
В числе повешенных был и студент Ульянов, симбирский уроженец. Его родителей, Илью и Марью, знавали Головинские – совместно пребывали в Братстве преподобного Сергия. А находилось это Братство при гимназии. Ее закончил Ульянов-младший, ненавистник боженьки. Он не был “гробокрадом” – дразнили так в Симбирске тех, кто будто б ищет клад в могиле у жида. Забавно, да? Еще забавней – скуластенький Ульянов, медалист, заветный клад нашел, обрел, и этим кладом был Марксов “Капитал”. Но верно также то, что ленинизм еще не зародился, не проходил утробного развития.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































