Текст книги "Бестселлер"
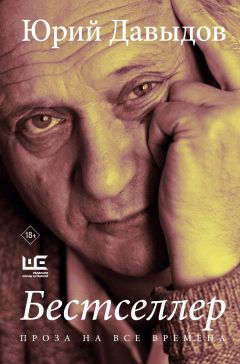
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 36 страниц)
Теперь, в Крестах, Степан Петрович не ждал милостей от ленинцев. От “временных”, глядишь бы, и дождался. И “материал” не тот, и Владимир Львович стучался во все двери: отпустите обезвреженных, отстраненных клевретов старого режима; не пятнайте их мученичеством, их кровью освобождение и обновление России. Да уж, из Смольного не ждал он освобождения от Крестов.
И нередко очень и очень жалостливо на это сетовал. Лицо жухлое, в какой-то маслящейся желтизне; короткие, словно подрубленные, пальцы бегали по краю простыни, обирали край простыни; говорил он глуховато, бархатисто, скоро, с мягким южным “г”.
Два сюжета избегал Белецкий решительно.
Первый соотносился с агентами сверхсекретными. С такими, как Малиновский, имел он личные ресторанные свидания в отдельных кабинетах, убранных плюшем и бронзой. Теперь, открывая многие карты, Степан Петрович приберегал козырные. У него теплилась надежда выдачей козыря или козырей сохранить свою жизнь.
Второе, о чем избегал говорить бывший директор Департамента полиции, сенатор, товарищ министра внутренних дел, так это о черной сотне и деле еврея Бейлиса, обвиненного в ритуальном убийстве. Подобно многим уроженцам Юга, черты оседлости, малороссиянин Белецкий был юдофобом, куда более стойким, нежели многие северяне, не живавшие в черте оседлости. Его природное чувство неприятия и ненависти подпитывалось соображениями умственными, государственными. Он поддерживал Союз русского народа, имел и жетон члена этого союза, делопроизводство, архив и знамена которого находились в Басковом переулке. Между прочим, его, Белецкого, департамент содействовал обустройству штаб-квартиры Союза точь-в-точь так же, как КГБ обустройству общества “Память” в квартире фотографа, умеющего и фотографировать, и позировать.
Но фотографу не пофартило замочить каких-нибудь убийц в белых халатах. И ему остается завидовать Степану Петровичу Белецкому. Вот ведь билет-то выпал: Бейлис такой, знаете ли, еврей евреич, с черной, как смоль, бородой и черными глазами, мерцающими так, как могут мерцать глаза еврея евреича, совершившего ритуальное убийство славянского дитяти. На мацу, конечно, куда ж еще кровь-то дитятей идет?.. У, загорелся Степан Петрович. Много сил и средств положил, звездный час выдался.
Но теперь, в больничке, молчал наглухо. Не то чтобы стыдился фальшивки, не то чтобы скорбел о провале судебного процесса. Нет, от ужаса леденел. Никакой не “святой черт” ему мерещился, а дух еврейства в обличье Менделя Бейлиса, и дух этот убивал его, Степана Белецкого, как матросы в тюремной больничке убили двух добрых людей, противников большевиков.
Белецкий, повторяю, ни вздоха, ни слова. А В.Л., предполагая жить, держал на уме русофобскую усмешку Герцена: дескать, новая жизнь в России начнется учреждением нового корпуса жандармов. Это-то В.Л. понимал. Не понимал, что останется место и подвигам сопротивления черной бороде с мерцающими зенками. С этой-то стороны и не был ему интересен Степан Петрович.
* * *
Находись он, как недавно, в Петропавловке, водили бы в Следственную комиссию при Петросовете – рядом была, у Троицкого моста, на Петровской набережной. Но, выдворив В.Л. из больнички, не выдворили из Крестов. Стало быть, вози его, черта, за семь верст и все лесом. Решено было так: пусть Беклемишев, следователь, сам к этому Бурцеву в Кресты ездит, размышляя по дороге о “деле Бурцева”.
Чертовски трудные, путаные размышления достались вчерашнему адвокату, а ныне труженику советской юстиции. Штука-то в том, что первым же декретом Власть Советская упразднила весь корпус прежней российской законности. Добро бы началась новая, советская. Так нет, велено было принять к руководству “революционную целесообразность”. А поди-ка сообрази, что оно такое. Ой, дети мои, надо было поглядеть на расстеряно-суетливого человека, страдавшего конъюнктивитом, когда он, собирая на лбу страдальчески-недоуменные морщины, старался примирить привычки своего юридического мышления с разъяснениями этой “целесообразности”: не ищите доказательств действий делом или словом против Советской власти; определяйте, к какому классу принадлежит обвиняемый, какого он происхождения, образования, профессии. Ответы на эти вопросы и определяют судьбу обвиняемого.
Увы, Беклемишев не решался “типизировать” Бурцева, о котором Горький напечатал: стыдно демократии держать Бурцева в тюрьме. Правда, демократия приказала долго жить, но все же Бурцев – это ж Бурцев. Правда и то, что на вопрос о Бурцеве ответил Троцкий, вскидывая голову (при этом Беклемишев заметил, какие у Льва Давидовича кругленькие смородинки-ноздри), в том смысле ответил, что этому клеветнику отныне и пикнуть не дадут. Бурцев утверждает, что он журналист, и только. А журналист – буржуазия, что ли? Образование университетское. Свой брат, универсант. Да и происхождением из обер-офицерских детей. Спрашивается, какую, собственно, “целесообразность” применить, дабы и пикнуть не мог? Непонятно, что ли, господа присяжные заседатели! Беклемишев не был дальнего ума, но и не был ума столь короткого, чтобы не смекать, в чем, главное, виноват-то арестованный Бурцев, – не он ли ежедневно в своей газете предупреждал о большевистском перевороте, не он ли обвинял заговорщиков в получении кайзеровских субсидий… По линии клеветы пустить, что ли? Опять же вопрос: клевета, она в какую целесообразность вписывается?
Следственная комиссия при Петроградском совете не была единственной в своем роде. Были и другие в том же роде. И под началом Бонч-Бруевича. И под началом тов. Дзержинского. Бывший присяжный и туда стопы, и сюда стопы. Отвечают: обвинительных материалов не имеется.
А на нет, говорят, и суда нет. Так, но “целесообразность”-то есть? И пребудет. А все равно Беклемишеву все ясно, ан дело темно.
Бурцев при встречах возвышает голос: судите меня! Я брошу большевикам в лицо: германец не сегодня-завтра вломится в Петербург, и вы, иуды, запоете: Ах, майн либер Августин, Августин, Августин.
Послушайте, В.Л., есть люди, готовые взять вас на поруки. В.Л. прикладывал руку к сердцу: благодарю, но откажусь.
– Но почему же, почему? – уныло вопрошал Беклемишев.
Его уныние и злило, и веселило Бурцева. Он сказал, что взятье на поруки отнимет самое желанье совершить побег. И пуще веселясь, прибавил: а есть “метода”, предотвращаю-щая нелегальное сокрытие от властей. Беклемишев отозвался междометием, оно озвучивало выраженье глаз: недоумение и недоверие.
Не крупней бекасинника был Беклемишев, дроби, что бьет по мелкой дичи. А вот начальник лагерного пункта у нас, в Вятлаге, сам пошел на то, чего Беклемишев не уловил в намеке Бурцева.
Майор, начальник 16-го иль 31-го, телеги все готовил зимнею порой. В тот год ему хотелось что-то там наладить по электрочасти. По этой части от “а” до “я” умел и знал Данильченко, зек старый. Я говорил о нем. Да вы наверняка забыли. Не тушуйтесь, я сам три четверти не помню… Но как забыть Данильченку? Он жене, не отвечавшей ни письмишком, упрямо сообщал: пришли-ка мне очки, я тут не вижу ковбасы. Какой-то весь обугленный не то еще в донбасской шахте, не то морозами, веселым не был, но повеселить умел. Так вот, майор, заботливый хозяин, приходит к нам в электромастерскую; потертая и долгополая кожанка, внушительная самокрутка, треща, роняет паровозную искру; серьезен, сумрачен садится на верстак. И обращается к Данильченке: нам надо приготовить к лету то-то, нам надо сверх того и это… Нам? Как говорится, берет Данильченку по делу. Не исполнителем приказа, а со-трудником, со-товарищем. Однако, как ни назови, а действовать-то без конвоя нельзя как раз Данильченке, весьма наклонному к побегам, что он и доказал не раз. Его ловили, били, добавляли срок. Он признавался: невольно думаю о воле по весне… Майор и говорит: Данильченко, ты слово дай, скажи мне – даю я слово честное; и баста, я распоряжусь, и всё… Данильченко вздыхал. Зачем-то надевал бушлат в натопленной донельзя мастерской, то снова стаскивал. Молчанье было ощутимо трудным. И, словно бы сочувствуя майору, повесив голову, ответил: “Эх, гражданин майор, ну, слово дашь, а тут, глядишь, кукушка скоро закукует, позовет… Нет, гражданин майор, не буду, не могу”. Вчерашний фронтовой комбат поднялся в рост, едва ль не двухметровый, багровея, швырнул цигарку: “Ты завтра выйдешь без бригады. И приступай. Я за тебя отвечу. Понял?” – и хлопнул дверью. А мой Данильченко вздохнул: “Ну, тать его… Макаренко”.
Так поступить с В.Л. ну нипочем не смог бы робеющий всего и вся Беклемишев. А Бурцев внезапно улыбнулся весело, беспечно. Беклемишев оторопел – казалось, что В.Л. вот-вот изъявит озорство. Но Бурцев ничего не высказал и ничего не объяснил. Тут, знаете ли, такая вышла “перекличка”.
Героем моего романа в обоих смыслах слова был Лопатин (коли охота, загляните в “Две связки писем”). А Бурцеву он был кумиром (коли угодно, отворите дверь в сторожку, имеется в виду “Соломенная сторожка”). Продолжаю. Нужно знать, что Герман Александрович давным-давно в Сибири однажды дал слово г-ну полицмейстеру – не извольте беспокоиться, я лататы не задам. Не минуло и года, и он, что называется, ушел с концами. Спустя без малого полвека рассказывал об этом – там, далеко, на Юге, рассказывал и слушал море. Тяжело ворочаясь, оно укладывалось спать… Шутя спросили: позвольте, Герман Александрович, выходит, слово побоку? Ответил пресерьезно: полицмейстера сменили, а новенькому я слова не давал. Все рассмеялись, Лопатин тоже. И палец приложил к губам: любил он слушать, как засыпает море.
Вы замечали, у морей косые скулы? Февраль имеет скулы эскимоса. Наверное, потому, что тюремная решетка наискосок расчерчена метелью. Какие снегопады в феврале. Там, на дворе, день ото дня фонарный столб все ниже, сугроб, его обнявший, все выше и пухлее. И Петроградская, она в сугробах тоже, дрейфует, словно материк, все дальше от Крестов. На Петроградской доживает Герман Александрович, ему восьмой десяток, он доживает свой последний год. В.Л. готов услышать его голос, пусть и в телефон оригинальнейшего образца, хотя, конечно, канализация, шутил Лопатин, не знает акустических эффектов моря.
* * *
Канализация была феноменальной в Шлюшине, в той крепости, что на гранитном острове, рубившем надвое исток Невы. И каждый каземат имел парашу. В одном из казематов Лопатин отдавал частицы бытия не много и не мало два десятка лет. Не сетовал на власть, на тайную полицию, на жандармерию. Шутил: дала, так и не кайся. И это всем нам хорошо бы зарубить не только на носу. Он часто, как сказали бы теперь шпионы, выходил на связь. Параша служила зекам переговорным пунктом. Приставь ладони лопаточкой к щекам, нагнись и говори спокойно-внятно, сосед тебя услышит, как и ты его, услышат и другие, здесь не играли в телефон испорченный.
Иное дело эмигранты, эмиграция. Такое там бывало, и не раз. Но было и совсем иное – ветер с моря. Лопатин после Шлиссельбурга шептал, как эллин: “Таласса! Таласса!” – “Море, Море!” И на террасе слушал гул Тирренского.
Итальянское местечко в номенклатуре всей Ривьеры – оно петит. Однако запросто вмещался писатель ростом исполин. Фамилия огромна, как арена: Амфитеатров. Смеялся Герман Александрович: “Амфитатро – вы щедры, как воры”. В палаццо дневали, ночевали, приезжали на денек, другой, на неделю, на месяц русские скитальцы, политические эмигранты.
Меж ними жил Лопатин. После Шлюшина портрет его писал художник Пастернак. И записал: старик могучий. А Лопатин иронизировал: англичане ведут неправильный образ жизни и достигают каменного здоровья, а я, господа, шлиссельбургская окаменелость.
Он молотил саженками, заплывал далече. Он в одиночку хаживал к альпийским ледникам. Но вот что правда, так это правда: после артельного обеда во дворе палаццо, под навесом из виноградных лоз, старик могучий исчезал соснуть. Но вот уж свечерело, на террасе московский самовар освистывает свысока накат тирренских волн. И разговоры, разговоры. Подчас и монолог. Как говорила Вера Николавна Фигнер – ну, Герман наш распространился, что и словечка никому не молвить. Хорош! Он в выношенном джемпере, на локотках заштопан, массивная железная цепочка от часов ведет к карману с карманными тяжелыми часами, они с ним были в Шлюшине. Хорош! Но на меня не смотрит, в профиль снят, да и к тому же я давно ему прискучил – все восхищаюсь, восхищаюсь и тоже, знаете ли, “распространяюсь”, не думая о вас, читатель.
Но вот чего ваш автор не перенял у Германа Лопатина, так это перманентного желания видеть русских, слышать речь русскую, дышать российским воздухом. Не перенял и не испытывал, наверное, оттого, что дольше, чем на неделю-полторы, не отлучался. Ему же выпадали долгие отсутствия. До Шлюшина и после, когда он ездил в Лондон, как ездят к старому товарищу, когда он жил в Париже и наезжал в Кави. Да, в Париже! Бурцев говорил: я без Лопатина, пожалуй, и не управился б с друзьями иудушки Азефа. Бурцев говорил: наш юрисконсул. И посвящал Лопатина во все детали своих изобличительных конструкций. Прав Пастернак: старик могучий.
В Кави, в палаццо, у Амфитеатровых, Лопатина одолевало желание России. К тому ж кончался срок, который запрещал селиться в двух столицах богоспасаемой империи. “Не уезжайте”, – повторял Амфитеатров.
Светло пылало лето, последнее перед войной. Мир мирный догорал. Горячим камнем пахло, иодом моря, цветами Юга. И мягкой, мелкой белой пылью. Она дарила мне евпаторийское: Левонтий, мой приятель, остановил телегу; сидим мы, свесив ноги, и режем дыню ломтем, словно каравай, и эту сладость, эту мякоть присаливаем крупной солью, а маленький трамвайчик бежит, звеня, к лиману. Ты дышишь томно; тебе истомно, как и там, в лиманах тяжелых, тусклых, как тузлук. А здесь, в прохладнейшей траттории, здесь тоже древний запах, но это не тузлук, а молодое виноградное вино. Ах, трактирщица Мария! Какая роскошь форм, и этот блеск двойной и слитный – улыбки, взора. Ей симпатичен этот русский. (А что! – ему всего-то ничего, под семьдесят.) Ах, боже мой, Мария, она подобна той, что тыщу лет назад Лопатина пустила на ночной постой, – в разбитых башмаках и без гроша в кармане он питерский студент, спешил на помощь Гарибальди.
“Не уезжайте”, – повторял Амфитеатров. Лопатин хмурился: “Прощай же, море, не забуду…”. И смеялся: ох, это “же”, но Пушкину дозволено и “же”. Амфитеатров гнул свое. Но знал ответ: как ни тепло чужое море, как ни красна чужая даль, не им поправить наше горе, размыкать русскую печаль.
Уехал. И жил до самой смерти на Петроградской, у речки Карповки, в том доме, который назывался Домом литераторов, весьма приличная общага.
* * *
Прельщая поэтессу, поэт говаривал, прелестно запинаясь: “А в Переделкине метет метель от Блока”. И записал, не запинаясь: какая музыка была, какая музыка играла. С надменною улыбкой ответил Блок: музыка революции. Лопатин смерил их обоих взглядом. Каким-то новым, что ли; во всяком случае, не прежним, не кавийским. Пристальным и ярким; хотя и яркий, но словно бы издалека, есть интерес, но вроде бы натуралиста; взгляд “лабораторный”.
Какая музыка играла? На слух Лопатина, свистящая и сипловатая. Не дымоход ли выстуженной печки – худо топят в Доме литераторов. Иль ветер в подворотне лижет наледь, помойные подтеки – ведро выносят старики, нет дворника. А может, это скрип баржи на Карповке, остался мертвый, мерзлый остов – всё разобрали на дрова… На слух Лопатина, совсем другое. Он сумрачно спросил: “Откуда флейточка?” Она ответила: “Я не от Генделя, я от Гегеля”.
Мы диалектику учили не по Гегелю. Нам не дано расслышать флейточку иронии Истории. История мудрена, но не мудра. Ее ирония ест душу, словно ржа иль кислота. Такая вот, представьте, флейта. Какой, к чертям, ноктюрн? Дом литераторов без водосточных труб. Их сперли повелением Ивана.
Вам слышится – Наины? Э, звали ее Маней; кликухою – Хипесница. Тогда в сей термин вкладывал глубокий смысл народ-языкотворец: способности мадамов и девиц в ощип пускать любовников. Не думайте, что г-жа Хипесница была скандальной, вздорной бабой. Напротив, ласковой, заботливой. Без лести преданной Ивану. Тот прозвище имел не шибко величавое – Окурок. Не ухмыляйтесь: славный взломщик несгораемых шкапов. Недавно – по амнистии – отпущен из централа, явился в Петроград, заре навстречу. И записался, губа не дура, в анархисты. Привлек Хипесницу, она сложила губки бантиком. И зажили они у Кошкина, на Карповке, в игорном заведенье “Монте Карло”, в соседстве с Домом литераторов. Так литераторам и надо, они боролись за свободу. Съезжалась в “Монте Карло” идейная братва. Как пули в ленту пулемета “Максим”, она всего Кропоткина вложила в формулу максимализма: Пусть Все Творят Всё, Всё!!!
Тогдашняя братва, включая чистокриминальную, она ведь нынешним-то не чета – умела чтить авторитеты фраеров. Снимала шапку, встречая нашего Лопатина, – прогуливался он у речки Карповки. Так и матросы. В Кронштадт-то Герман Александрович не ездил, как бабушка Брешко-Брешковская, но на петроградских митингах доказывал бесстрашно необходимость победить германца, а власть Советов освободить от большевистской власти. Сходило с рук, не трогали и пальцем, он – дед всей нашей революции. Не всей, положим. Отнюдь не всей. Но дед, и, значит, не замай. И после митингов их устроители в бушлатах входили, словно в гавани, в особняки на Сергиевской, располагались, как Иван Окурок, а следом на пролетках ехали хипесницы – артисточки кордебалета. Им говорили влажно: эх, барышни-красавицы, учите-ка нас танцам. Такие вот ноктюрны по ночам в соответствии с французским nocturne, то есть ночной. В ночах постреливали, как спросонья, патрули. В ночах и днях смердели, фыркая, бронемашины. Ружейным маслом пахло, плясала на аркане вошь тифозная. Пороша порошила, забеляя пудрой тоненький ледок. Барыня в каракулях – бац! – растянулась. Дед всей революции взмахнул отчаянно руками – грохнулся. Салопница-старушка на него серчала: “Ханжи хватил! Теперича лежи, покамест не поднимут”. “Голубушка, – взывал Лопатин, – ты б мне хоть палку отыскала”. – “Еще чего, нашелся мне: голу-у-бушка”, – но трость нашарила, вручила, выручила. “Ну, ну, – сказала мирно, – ты, батюшка, гляди вострей”.
Куда он шел? Сидел бы дома. Вот-вот, сидел бы дома. Уж пятый год свой дом. Литературным фондом отдан переводчику Лопатину. До дней последних отдан. И, стало быть, законный, свой. А то ведь как лет пятьдесят? То долговременный казенный, то среднесрочный наемный угол. А этот… Гостей встречая, приговаривал, оглаживая бороду, степенность напуская, – вот смотрите-ка: стол у меня для письменных занятий, ящички удобные, полка книжная без траурной тафты, окно на Карповку, она весной приванивает донным отложеньем, но все же воды, движенья чающие. А во дворе – садик, пусть и размером Шлюшинский, зато уж дальше – сад Ботанический. Нет, что вы, ничего не нужно, все есть. И зала библиотечная, и газеты все, чего еще человеку, получающему пенсию. Ну, конечно, не больше, чем конторская барышня, так барышне-то многое нужно, а мне ни-че-го. А на столе для письменных занятий фотографический портрет матери его сына Бруно; давно развелись, еще до Шлюшина, в Лопатина и после Шлюшина влюблялись, а он ее всегда любил и не любил, коль спрашивают: “Герман Александрович, кто это?” Отвечал принужденно, нехотя: “Так, красивая женщина, приятно взглянуть”. Никому не говорил, что красивая женщина – практикующий врач в петроградском номерном военном госпитале, нет, не говорил. И, кажется, никогда не встречался. А сын Бруно, навещая, рассказывал обо всем, только не о матери.
Ему советовали: Герман Александрович, вы бы мемуары написали, вы целая поэма, видели всё и вся, куда только судьба-то не бросала. Нет, право, пишите, все ваши друзья-товарищи шлиссельбуржские, чуть не все уж издали, а вы нет да нет… Он приступал не однажды, но каждый раз испытывал почти физическую боль прожитого и пережитого, а вместе и то чувство деликатности, любви к ушедшим, когда боишься оскорбить их, безответных, чем-то несправедливым, не так понятым или вовсе не понятым, потому что ты не всеведущ, не всепроницателен… Но вслух: о чем мне писать, что уж я такого видел? Вот если б генералом был… Братья его, государственного преступника из первых, в генералы вышли, Смерша не было, парткомов не было, бдительности не было, вот они и в генералы вышли, пока он шлюшинским 26-м номером числился… Нет, генералом он не был, а имел в виду одного из славных екатерининских орлов. Тот генерал объявил: сажусь писать мемуары. Спрашивают: ты-ы-ы? А что ты, братец, видел? Отвечает: да я видел такие вещи, о которых вы и понятия не имеете. Приятели брови поднимали. Объяснял горячо: да начать с того, что я видел голую жопу государыни!..
Куда идти? Сидел бы дома. Да, под заботливым присмотром Софьи Александровны. Он ей сочувствовал – достался “Пресловутый”, всю жизнь от страха за него мрет сердце. “Пресловутым” звал Герман Александрович ее сына, Бориса Савинкова. Как матушка его она была известна всем; как драматический писатель немногим. Сын помогал, но редко. А Бруно, тот пытался помогать отцу, отец отрежет: халтуру буду трескать на собственных похоронах. Ха-ха, наш адвокат не понимает, о чем он? Ты, Бруно, не живал ни в Вологде, ни в Курске, а там халтура – угощенье на поминках… Не принимал, что называется, из принципа. А от Засулич принимал… И справочку давал, как говорится, историческую: атеист Лавров, бывало, забожится, его ткнут носом – ага! Смутится, скажет: а это – непоследовательность… И ради непоследовательности Бруно Германович оставлял свой сверточек у не чужой ему Засулич. Ох, Вера бы Ивановна поделилась с кошками, приблужилась едва ль не дюжина. Однажды наведался Плеханов, поморщился брезгливо: послуште, Верочка, вы этой твари давайте калий – цианистый. При том случилось быть Лопатину. Ах, милый Герман Александрович! Парировал: эй, Жорж, ты лучше угости цианистым апологетов пролетарской диктатуры.
Куда идти?
Балтийские матросы хотели делегировать Лопатина в Учредительное собрание. Ирония истории разъела русскую соборность. Не флейточка свистела, а свистульки; трещотки, народный ударный инструмент, сухие издавали звуки разнообразных ритмов. Не так ли, Елена свет Петровна?
Гляжу: старушка-мышка, тишайшая из лаборанток института стали. Однако – тсс! Товарищ Сталин жив, а посему помалкивала, что совсем молоденькой служила и в Смольном у тов. Гусева, он, к сожаленью, Драбкин, и на Гороховой, в ЧеКа, а там – Урицкий, который, к сожалению, и Моисей, и Соломонович. Ну, хорошо, пришла по объявлению и начала трудиться на пишущей машине. Чего же вы нишкнули, тов. Селюгина, тишайшая из лаборанток института стали? О-о, понимаю, понимаю. Соцреволюцию свершил тов. Сталин, ну, маленько Ленин поучаствовал. Но Учредилка-то… Разгон, январь, год Восемнадцатый; положим, указанье Ильича, однако все сварганили гусевы, урицкие. И вы, Селюгина Елена, об этом знали. Как не знать? Они ведь молодых, весь “низший персонал”, свистульками снабдили, трещотками да и послали на Таврическую.
Там, на Таврической, была толпа сограждан. Приспели сроки! От эсеров большинство, от беков меньшинство. Кадетов нет, они враги народа. Друзей народа, то бишь народных социалистов, пара. Да свершится!
Идут к подъезду. Конечно, Главному. А там уж, во дворце, везде матросы. Винтовки, кобурное оружие. И вьются ленты пулеметные орнаментом эпохи. И Толя, он Железняков, запанибратски с каждым братом. Дух весьма тяжелый. Матросы у дверей, матросы в зале. А в ложах мальчики и девочки. Не ведая о том, что здесь творят, они вот-вот и сотворят здесь непотребство.
И сотворили, не правда ли, Селюгина?! Чуть на трибуне не наш, не большевик, тотчас – шабаш. Хоронят домового, ведьму замуж выдают. Свистульки – рев норда сиповатый. Трещотки оглушают. И как под занавес, вы это помните, Селюгина, как от матросского телодвижения все делегаты, окромя большевиков, вдруг бросились враздрызг, бежали садом, карабкались и на садовую решетку. Матросы не гнались вослед. Ну, брат, умри со смеха. И лены-леночки, и васи-петечки, молодость нашей страны, вы тоже за животики хватались, потом, схватив пролетки и авто, всю ночь носились взад-вперед по Невскому и по Литейному. “Ура!” Кричали, смеялись, обнимались, пели, пускали в ход свистульки и трещотки. Учредилка приказала долго жить. Сказала б Лида Либединская: прости, прощай, наш идеал мечты.
* * *
Графинюшка (она ведь урожденная Толстая) предобрая, приняла б Лопатина. Устроила б удобно и уютно на укромной даче. Но Герман Александрович не оставлял надолго свой скромный дом, который тоже принадлежал Литфонду. На Карповке, на Петроградской стороне, не то чтоб рядышком, но и не то чтоб далеко от Петропавловки. Шпиль крепости всегда очерчивал все возвращения на круги своя. Так было в молодости. Так было и теперь. И вот уж скоро шпиль поставит точку – в больнице Петропавловской.
Он редко отлучался надолго. Однажды в день, в обед, он уходил обедать. Нашел дешевую столовку, здесь же, на этой Карповке. Как раз в “столовом” доме и находилась квартира одного социалиста, лица известнейшей национальности, уже по одному тому квартира “нехорошая”. Но то была уж очень “нехорошая квартира”. Там Ленин со товарищами заседал и, увы, увы, не прозаседался: взял на восстанье курс и подарил надолго и всерьез нам концентрат ЧеКа – Политбюро… Лопатин этого не знал, о чем жалеть не следует. Глядишь, и поперхнулся б супом, а суп, он тоже денег стоит.
Скажу вам доверительно, Ильич минувшим летом остановился в двух шагах от Дома литераторов. Но это знает только тот, кто съел пуды ленинианы. Послушайте, старик Лопатин прав: нет книги, до того уж глупой, что невозможно ничего извлечь. Ваш автор, например, извлек известия о Павле.
Лопатина послеобеденного он в Доме литераторов застал, как говорится, с первого захода. Не для блезира – тщательно пришаркивал на половице. Солдат. Шинель, папаха, сапоги, все не для фрунта, а для фронта. Был этот Павел каким-то лепестком с ветвистого лопатинского древа. Лопатину сказал он – “дядюшка”, что было благосклонно принято. Лопатин не терпел ни “дед”, ни “дедушка”, а “дедом русской революции” его в глаза никто не называл.
Описать, каков был Павел внешне? Тут трудность для меня необоримая – уж очень зауряден. А говор южный, ставропольский, нетвердость “г”. Незаурядность-то не внешняя. Не потому, что большевик, помилуйте, какая невидаль. Не потому даже, что добровольцем воевал не за царя, а за отечество, но к “пораженцам” примыкал идейно. Из ряду вон считаю я вопрос, который он поставил нынче Ильичу. Они были знакомы с девятьсот шестого. Тогда уж Павел был членом РСДРП, был ленинского направления. А нынче встретились вторично, на конференции большевиков-фронтовиков. Ильич его узнал. Вопрос в глазах: ну-с, что у вас, товарищ? А тот не о войне, тот о ЧеКа товарища Дзержинского. И – озабоченность, тревога: не разразится ль над Россией шквал террора?! И что ж Ильич? Как что! Известно: куда-то там, под мышки, что ли, ладони сунул, на носки привстал и голову тяжелую закинул, прищурился, как Штраух, и разразился смехом. Заливистым, открытым смехом, каким, по замечанию тов. Луначарского, смеются лишь очень-очень-очень честные марксисты. Потом он Павла взял за руку, двумя руками сжал и, накрепко слова сжимая, объявил: не будет робеспьеровщины, не будет. Отбросил руку партийного собрата и пальцем указательным перекрестил крест-накрест гул партийной конференции.
Лопатин слушал. Я думал, вот-вот и разразится шквал – нет, не террорный, шквал витийства резкого. Но Герман Александрович разглядывал племянника своим “лабораторным” взглядом, и пристальным, и ярким. Потом сходил за кипятком, а Павел вынул из кисы-мешка буханку и сахар колотый – сверкнула белизна, точь-в-точь как и в руках солдата в сорок первом, я только слюнки проглотил.
Пили чай вприкуску, Лопатин прикладывал ладони к горячему стакану, но рассуждал, не горячась. Разговор, нет, монолог серьезный. Позвольте схемой; имитацией боюсь сфальшивить.
Он начал как экономист. Промышленный прогресс России так силен, что и европейские обозреватели, есть книга Терри, предвещают ей к середке века доминирующее положение в Европе. Допустим, такова гипотеза. Но мы-то в канун войны… Я на память, но, поверь, не ошибаюсь. Четвертые мы в мире по производству металлических конструкций, на пятом – стали и цемента, а на шестом по добыче угля. Недурно, а? Однако вы-то, друг мой Павел, имеете микроб народничества, для вас капитализм только хищник, вампир и зверь из бездны. Эксплуататор, мать его ети. Не так ли? А роль капитализма куда сложней. Организатор производства. И надобно, чтоб развивался, рос и, тем определяя ход вещей, создал условия для устроения социализма. А вы, марксята, желаете его создать декретом, махом, вынь да положь, и баста. Коль не сегодня, так завтра. Еще раз: социализация должна была созреть в китовом чреве капитализации. Необходимо совпаденье многих предпосылок. Социализм же революционный – абракадабра, чепуха; он лопнет, оставляя страшное зловоние. Плеханов трижды прав: не следует рабочим браться за оружие. Но дело сделано. А Маркс предупреждал: сместите сроки, прольете реки крови. (И, между прочим, точно так же Достоевский, хоть, впрочем, в эдаких вопросах он мне не указ, как не указ он верующим в вопросах теологии.) Ваш творческий марксизм не что иное, как захлеб поэта… он не красный – Белый он: “Россия, Россия, Россия, Мессия грядущего дня…” Экономически и философски – бездна бездну призывает. А политический аспект? Иной раз создавалось впечатление, что все другие партии, в отличие от вашей, больше смыслят в историческом прогрессе. И потому шаг вперед, а два назад иль бег на месте. А ваша-то рвала, метала, да, глядь, и в дамках: каприз истории, чтоб не сказать – ее ирония. Дальнейшее я вижу глазами Энгельса. Начнете вы изображать коммунистический кюнштук, и мир сочтет вас всех чудовищами. Да это бы еще туда-сюда, сочтут вас дураками, что, господа-товарищи, гораздо хуже, нежели чудовища. И вот ведь что еще, мой Павел, переворот спроворили, как заговор. А заговор, удачный заговор, дает, конечно, диктатуру. Нет, нет, не пролетарскую, а нескольких сограждан, уже заполучивших диктатуру одного лица. И оное владеет рулем родного корабля.
Вот так “распространившись” именно в марксистском духе, Герман Александрович продолжил, как говорится, в личном плане. Он не испытывал потребности в кумирне для культа персонального, а Пашенька, видать, испытывал. И дядюшка, ероша бровь, что было признаком прилива гнева, продолжил. Скажи-ка, Павел, неужели ваш Ильич, штудируя работы Маркса, Энгельса, так и не понял, что выкидышу не дано разумное мироустройство, что вам придется лить, лить, лить кровь, что даже при крепостном повиновении кюнштук останется кюнштуком, нальется гноем, застоится, да и лопнет. Бьюсь об заклад, все это он понял, штудируя Маркса с Энгельсом. А если понял, если знал, тогда, скажи на милость, с кем и с чем имеет дело наша матушка Россия? Вот – он показал на стену – там Верочка Засулич, она права: да он, ваш Ленин, не кто иной, как бывший наш Сереженька Нечаев. В европах жил, но воротился азиатцем и будет делать секир башка, крестясь, как на Спасителя, на Карла Маркса. Какой там, к черту, Робеспьер… Ильич ваш искренне убежден? Наверно, Гегеля зубрил, да вот не вызубрил: все, что было испорчено, было испорчено с самыми благими намерениями. Знаешь, от таких вот “искренних”, как и от аскетов-праведников, шибает за версту паленым мясом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































