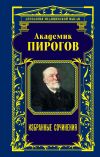Текст книги "Начало"

Автор книги: Юрий Герман
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
– Да ты, Николаша, уж не хочешь ли сделаться масоном?
– А что ж такое масон, – следует ответ, – у нас в нашем университете между нашими студентами есть и масоны… Вы, маменька, составили себе неправильное представление…
И, размахивая длинными руками подростка, он начинает говорить вздор о субстанции, произносит заведомо непонятные им всем слова и возвышается в глазах братьев и сестер не смыслом слов, а только тем, как он бойко их произносит и как мамаша при этом теряется.
– Ну, бог с тобой, – крестя его и крестясь сама, вдруг говорит матушка, – с тобою теперь вовсе не сговоришься. Время, что ли, такое настало. И куда это свет идет?
Он чувствует, что выходит из разговора победителем и что теперь ему надо произнести только последнюю заключительную фразу так, чтобы не ударить в грязь лицом. И, слегка напрягшись и даже несколько покраснев, он говорит, глядя прямо в лучистые глаза матери:
– То есть как это свет идет и какое время настало? Да куда ж ему идти и что такое время? Прошедшее невозвратимо; настоящего не существует; его не поймаешь – оно то было, то будет; а будущее неизвестно.
Фраза, произнесенная им, необыкновенно эффектна, и все приходят в восторг. Даже матери она понравилась. Отец наливает себе и Николаше по маленькой рюмке лафиту и лукаво подмигивает матери на сына. Все это было только четыре года тому назад. Теперь он не стал бы мучить мать глупыми разговорами о боге. Теперь бы он сидел с ними за столом, пил бы чай с домашним вареньем, и… но дома уже нет, отец умер, он в далеком Дерпте, и день его рождения будет печальным и безрадостным. Его никто сегодня даже не поздравит.
Чтобы утешить себя, он принялся за воспоминания – авось так будет веселее и легче. Сегодня день рождения, вот уже второй год он в Дерпте, можно позволить себе такую роскошь – повспоминать, понежиться в постели, подумать не о последнем времени в Москве, а о том, давнем, когда все было совсем хорошо, когда в доме еще не знали нищеты и бедности, мать не плакала и отец не бродил из комнаты в комнату, растерянный и подавленный. А главное, когда он был, когда дети еще не назывались сиротами, когда не нагрянула беда…
Прежде всего он принялся вспоминать дедушку.
Дедушкин камзол и парик. Милый дед, добрый старый дед. Милый Иван Михеевич. По зимам старик тосковал, не находил себе места, охал и кряхтел и с грустью говорил бесконечным внукам и внучкам:
– Ох, дети, верно Михеичу уже зеленой травы не топтать…
Но наступала весна, дед напяливал на лысую, как колено, голову парик, влезал в коричневый камзол, брал в жилистую руку трость и, весь светясь счастьем, выползал во двор топтать свою любимую траву. Весь дом высыпал смотреть, как столетний Михеич с детской радостью, смеясь от счастья, ходит по молодой траве, как он экает и гукает и покрикивает чадам и домочадцам:
– Сто лет живу, а все ее топчу, о господи! Вон он каков, Михеич… Сто второй пошел, видали, дети? Нутка, попробуйте, поживите с мое…
Потом с внуками и правнуками тащился в церковь, оповещая по дороге всех знакомых, что жив и здоров, что еще дождался весны, что нынче пошел ему, хвала господу, сто второй, что вот идет помолиться и возблагодарить за великое счастье. На паперти дед, словно шапку, стаскивал с головы свой лысеющий от времени парик (говорили, что парику уже под семьдесят) и плешивым входил в храм, где на него с неудовольствием косился поп, упрекавший, по рассказам, старика в том, что тот манипуляциями с париком вводит в соблазн предстоящих во храме…
Милый, милый дед!
Или грамота, которую он вспоминал всегда с удовольствием, эти карты, по которым он учился, засаленные и грязные донельзя:
Ворона как вкусна, нельзя ли ножку дать?
А мне из котлика хоть жижи полизать.
И картинка: французские солдаты, тощие и страшные, как мертвецы, раздирают на части дохлую ворону, а один француз лижет из пустого котла.
Может быть, он опять задремал под свист осенней непогоды, под скрип черепиц, под заливистый храп Иноземцева, может быть, заснул…
Далекие, милые сердцу воспоминания тянулись одно за другим, вставать не хотелось, на душе было легко и покойно, точно в тумане рождались и исчезали картины.
То ли из рассказов домашних, то ли виденная им самим – пронеслась и канула во тьму светлая и яркая, беспокойная и жестокая комета двенадцатого года. Может быть, он видел ее во время бегства семьи из Москвы во Владимир? Или не мог видеть? Но почему же тогда до сих пор стоит перед его глазами это жестокое, неумолимое, твердое сияние?
Или стих, которым он поздравлял родителей с днем рождества Христова:
В одежде солнечной, багряной
Направил ангел свой полет…
Куда направил, что, почему? Это все исчезло, растворилось, а вот «в одежде солнечной, багряной» – это он помнит.
И дедушка, главное дедушка.
И сад, цветы в росе, всюду роса ранним утром, выходят сестры и братья играть в крючки и кольца. Рукою он берется за кольцо, а оно тоже в росе, и он визжит от полноты счастья, от чувства бытия, визжит, и визг этот до сих пор стоит в его ушах.
Нет, это не визг.
Это что-то совсем иное, чем визг.
Открыв глаза, он прислушался: визга никакого не было, он всегда забывал и до сих пор не мог привыкнуть к этому дерптскому обычаю свистать часы.
Прошел хожалый сторож и просвистал на своем дьявольском инструменте семь часов.
Пора вставать. Даже для дня рождения это очень поздно. Обычно он вставал в шесть, а то и раньше.
В комнате холодно и нетоплено, у леффеля Андреуша не хватает рук, он один служит дюжине профессорских эмбрионов, попробуйте – справьтесь. И что ему скажешь, когда у него такое замученное лицо?
Кстати, почему слуг тут называют леффель – ложка, а женщин-служанок – безен – метла? И другого имени им нет. Вот вам и Европа.
Ежась и пофыркивая от холода, он спустил ноги на кирпичный пол, отыскал спички и засветил свечу. Отвратительная комната, переделанная из конюшни, медленно стала выплывать из мрака. В дальнем углу сердито храпел Иноземцев, спрятавший голову под подушки. Посередине комнаты, на полу, валялась его коричневая палка из можжевельника – он очень ею гордился – настоящая студенческая палка, отличная цыгенгайская дубинка, знак хорошего положения в корпорации; возле палки на полу лежал мятый и грязный краген – Иноземцев таскал этот студенческий плащ в непогоду и, когда возвращался домой навеселе, обязательно швырял свой краген на пол посередине комнаты.
«То-то не желает просыпаться», – подумал Пирогов и окликнул Иноземцева:
– Федор Иванович, вставать пора.
– Хорошо, ладно, – быстро ответил Иноземцев и совсем зарылся в подушки.
Наконец явился леффель Андреуш с завтраком, завернутым в тряпки. Пока Пирогов ел картофельные оладьи со сладкой подливой – тошнотворное изобретенье жены леффеля, – Андреуш, имевший всегда наготове дратву, на щетине зашивал ему сапог, потом почистил сюртук и налил в кружку теплого молока.
– Иноземцев, вставайте, – опять крикнул Пирогов. Он не допил молоко, когда без стука отворилась дверь и вошел Даль. Еще в двери он, по своему обыкновению, немного пожужжал осой, потом комаром, потом басом, как шмель. Это означало, что у него хорошее настроение.
– Дайте глоточек молока, – сказал он, – мой леффель меня сегодня вовсе не кормил, такая черная душонка…
Аккуратно повесив мокрый краген на спинку стула, он сел за стол, поводил длинным носом, улыбнулся доброю и умною улыбкой и стал рассказывать, как вчера ночью корпорация устроила близ его квартиры кошачий концерт.
– Кому это они устроили? – спросил с кровати Иноземцев.
– Вставайте, вставайте, – сказал Даль. – Мойер обидится, нас всего четверо, он ради нас встает такую рань…
Леффель Андреуш, обожавший Даля, налил ему еще молока, он пил и рассказывал, что долго не ложился – писал сказку, а они пришли и подняли такой рев, что пришлось бросить писать.
– О чем сказка? – спросил Пирогов. Даль ответил о чем.
– Бросьте вы к черту хирургию, – одеваясь, сказал Иноземцев, – вам в писатели надо идти, а вы с нами хирургией занимаетесь. Я серьезно говорю, Владимир Иванович. И хватит вам занятия менять. То вы лейтенант флота, то вы памфлетист, то вы лекарь, то вдруг хирургией занимаетесь. Оставьте это дело нам, верно, Пирогов? Ну что вы молчите?
Вместо ответа Даль необыкновенно ловко пожужжал осой и поднялся. Вышли все вместе. Ветер стих, но дождь по-прежнему лил как из ведра. Даль и Иноземцев совсем завернулись в свои крагены, у Даля виден был только нос, у Иноземцева блестящие глаза.
Недалеко от университета догнали Мойера. Иван Филиппович шел медленно, кожаные его калоши громко шлепали по лужам, под ноги он никогда не смотрел, в руке у него был огромный клеенчатый зонт.
– Идите со мной под зонтом, Пирогов, – сказал Мойер вместо приветствия, – я имею к вам несколько слов. Почему вы так ужасно пропускаете лекции? На вас большие жалобы, и может выйти скандал.
В сером свете наступающего утра лицо Мойера казалось Пирогову необыкновенно красивым и очень суровым. Не найдясь, что ответить, Пирогов молчал, – это был уже не первый разговор на эту тему. Что он мог сказать Мойеру, когда тот кругом прав?
– Прошу вас принять во внимание мои слова, – продолжал Мойер, – для вас могут выйти неприятности, и пребольшие, подумайте.
Он совсем насупился.
На крыльце анатомического покоя их уже поджидал Липгардт, один из самых удивительных людей, с которыми Пирогову когда-либо приходилось встречаться. Этот Липгардт, учившийся в университете приватно, поражал всех удивительными по широте и глубине своими знаниями. Блестящий математик, он внезапно увлекся анатомией, физиологией и хирургией и, дилетант, вскоре примкнул к медикам, принимал участие в их диспутах, занимался вивисекцией, перевел Биша и сделался вторым после Пирогова анатомом в их четверке, управляемой Мойером.
История четверки тоже была не совсем обычной.
К тому времени, когда группа профессорских кандидатов, собранная со всей России, приехала в Дерпт для того, чтобы подготовиться к отъезду за границу – в Берлин, Париж, старик Мойер, знающий и талантливый хирург, ученик великого Антонио Скарпы и позднее Руста, – заленился и перестал серьезно заниматься своим делом. Имея хорошие способности к музыке и любя Бетховена, он по целым часам сидел за роялем, или, когда и это занятие ему наскучивало, ходил по квартире из комнаты в комнату, посвистывал, поглядывал в окна, вмешивался в уличные сцены, разыгрывавшиеся вблизи его дома, читал старые, повсюду разбросанные романы, плакал. Он был вдовцом из той немногочисленной разновидности этих людей, для которых со смертью любимой женщины кончалась и собственная жизнь. Как рассказывала теща его – Протасова, – молился Мойер только об одном – просил для себя смерти как высшей милости, твердо надеясь там увидеться с нежно любимой женою.
Естественно, что такой профессор не мог привить слушателям особого интереса к своему предмету, да он и не стремился к этому. Чем меньше интереса – тем меньше хлопот, по всей вероятности думал он и, передоверив лекции своему помощнику, человеку решительно недаровитому, засел совсем дома, ссылаясь на болезни и на нерасположение к занятиям. Операции же Мойер делал только такие, отказаться от которых никак не мог, да и то с величайшей неохотой, а потом с боязнью – отсутствие практики у хирурга обязательно ведет к излишней нервозности в том деле, которое прежде всего разумеет отличное спокойствие и железную выдержку.
Так продолжалось до приезда в Дерпт профессорских кандидатов и, главное, Пирогова.
В начале первого семестра, ранней осенью, когда Мойер копался у себя в палисаднике, лакей доложил ему о приходе некоего Пирогова.
– Что ему надо? – с неудовольствием спросил Мойер, разгибаясь от клумбы, которую начал полоть неизвестно зачем. – Скажите, что я нездоров.
Но некий Пирогов оказался настойчивым и прорвался-таки в палисадник к Мойеру. Рыжий, с лысеющим лбом, в дурно сшитом фраке, порывистый в движениях, он произвел на Мойера тягостное впечатление ужасного беспокойства души и какого-то даже смятения. Слушая его сбивчивую и беспорядочную речь, глядя на его совсем еще детский рот, Мойер долго не мог понять, чего хочет этот кандидат со съедобной фамилией, зачем он пришел, а главное, почему он так волнуется, спешит и поминутно поправляет свои странного вида воротнички.
– Но позвольте, – не выдержав, произнес наконец Мойер, – позвольте, сударь мой, в университете преподает хирургию адъюнкт, никаких нареканий я еще не слышал, мне неясна идея, которая привела вас ко мне…
– Мы хотим учиться у вас, – просто сказал Пирогов, – мы много слышали о ваших знаниях, и, право же, нам не стоило ехать из Москвы в Дерпт для вашего адъюнкта…
– Но не только же хирургия, – начал было Мойер, – не одна она преподается в Дерпте, и мне странно…
– Да что же странного, коли я хирург, – перебил его Пирогов и необыкновенно детским жестом показал сам на себя.
И стал говорить о том, что они – а их несколько будущих хирургов – обязательно хотят слушать Мойера и, главное, хотят заниматься с ним в анатомическом театре, что им ужасно как не хватает истинных знаний в анатомии и что они просят, очень просят господина Мойера не отказать им в величайшем одолжении – хотя бы поговорить с ними, помочь им, направить их, а тогда они авось и сами справятся.
– Но я болен, – с безнадежностью в голосе молвил Мойер.
– Мы придем к вам, – нимало не задумавшись, ответил Пирогов.
– То есть как это ко мне? – даже не понял поначалу Мойер.
– Да вот хоть сюда в палисадник, коли в дом неудобно, – сказал Пирогов, – нас ведь всего трое – я, Даль да Иноземцев. Мы вам хлопот не причиним, мы только немножко с вами посоветуемся, потому что у нас есть различные неразрешимые вопросы и нам должно получить на них ответы от вас…
– Хорошо, я подумаю и извещу о моем решении, – сказал Мойер, чтобы кончить разговор, – если мое здоровье, разумеется, позволит…
Он встал с зеленой садовой скамьи.
Пирогов тоже встал.
Проводив его, Мойер дал волю своему негодованию и прежде всего напустился на тещу Екатерину Афанасьевну. Горячась, он сказал ей, что ему не дают покою, что к нему пропускают каких-то молодцов из Москвы, что он не должен и не может спорить со школярами и т. д. и т. п.
Екатерина Афанасьевна – женщина умная и необыкновенно его любящая – слушала молча, имея на уме что-то свое, несогласное с его мнением. Когда он кончил, она взглянула на него из-под своего чепца и сказала, что он не прав.
– Это почему же? – спросил Мойер.
– А потому, дорогой мой друг, что только университетская деятельность может спасти вас от того состояния, в котором вы находитесь. Это говоря о вашей пользе. Что же касается до рыженького мальчика, на которого вы так осердились, то он достоин только уважения. И кабы вы видели, – улыбнувшись, добавила она, – как он тут метался, запутавшись с дверями, и как покраснел, налетев на меня. Пирогов, вы говорите, его звать?
– Да, Пирогов, – еще сердито ответил Мойер, выбрал из ящика сигару и закурил.
– Из Москвы?
– Да, из Москвы.
– Совсем молоденький… Мойер молчал.
Старуха подвинула к себе столик с пяльцами, поглядела на начатый узор и, не поднимая глаз, заговорила о том, что, по правде, следовало бы совсем иначе отнестись к такому молоденькому мальчику и уже профессорскому кандидату, что, по ее мнению, этого Пирожникова следовало бы обласкать…
– Если уж и обласкать, – стоя у окна, молвил Мойер, – то не Пирожникова, а Пирогова…
– Ну не все ли равно, – кротко сказала Протасова, – Пирогова. Вы подумайте, мой друг, приехал мальчик из Москвы, тут порядки совсем иные, живет сирота сиротою, шея, наверное, грязная, и никто не скажет… Нехорошо мы с вами поступаем последнее время, Иван Филиппович, нехорошо, за это с нас взыщется. Вы как знаете, а я этого Пирожникова…
– Пирогова…
– Ну, Пирогова, позову и обласкаю. И вот еще что я вам скажу: была бы с нами Машенька…
– Что Машенька? – от окна спросил Мойер дрогнувшим голосом.
– А то, мой друг, что она велела бы вам тотчас же вернуть мальчика, напоить его чаем с ватрушкой, а назавтра идти в университет и ради ее, если не ради вас…
Мойер обернулся к Екатерине Афанасьевне. Из-под очков его текли обильные слезы.
– Вы знаете, – сказал он, – что именем Машеньки меня можно все заставить. Завтра я пойду в университет и вернусь к прежней жизни, но знайте, что этим вы лишаете меня единственной моей радости…
– Думать о ней! – воскликнула старуха. – И хорошо, что лишаю, хорошо. Не надо о ней так думать и столько думать, я ей мать, и я вам ее именем это не велю.
На глазах ее выступили слезы, она подошла к нему, утерла платком его мокрое лицо и велела идти прогуляться.
– А с завтрашнего дня все пойдет иначе, – сказала она, – совсем иначе. И Пирогова этого мы позовем к нам в гости, хорошо? На обед? Или, может быть, на житье? Друг мой, а? Давайте поселим к себе несколько москвичей или петербуржцев…
Утром следующего дня Мойер с трудом натянул на себя фрак. За месяцы безделья он растолстел – воротнички давили шею, резали подбородок, фрак сделался тесен в проймах. С отвращением он посмотрелся в зеркало: увидел непробритые бакены, косматую прическу, золотистые волосы исчезли – всюду пробивалась кустами седина. Лицо было оплывшее, сердито-брюзгливое, очки криво сидели на носу.
– Хорош, – молвил он, – хорош, дожил…
И, стуча палкой по дощатому тротуару, пошел бесконечно знакомой дорогой к университету. Был ясный и прозрачный день ранней осени, на душе у Мойера стало вдруг спокойно и ровно, как давно не бывало, он приветливо здоровался с педелями и студентами, даже поговорил с ненавистным ему полусумасшедшим старым студентом Жако Кизерицким, прогуливающимся в крагене, ботфортах и расшитом картузике на самой маковке. Замогильным голосом Жако прочитал Мойеру монолог из Шекспира, относящийся к любви, и проводил профессора до самого деканата.
– Сколько вам лет? – на прощание спросил Мойер.
– Пятьдесят два, – ответил Жако, – прощайте, сударь.
Ничего не изменилось в университете за это время. Ректор Эверс встретил Мойера так ласково и осторожно, что Иван Филиппович долго не мог надивиться такту его великолепия, как полагалось называть ректора. Студенты кланялись Мойеру издали, поздравляли его с выздоровлением, потом прислали ему в деканат огромный букет прелестных осенних цветов с трогательной запиской в стихах. Наконец явился и сам виновник – Пирогов. Мойер встретил его улыбкой и протянул ему руку, чего делать не полагалось.
– Вот этот господин виновник моего выздоровления, – сказал Мойер его великолепию. – Что вы о нем скажете?
Эверс с молчаливой улыбкой смотрел в розовое лицо Пирогова.
Пирогов представил Мойеру Иноземцева и Даля. Липгардт еще не появлялся в Дерпте.
Короткая беседа с тремя медиками поразила Мойера не тем, как и что знал Иноземцев, которому в эту пору было двадцать семь лет, и не тем, чего не знал Даль, – беседа поразила его Пироговым, к которому он начал относиться с этого дня как к явлению еще небывалому.
Семнадцатилетний рыжий и косоватый этот юноша с удивительным девичьим цветом лица поразил Мойера не знаниями – какие там у него были знания, – не эрудицией, которой Пирогов изо всех сил старался блеснуть перед знаменитым Мойером, – какая там эрудиция у мухинско-мудровского выученика, – Пирогов поразил Мойера иным – бешеной силой своего особого, еще непонятного и неопределимого, но ясно чувствующегося злого и отрицающего ума.
Опустив тяжелые веки под очками и подперев большую голову сильной и белой рукой, Мойер с давно не испытанным наслаждением слушал тот путаный, но бесконечно интересный вздор, которым его заговаривал Пирогов. И чем дальше слушал Мойер, тем больше он понимал, что мальчик этот, не в пример многим другим мальчикам, прошедшим через его руки, думает сам, решает без чужой помощи и если выпутывается из своих диких и яростных заблуждений, то тоже сам.
Послушав Пирогова с полчаса, он сказал ему, что разговор этот они еще продолжат, что кое-что в этих мыслях интересно, но что, раньше чем решать столь кардинальные вопросы и иметь на эти вопросы свою окончательную точку зрения, следует знать более, чем знает сейчас господин Пирогов.
– Думается мне, – заключил он, – что в анатомии вы, господа, все слабы.
– Я в Харькове уже оперировал сам, – заметил Иноземцев, – ампутировал голень, а также ассистировал профессору Елинскому при его операциях.
Мойер спокойно поглядел на Иноземцева, отметил про себя его красивое лицо восточного склада, его блестящие глубокие глаза, его изящные бакенбарды, подумал, что с таким лицом можно где угодно сделать отличную карьеру, и сказал, слегка вздохнув:
– Оперировать и ассистировать – это еще не значит, к сожалению, знать анатомию. Наши хирурги зачастую занимаются своим делом, понятия не имея об анатомии. Мне приходится и посейчас наблюдать операторов, работающих вместе с анатомами, ибо они нисколько не знают строения тела. Прошу вас, господа, пожаловать завтра к восьми часам утра в анатомический театр. Я попытаюсь быть вам полезным.
И, оборотившись к Пирогову, он добавил:
– Теща моя Екатерина Афанасьевна Протасова уполномочила меня просить вас оказать честь нашему семейству и посетить нас в любое время, удобное вам по вашим занятиям.
Пирогов страшно покраснел, смешался и сказал, что он с удовольствием придет, потому что почему же не прийти, он рад прийти, но вот если бы господин профессор сам указал время, потому что ведь может так случиться, что он явится, и как раз некстати, бывают же такие истории…
Речь его оказалась очень длинной и не без претензии на легкость и бойкость, но в конце концов он запутался и замолчал.
– Приходите сегодня к обеду, – просто сказал Мойер, – и вы, господа, сделайте мне такую честь, я и моя теща будем ждать вас всех.
Обед прошел весело и совсем непринужденно. Мойер был оживлен, много и интересно рассказывал, Екатерина Афанасьевна смеялась добрым смехом, потом Даль рассказывал сказки и изображал в лицах разные сценки из университетской жизни и, осмелев, показал самого Мойера – как он рассказывает медицинские казусы. Старуха Протасова смеялась до слез, но не забывала Пирогова, сидящего рядом с ней, и подкладывала ему то пирога, то рыбы, то жаркого. Не имея никаких светских талантов, он ел за четверых и хохотал так, что свалил соусник на скатерть и весь перемазался липким белым соусом, что вызвало новый взрыв хохота, – но ему было жалко фрака, и он больше не смеялся, пока Екатерина Афанасьевна не отчистила ему с горничной девушкой все пятна.
С этого дня он зачастил в дом Мойеров и был там всегда жданным и милым гостем. Старуха его подкармливала, с охотой выслушивала его идеи и только раз навсегда запретила ему «болтать пустяки» о боге. Здесь он подолгу распространялся насчет своей семьи, насчет дядюшки – какая он прелесть, насчет покойного отца, насчет матери, тут он вслух читал все письма из Москвы и по желанию Екатерины Афанасьевны рассказывал ее знакомым старухам богаделкам о дедушке Михеиче и о том, как старик топтал зеленую траву на сто первом и сто втором году своей жизни.
Бог знает почему, но он необыкновенно свободно и вольно чувствовал себя в обществе старух у Екатерины Афанасьевны. Ему не надо было тут прикидываться взрослым. Когда варили варенье, он вместе с детьми ел пенки. Когда жарили окорок, он объедался жареным хлебом до того, что ему вздувало живот и приходилось класть грелку. Под пасху он на кухне тер желтки, повязанный по животу полотенцем. Под рождество сам испекал медовую коврижку по рецепту, присланному из Москвы матерью. Тут сделался его второй дом, а Екатерина Афанасьевна стала ему матерью в истинном и великом смысле этого слова.
Мойер вновь воспрянул духом и морально свое выздоровление относил за счет Пирожникова – как называли в доме Пирогова и в глаза и за глаза в память давешней оговорки Екатерины Афанасьевны Но не только за это полюбил старый Мойер рыжего и некрасивого москвича: порою казалось ему, что кроме того бессмертия, в которое он привык верить, есть еще бессмертие иное – бессмертие на земле, реальное и видимое, ощутимое, вещное. При жизни Машеньки он не добился этого бессмертия, не успел, и не до того было, хотя он и мучился, зная: Машенька любила не его, а поэта Жуковского, творца сладкозвучных стихов, до которых ему было не много дела – они настраивали его на жалобный лад, не больше, – а люди говорили, что это и есть бессмертие. Нет, бессмертие есть прежде всего дело – так думал Мойер, – не сладкие и умилительные звуки, не рифмы и краски, не вздохи и цветы, но истина, поиски ее, муки, связанные с нею, дело отыскания истины.
Он не нашел бессмертия при жизни Машеньки, и сладкозвучный Жуковский был в глазах покойной неизмеримо выше скромного дерптского профессора, пахнущего больницей и лекарствами.
И вот через шесть с лишним лет ему показалось, что рыжий и косой юноша, так странно возвративший его к жизни, – и есть земное бессмертие, частица истинной его славы, частица того дела, которое до сих пор не удалось ему осуществить и которое, быть может, окажется осуществленным не его руками, а пока что неловкими и неумелыми, но сильными и цепкими лапами удивительного существа, посланного ему судьбою.
С ласковой и порою удивленной нежностью смотрел старый Мойер на бешеное восхождение, совершаемое на его глазах юным Пироговым. Порою страх охватывал его, страх за эту удивительную жизнь, доверенную ему, страх за будущее этого мальчика. Порою казалось ему, что Пирогов кончит домом умалишенных, что так нельзя, что надо его остановить хотя бы силой…
Но остановить у Мойера не хватало сил. Он не мог не любоваться на жадную страстность своего ученика, на детскую его веру в силу знания и разума, не мог разрушать в нем надежду на победу знания над смертью – он только передавал ему то, что знал сам, спешил, торопился, читал по ночам специально для Пирогова и, занимаясь с ним, не без опаски ждал его вопросов, обычно целого потока вопросов, и чувствовал себя в это время так, будто его обстреливают из нескольких пистолетов сразу и он должен только уклоняться от выстрелов.
Вместе с наивной верой во всемогущество человеческих знаний Мойер заметил в Пирогове еще одну совершенно противоположную черту и определил эту черту для себя как залог всех будущих пироговских успехов. Чертой этой, поразившей Мойера при самом первом знакомстве с юношей, было недоверие к словам и любовь к постижению всего, хотя бы уже постигнутого человечеством, собственным опытом.
Ничему и никогда Пирогов не верил сразу, все ставил под сомнение и, слушая своего учителя с вежливым вниманием и интересом, все же не мог скрыть того, что слушание лекции есть для него только печальная необходимость, без которой он не может приступить к самому для него главному и интересному – к опыту, который, в свою очередь, не есть наглядное повторение лекции, а средство к приобретению иных, и нередко противоположных утверждениям лекции, знаний.
Почти ликуя, он находил погрешности в книгах, рекомендуемых ему Мойером, нередко сам при этом ошибался, сам находил свою ошибку и беспощадно уничтожал себя, свое самомнение; свою темноту, как любил он говорить, свое невежество…
Три совершенно разных характера развивались рядом на глазах у Мойера и давали ему обильную пищу для наблюдений и размышлений: Даль, Иноземцев, Пирогов.
С серьезным интересом и вниманием изучал длинноносый Даль под руководством Мойера хирургию и анатомию – изучал так, как до него изучали сотни прилежных студентов, будущих лекарей, и Мойер видел в нем приятный ему тип честного человека, понимающего, что знания требуют усердия и прилежания, что в медицине есть не только хирургия и анатомия, но и фармакология, и химия, и физика, и терапия, и множество других полезных вещей, которые обязательно надо знать и без которых хорошим лекарем не будешь.
Красивый, с блестящими глазами Иноземцев был совсем иным человеком, чем Даль. Он не просто учился у Мойера – он учился у него блеску и изяществу в оперативной хирургии, уже сейчас готовясь к тому, что ему придется не только резать, но, главным образом, учить других, как резать, а учить, не поражая и не удивляя, ему не хотелось.
Ни в чем, что было дано, он не сомневался никогда и не любил лишь многих решений одной и той же задачи. В аккуратных тетрадях Иноземцева, исписанных крупным и красивым почерком, против каждой болезни было написано лечение, и притом только одно – такое, которое в данное время считалось самым рациональным. Со вниманием Иноземцев следил за всем тем, что происходит в медицине, и как только слышал о новом средстве, о декокте, о микстуре, о каплях или о паровых ваннах, тотчас же заменял лечение в тетрадке – поверх старого наклеивал бумажку с новым. Лечить он любил, и если заболевал кто-нибудь из знакомых, то Иноземцев непременно прописывал микстуру, или капли, или порошки, причем так, чтобы на лечение у больного уходило много времени: уж если микстура – то ее принимать семь раз в день, и не просто взболтать перед тем, как проглотить ложку, а обязательно, например, развести в полустакане горячих сливок и пить небольшими глотками, а иначе не будет никакой пользы.
Великолепно учась и делая в науках блестящие успехи, Иноземцев вместе с тем никогда не отвлекался от двух задач, поставленных им самому себе: лечить людей и учить студентов, как лечить. Каждое занятие приносило ему в этом пользу. Высокие материи не трогали его воображения – наука была для него делом и средством для дела, с ее помощью он ничего не собирался ни решать, ни определять, а только хотел научиться применять ее в будущей своей жизни.
Про себя Мойер не раз отмечал, как раздражали Иноземцева бесцельные, по его мнению, споры, которые вдруг заводил Пирогов со своим учителем по поводу совершенно отвлеченному, если такой повод может найтись в анатомии.
– Ну хорошо, – говорил Иноземцев, – но вам-то что, Пирогов, зачем это вам вдруг понадобилось?
Пирогов хлопал глазами, потому что не мог ответить, зачем это ему вдруг понадобилось, а Мойер тонко улыбался и с нежностью поглядывал на своего любимца.
Любимец этот вытворял бог знает что, вместо того чтобы хорошо или хотя бы терпимо учиться. Впившись мертвой хваткой в анатомию и хирургию, он совершенно забросил все другие предметы и в один прекрасный день просто-напросто перестал посещать какие бы то ни было лекции. Это совпало с началом его занятий вивисекцией. Из жалких своих грошей он, недоедая, накопил денег на то, чтобы снять кирпичный сарайчик под черепичной крышей, и на то, чтобы купить себе двух телят, безногую собаку и барана. Университетский столяр построил ему по его чертежам стол, и пошла работа.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.