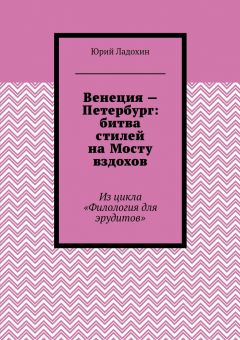
Автор книги: Юрий Ладохин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
3.4. Горгульи и герои
Оба города, и Венеция, и Петербург, наполненные архитектурными шедеврами, поражающими человеческое воображение, тем не менее, в вопросах скульптурного обрамления зданий отстаивают свою оригинальную, можно даже сказать, прямо противоположную точку зрения. Эту особенность, рассматривая детально предметное навершие частей венецианских зданий, заметил И. Бродский: «А предмет этот может оказаться маленьким чудовищем, с головой льва и туловищем дельфина. Второе будет выгибаться, первая точить клыки. Чудовище это может украшать вход или просто вылезать из стены без всякой видимой цели, отсутствие которой делает его странно привычным. При определенном роде занятий и в определенном возрасте нет ничего привычнее, чем не иметь цели. Как и путать черты и свойства двух или более существ» [Бродский 2004, с. 112].
Впрочем, поэт здесь не только и не столько о скульптурных украшениях домов. Его рассуждения выходят на уровень философии и антропологии: «В общем, все эти бредовые существа – драконы, горгульи, василиски, женогрудые сфинксы, крылатые львы, церберы, минотавры, кентавры, химеры, – пришедшие к нам из мифологии (достойной звания античного сюрреализма), суть наши автопортреты, в том смысле, что в них выражается генетическая память вида об эволюции. Неудивительно их изобилие здесь, в этом городе, всплывшем из воды» [Там же, с. 112].
И пусть эволюция к концу XV века дошла до витрувианского человека с пропорциями, близкими к идеальным, И. Бродский, пожалуй, с грустью готов подискутировать с Леонардо да Винчи о том, что не надо забывать и о других точках зрения обитателей планеты на Homo sapiens в прямом, оптическом смысле. Например, водоплавающих: «И, увиденный рыбой – если наделить ее человеческим глазом во избежание пресловутых искажений, – человек предстал бы чудовищем, может, и не осьминогом, но уж точно четвероногом. Чем-то, во всяком случае, гораздо более сложным, чем сама рыба. Поэтому неудивительно, что акулы так за нами гоняются. Спроси простую золотую рыбку – даже не пойманную, а на свободе – как я выгляжу, она ответит: ты чудовище» [Там же, с. 113].
Боковое ответвление рассуждений поэта о чудовищах – связанный с этой темой метафорический образ художника слова: «Вероятно, и херувимы – этап эволюции вида… Однако из херувимов и чудовищ вторые требуют большего внимания. Хотя бы потому, что к ним нас причисляют чаще, чем к первым; хотя бы потому, что на нашем свете крылья обретаешь только в ВВС. Имея нечистую совесть, узнаешь себя в любой из этих мраморных, бронзовых, гипсовых небылиц – конечно, в драконе, а не в св. Георгии. При ремесле, заставляющем макать перо в чернильницу, можно узнать себя в обоих (Ср. в стихотворении «Венецианские строфы (2) ”: «И макает в горло дракона златой Егорий, как в чернила, копье»» [Там же, с. 112 – 113].
Непривычные, хотя у И. Бродского, пожалуй, вполне ожидаемые, соображения о тонких связях человека как царя природы с его «зеленой свитой» и урбанистическим окружением, у писателя Д. Бавильского порой приобретают метафизический характер. Вот мнение автора «Венецианского дневника» о неизведанных свойствах архитектуры: «Нет ни одного искусства, которое было бы роднее мистицизму, как зодчество; отвлеченное, геометрическое, немо-музыкальное, бесстрастное, оно живет символикой, образом, намеком. Простые линии, их гармоничное сочетание, ритм, числовые отношения представляют нечто таинственное и с тем вместе неполное. Здание, храм не заключают сами в себе своей цели, как статуя или картина, поэма или симфония; здание ищет обитателя, это – очерченное, расчищенное место, это – обстановка, броня черепахи, раковина моллюска, – именно в том-то и дело, чтоб содержащее так соответствовало духу, цели, жильцу, как панцирь черепахе» [Бавильский 2016, с. 308 – 309].
Свою гипотезу Д. Бавильский подкрепляет убедительными, как представляется, аргументами об архитектурной «сверхидее» церковных сооружений: «В стенах храма, в его сводах и колоннах, в его портале и фасаде, в его фундаменте и куполе должно быть отпечатано божество, обитающее в нем, так, как извивы мозга отпечатываются в костяном черепе. Египетские храмы были их священные книги. Обелиски – проповеди на большой дороге. Соломонов храм – построенная Библия, так, как храм Св. Петра – построенный выход из католицизма, начало светского мира, начало расстрижения рода человеческого» [Там же, с. 309].
На крышах Петербурга – другие скульптуры. Диковинных зверей тоже, пожалуй, встретить можно; но, большей частью все-таки, вместо горгулий – герои:
«И в небе сером холодные светы
Одели Зимний дворец царя,
И латник в черном не даст ответа,
Пока не застигнет его заря.
Тогда, алея над водной бездной,
Пусть он угрюмей опустит меч,
Чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезной
За древнюю сказку мертвым лечь…»
(А. Блок, из стихотворения «Еще прекрасно серое небо…», 1905 г.).
И пусть отважный воин какой-то хмурый, а цели его возможных сражений носят подозрительно «реакционный» характер, но, согласитесь, основное впечатление – рыцарь без страха и упрека. Черный латник не одинок. Рядом, по периметру крыши Зимнего дворца, стоят многочисленные скульптуры античных богов и героев: Аполлоны, Марсы, Дионисы, Афины, Венеры. Все они, похоже, изо дня в день охраняют здания и сокровища Эрмитажа.
Но не всегда эти фигуры производят на зрителя однозначное впечатление. Об этом в книге «Мой Эрмитаж» пишет директор музея Михаил Пиотровский: «Замечательный русский художник Эдуард Кочергин вспоминает, как он впервые попал в Ленинград после детства и молодости, проведенных в той части России, где главными достопримечательностями были лагеря. Дворцовая площадь поразила его огромным запретным ангелом с еще более запретным крестом, а фигуры на крыше Зимнего дворца показались ему вертухаями – охранниками на лагерных вышках» [Пиотровский 2015, с. 27].
Скульптурные фигуры, которые могли показаться антигероями «Архипелага ГУЛАГ» – это, конечно, печальная страница истории. Хотите персонажей мифов Древней Греции с героической биографией? – пожалуйста. На углах первого яруса центральной башни Адмиралтейства установлены скульптурные фигуры четырех античных героев: Александра Македонского, Ахилла, Аякса и Пирра. Кроме того, башня известна тем, что именно здесь, наверху под часами, расположилось самое большое в городе число скульптурных изображений античных мифологических персонажей и аллегорий. В их числе, и это вполне предсказуемо для главного символа морской славы Петербурга, все, что связано с морскими путешествиями: богиня Изида – покровительница моряков, аллегории ветров всех сторон света, а также иносказательные образы Весны, Лета, Осени, Огня, Воды, Земли. Эти изваяния были созданы в начале девятнадцатого столетия скульпторами русского классицизма Степаном Пименовым и Феодосием Щедриным.
Водную тему у арки основной башни Адмиралтейства продолжают скульптуры морских нимф (нереид), несущих над головой небесную сферу. Среди изображенных нереид наиболее узнаваемы три: Амфитрита – супруга бога морей Нептуна, Фетида – мать Ахилла и Галатея – олицетворение спокойной морской глади. Добавим, что Амфитриту еще можно увидеть на фронтоне западного портика Адмиралтейства, где она награждает моряков за военные подвиги. Отметим, что все эти скульптурные украшения здания выглядят не как нечто привнесенное. Как отмечал известнейший искусствовед Михаил Алпатов, «Адмиралтейство обросло скульптурой так же естественно, как дерево обрастает листвой».
Неотъемлемая часть архитектурного декора города на Неве – скульптурные колесницы. Двумя из них, и это неудивительно для города имперской славы, управляет Нике – богиня и олицетворение победы. Одна триумфальная колесница с шестеркой лошадей, созданная скульпторами Василием Демут-Малиновским и Степаном Пименовым, установлена на арке Главного штаба в 1828 году в честь победы России над Наполеоном. Нике стоит с полководческим жезлом в одной руке и лавровым венком в другой. Сопровождающие ее копьеносцы еле сдерживают рвущихся вперед лошадей. Другая колесница с богиней победы спустя пять лет была установлена на триумфальных Нарвских воротах. Нике держит пальмовую ветвь и венок, предназначенные бесстрашным воинам. У ног богини извивается змея – олицетворение коварства и злых сил.
Еще одна колесница, теперь уже квадрига, установлена на аттике Александрийского театра. Логично, что повелитель четверки лошадей здесь другой – бог солнечного света и покровитель муз Аполлон. В одной руке он держит кифару – струнный инструмент, предшественник лиры, в другой – лавровый венок. Таким знаком во времена античности венчали не только победителей воинских и спортивных сражений, но и лучших исполнителей сценических постановок. Две музы театра стоят в полуциркульных нишах главного фасада Александринки. Муза трагедии Мельпомена держит в руках маску с выражением горя. Муза танца Терпсихора исполняет музыкальное произведение на кифаре.
Добавим к этому чтимый петербургскими скульпторами мифологический персонаж – известный двенадцатью подвигами могучий сын царя богов Зевса. Одна скульптурная композиция – «Геракл, удушающий Антея», украшает здание Горного института. Она повествует о схватке античного героя на пути к золотым яблокам из садов Гесперид с властителем Ливии Антеем. Вторую скульптуру античного героя можно увидеть на фасаде здания Академии художеств. Третью, в соседстве с италийской богиней Флорой, – у Михайловского замка. Еще одну – в Александровском саду, поблизости от Конногвардейского манежа.
Но, пожалуй, настоящим символом Петербурга, наряду с Медным всадником и Чижиком-Пыжиком, стала скульптурная группа могучих титанов, стоящих на Дворцовой площади. Об этих исполинах – М. Пиотровский: «Атланты Нового Эрмитажа – самая знаменитая скульптурная композиция города – по первоначальному замыслу архитектора могла выглядеть совсем иначе: обсуждалась модель в виде или кариатиды, или фараона. Но в 1846 году скульптор Александр Иванович Теребенев изготовил модель атланта в натуральную величину, после чего точка зрения на художественное решение портика изменилась… Сердобольский гранит с Ладожского озера доставляли по воде на набережную, а потом в специальное помещение напротив музея, где сто пятьдесят каменотесов занимались частями фигур. Лица Теребенев заканчивал собственноручно…» [Пиотровский 2015, с. 33].
Глава 4. «Искусству отдавал ты жизнь и все мечты…» (битва стилей на Мосту вздохов)
4.1. Амальгама стилей
Облик и стиль города создают люди, в нем живущие. Его неповторимый контур, красоту и смыслы – архитекторы, художники, мудрецы и поэты.
Эта глава – о людях, в сердце которых – мечта о невозможной красоте, в голове – холодный расчет мастера, а в руке – строительный отвес:
«Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб и всюду царь – отвес»
(Осип Мандельштам, из стихотворения «Notre Dame», 1912 г.).
Поэт поведал о второй и третьей ипостасях архитектора, но есть у него и характеристика первой:
«Я ненавижу свет
Однообразных звезд.
Здравствуй мой древний бред, —
Башни стрельчатой рост!
Кружевом, камень будь,
И паутиной стань,
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань».
(О. Мандельштам, 1912 г.).
Поэт написал эти стихи под впечатлением от посещения Собора Парижской Богоматери, и его восторг, думается, от того, что средневековые архитекторы сумели готическим шпилем дивной грациозности нанести неотразимый выпад атмосфере приземленности и серых будней. О. Мандельштам посвятил эти строки зодчим, избравшим готический стиль, но цель архитектуры любого стиля, как представляется, одна и та же – создавать в камне непревзойденные образцы изящества и красоты:
«Мастера выплетали
Узоры из каменных кружев
Выводили столбы
И, работой своею горды,
Купол золотом жгли,
Кровли крыли лазурью снаружи
И в свинцовые рамы
Вставляли чешуйки слюды»
(Дмитрий Кедрин, из поэмы «Зодчие» – о строителях храма
Василия Блаженного).
Понимая при этом, что платой за диво дивное могут быть не только серебряные монеты и слава, но порой и утрата возможности создать что-то подобное вновь:
«И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова,
Чтобы в Суздальских землях
И в землях Рязанских
И прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова»
(Д. Кедрин, из поэмы «Зодчие»).
Случившееся с мастерами каменных дел Бармой и Постником, безусловно, настоящее варварство, но этот эпизод, на наш взгляд, – яркое доказательство того, как во все времена ценилась своеобразность архитектурных построек.
Для зодчих Венецианской республики, именовавшейся в Средние века не иначе как «Королева Адриатики», превзойти мастеров других городов Апеннинского полуострова и иноземных архитекторов было не только вопросом профессиональной чести, но и государственного престижа. Особенность ситуации заключалась в том, что, как отмечает Н. Ионина, «на Венецию в гораздо меньшей степени, чем на другие города Италии, повлияло античное искусство Древнего Рима. Здесь не было живописных руин, языческие храмы и капища не приспосабливались под первые христианские церкви; наоборот, разбогатевшая Республика Святого Марка свозила в Венецию художественные ценности, бронзовые и каменные скульптуры со всего Средиземноморья. Первоначально венецианская архитектура рождалась как отголосок византийского зодчества с характерными для него аркадами, мозаиками, суровыми ликами святых. Впоследствии византийские формы мирно уживались с чертами романской архитектуры, которые дошли до нас в немногочисленных деталях построек, оставшихся на островах Торчелло и Мурано и в интерьерах собора Сан-Марко» [Ионина 2008, с. 67].
Отсутствие доминантного влияния античных образцов позволило архитекторам Венеции избежать шаблонов и строить город, сообразуясь со здравым смыслом и своим художественным вкусом. П. Акройд видит разгадку венецианского градостроительного стиля в слове «слияние»: «Архитектура города имеет весьма разнородный и пестрый характер, ибо в нем соединились готический, греческий, тосканский и римский стили, а также стиль итальянского Возрождения. Их комбинацию, в свою очередь, можно определить, как собственно венецианский стиль, в котором сосуществуют, взаимно дополняя друг друга, различные архитектурные направления. Похоже, ключом к пониманию венецианского искусства является именно слияние» [Акройд 2012, с. 276].
Еще одна характеристика, которую британский писатель дает архитектуре города на Адриатике – это намеренное отступление от грандиозности: «Архитектуру Венеции отличают воздушное изящество, соразмерность и гармония. Она как бы отражает самые сильные стремления и чаяния горожан… Особый упор делается не на вертикальные, а на горизонтальные формы и очертания, как бы сливающиеся с плоскостью залива. Фасады венецианских домов не являются несущими и производят впечатление великолепия, но не монументальности. Объем и размер дробятся посредством световых эффектов. Фасады буквально плывут в воздухе, словно они сами – великолепная иллюзия, волшебный мираж» [Там же, с. 277].
О фасадах – отдельный разговор. Сами они порой выступают как своеобразный каменный холст, удобная основа для художественных фантазий венецианских живописцев: «Венеция была весьма живописной не только с архитектурной точки зрения. Фасады и наружные стены ее главных зданий украшали фрески Тинторетто, Джорджоне и других… Придворный герцога Бургундского, Филипп де Коммин, побывавший здесь в 1495 году, отмечал раскрашенные фасады лучших домов, стоявших по обоим берегам Большого канала, что дало ему основание назвать Венецию расписным городом» [Там же, с. 304].
Однако надо сделать оговорку, что в своем стремлении изукрасить фасады и стены домов венецианцы поступают, как настоящие итальянцы. Эту особенность национальных эстетических взглядов отметила искусствовед Паола Волкова: «Итальянцев очень интересуют стены. Почему эта тема стены? Потому, что на стене можно рисовать картинки. И когда мы приходим в романскую итальянскую церковь, то мы приходим, чтобы посмотреть на эти картинки. И все итальянские художники являются приверженцами стены. Даже тогда, когда наступил XVII век, появилось еще одно чудо романской стены – это гений Караваджо» [Волкова 2016, с. 365 – 366].
Вместе с тем, эта склонность к «настенным картинкам» парадоксальным образом ставит полотна даже великих венецианских живописцев на второй план по сравнению с общим архитектурным замыслом сооружения. Пусть это даже создатель всемирно известной «Данаи». Вот впечатления автора «Музея воды» о картине Тициана, украшающей собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари: «Интересный, кстати, момент, с Тицианом-то. В Венеции нет места, в котором Тициан конденсировался до полной незаменимости, до состояния центра. Даже самые важные его работы здесь – гарнир к конкретному месту, но не само место, невозможное без Тициана… Между тем „Вознесение“, главный шедевр Тициана, застрявший в Венеции, нарочно „затачивался“ под архитектуру Фрари, то есть был сущностью изначально вторичной» [Бавильский 2016, с. 30].
Раскрепощенность воображения венецианских мастеров каменного дела порой проявляла себя вопреки безупречно отлаженной машине подавления инакомыслия и не имеющей аналогов системе доносов и сыска. Иногда даже может сложиться впечатление, что разнообразие стилей и эстетических прорывов было своеобразной компенсацией монотонно предсказуемой политической жизни Светлейшей.
Это, как представляется, верно подметил писатель и художник середины XIX столетия В. Яковлев: «В Венеции стеснена свобода мысли, но художественной фантазии дана полная воля. Венециянская архитектура не похожа ни на какую другую: это грандиозная амальгама всех стилей, гармоническое сочетание вкуса мавританского с готическим, с византийскими отчасти античным. Леди Морган назвала Венецию „морским Римом“. Я в свою очередь скажу, что к классическому городу цесарей романтическая Венеция относится, как, как драма Шекспира к поэме Виргилия. Мрачное великолепие Венеции, может быть, сильнее потрясает душу, чем римские развалины. Но сравнения тут неуместны. Город пап наследовал сокровища античного мира; город дожей добывал все мечом или золотом в Греции и Азии» [Яковлев 2012, с. 42].
И пусть на месте создания Петербурга тоже, понятно, не было античных руин, уроки древнеримской архитектуры зодчие города на Неве (в отличие от венецианских мастеров) воспринимали со всей серьезностью и основательностью. Думается, происходило это по двум основным причинам. Во-первых, сама концепция Петра I «Петербург – Четвертый Рим» подразумевала стремление к монументальности, порой даже помпезности, архитектурных форм. Во-вторых, основные творцы «невского чуда» в рамках поставленной перед ними задачи были выходцами с Апеннинского полуострова. Так сложилось, и это, конечно, не случайно, что пять человек из создателей основных шедевров петербургской архитектуры имели итальянское происхождение.
Итак, кто они – творцы «невского чуда»? Доминико Трезини, разработчик проектов Петропавловского собора, здания «Двенадцати коллегий» и Кронштадской крепости, – итальянец, родившийся в Швейцарии, близ Лугано. Бартоломео Растрелли, архитектор Зимнего дворца, Смольного монастыря, Царскосельского Екатерининского дворца, – сын флорентийского скульптора Карло Растрелли. Джакомо Кваренги, создатель Эрмитажного театра, здания Смольного института благородных девиц, родился на севере Италии, возле города Бергамо. Антонио Ринальди, разработавший чертежи Мраморного и Большого Гатчинского дворцов, Католического храма св. Екатерины, – итальянец родом из Неаполя. Карло Росси, архитектор зданий Главного штаба, Александринского театра, комплекса зданий Сената и Синода – тоже выходец из Неаполя.
Итальянское влияние на архитектурный облик Петербурга поэтическим языком охарактеризовал Александр Кушнер:
«Как Смольный собор хорошо говорит
На двух языках: итальянском и русском! <…>
Он белоколонный, узорный, лепной,
С позолотой и куполами,
Средиземноморской вскипает волной
И нравится нам – и смущен похвалами».
Еще одна ключевая особенность застройки города на Неве – поистине спринтерская скорость генерирования его архитектурного облика. За 200 – 300 лет Петербург превратился в крупнейший город не только России, но и всего мира. По сравнению с тысячелетним марафоном формирования самых больших европейских городов такие темпы смотрятся впечатляюще.
Спринтерские скорости строительства Петербурга потребовали совсем иных подходов к выработке концепции городской планировки и к архитектурным решениям. Искусствоведы Роман Костылев и Галина Пересторонина называют эти особые черты петербургского градостроительства: «Петербург международно признан одним из самых красивых крупных городов мира. Его главная особенность состоит в том, что различные архитектурные стили, составляющие его облик, не вырастали постепенно, как в европейских старых городах. Стили „пересаживались“ на нашу почву уже готовыми, сформировавшимися в других условиях и в другие времена. Естественно, эти „саженцы“ приобретали новые свойства. Архитектурные стили, заимствованные из европейских архитектурных культур, трансформировались соответственно русским климатическим условиям, местным строительным материалам» [Костылев, Пересторонина 2016, с. 22].
Исследователи раскрывают суть этих трансформаций: «Архитектурные формы приобретали черты, свойственные русским эстетическим идеалам. Постепенно складывалась новая петербургская культура. Новое звучание получали, например, архитектурные формы, выполненные не из европейского камня, а из русского кирпича, штукатурки с применением цвета. Архитектуре города свойственна также чистота стилей… Здесь мало сооружений, в которых происходило смешение различные стилей, наслоение их один на другой, в которых первоначальные архитектурные формы искажались позднейшими перестройками, как, например, Константинопольская София, пережившая за многовековую историю смены государственных и религиозных режимов» [Там же, с. 22 – 23].
Примечательно, что некоторые значимые объекты Москвы (Кремль, Успенский собор, Грановитая палата) тоже строили итальянские зодчие, но здесь адаптация проектов к российским особенностям происходила принципиально иначе, чем в Северной столице. Вот мнение культуролога Моисея Кагана: «Если в Москве итальянские архитекторы искали формы именно „русского стиля“, изучая древнее зодчество Владимира и Пскова, то в Петербурге и итальянские, и русские зодчие разрабатывали новые стилевые системы, опираясь на ордерный язык европейской архитектуры, однако системы эти были не копией античных итальянских и французских стилей, а оригинальными художественными структурами, ставшими не менее русскими, чем стилевые системы зодчества Владимира, Новгорода или Москвы» [Каган 2000, с. 39].
Но было бы, пожалуй, неверным утверждать, что архитекторы других европейских стран не внесли своей лепты в создание облика города на Неве. Хотя Рим, как полноправный наследник классики и эллинизма, был, как представляется, самой адекватным образцом для Петербурга, но, к счастью, далеко не единственным.
Известный живописец и теоретик искусства Игорь Грабарь детально проанализировал влияние и других архитектурных школ.: «Если бы сюда попали одни итальянцы, то в конце концов на внешности Петербурга неизбежно отразился бы характер тогдашнего итальянского барокко, всегда сочного и живописного и в то же время не теряющего своей архитектурной логики, а если бы понаехали одни немцы, они завезли бы барокко Северной Германии или южной ее части – не лишенные живописной прелести, но часто разнузданные и вычурные формы, выросшие из смеси „итальянщины“ и „неметчины“. Гораздо более строгую физиономию дали бы городу французы, не одержимые, подобно немцам, манией той особой логической последовательности, которая каждую новую форму неминуемо приводит к ее вырождению, к явному конструктивному абсурду. Наконец, совсем суровый облик дали бы ему голландцы, единственный народ Европы, не знавший никогда духа барокко…» [Грабарь 1994, с. 21].
Оценка искусствоведом сложившихся тенденций однозначно положительная: «Но дело в том, что в Петербург приехали сразу и итальянцы, и немцы, и французы, и голландцы, живя и работая здесь одновременно. Они не только работали рядом, строя одно подле другого здания четырех стилистических типов, но зачастую работали все над одной и той же постройкой, причем каждый вносил в нее свои расовые и индивидуальные особенности. Это постоянная смена иноземцев имела, впрочем, и одну хорошую сторону: в значительной степени благодаря именно ей Петербург получил какую-то свою собственную физиономию» [Там же, с. 21].
Но пусть не создастся впечатление, что контур города на Неве рисовали одни иностранцы. Многие русские архитекторы, взяв лучшее из европейского опыта, создали настоящие шедевры. Иван Старов, ученик француза Жана Валлен-Деламота, возвел в 1789 году в стиле русского классицизма величественный Таврический дворец – резиденцию князя Григория Потемкина-Таврического. Андрей Воронихин, изучив архитектуру и математику во Франции и Швейцарии, создал в 1811 году для хранения чудотворной иконы божьей Матери Казанской впечатляющий ансамбль Казанского собора. Андреян Захаров, отучившись несколько лет в Париже, в 1823 году выстроил великолепный комплекс Главного Адмиралтейства – символ русской морской славы. Изучив воочию архитектурные памятники Франции, Италии и Австрии, Василий Стасов возвел в 1834 году Нарвские триумфальные ворота, ставшие символом победы России в Отечественной войне 1812 года. И этот список можно было бы продолжать и продолжать.
Смена градостроительных стилей в Северной столице происходила как в связи с изменением архитектурной моды, так и с учетом, и это, пожалуй, особенно немаловажно, эстетических вкусов правителей России. Пышное петровское барокко (начало XVIII века), являясь образным выражением расцвета дворянской культуры периода абсолютизма, видимо, как нельзя лучше соответствовало художественным воззрениям основателя Петербурга. Высокое барокко (середина XVIII столетия), как стиль величавой парадности и декоративного блеска, похоже, в полной мере отвечал вкусам любительницы балов и маскарадов императрицы Елизаветы Петровны. Причину наступившего в 1762 году радикального поворота к классицизму надо, как представляется, искать в стремлении воцарившейся на престол Екатерины II к ясной гармонии и рациональной монументальности. Пришедший в начале XIX века на смену классицизму ампир, с его синтезом парадной архитектуры и монументальной скульптуры, был, пожалуй, идеальным выражением в камне достижений Александра I в борьбе с Наполеоном и художественным олицетворением патриотического подъема в России.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?






































