Текст книги "Скитания"
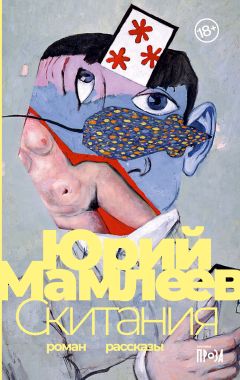
Автор книги: Юрий Мамлеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Мысленно он пытался как можно ярче, почти осязаемо представить их в своём уме – и любить. Всех: знакомых и незнакомых, друзей и посторонних, видимых и невидимых, умерших и живых. Потом это чувство во всём его существе распространялось и дальше – на культуру, на природу, на равнины и деревья, на само таинственное и родное дыхание русской жизни… Он был поражён не самим чувством, конечно. Он ожидал, что это придёт, но не в таком, почти сверхъестественном, зове. «И это они хотят убить тем или иным способом», – думал он среди воющей нью-йоркской ночи.
12
На внешнем уровне было решено погрузиться в общение с эмигрантами. Их уже значительно прибавилось в Нью-Йорке, и среди них были даже те, о которых что-то слышали по Москве. Художники, например. Андрей и Лена совершили даже дальнюю поездку в Брайтон-Бич – район на краю Нью-Йорка, у океана, где расположились «одесситы» – эмигранты из Одессы. Их встретили гостеприимно – в ресторанах, кафе, барах, чем-то похожих на советские.
«Одесситы» им понравились своей простотой и открытостью. Но часто выбираться в Брайтон-Бич было трудновато. Всё вертелось вокруг Манхэттена, благо, их квартирка в Вудсайде была недалеко. Лихорадочные поиски работы, временные подработки, углублённое изучение английского по вечерам, встречи и попойки с эмигрантами, с теми, кто был более или менее по душе… А днём опять – встречи с другими эмигрантами, поиски работы, контакты, письма, издательства…
Вскоре, однако, одно событие прогремело по всему эмигрантскому Нью-Йорку. Павел, который работал в эмигрантской газете в качестве корректора, написал статью – не подозревая ничего, просто случайно, – хотел лишний раз подзаработать. Статья называлась «Почему мы недовольны?». Он опросил многих эмигрантов и представлял их взгляды. Статью напечатали, но поднялась настоящая буря. Одно письмо в газету было озаглавлено так: «Мы приехали в рай и всем довольны». Это была статья поэта Саши (Андрей его хорошо знал: он ненавидел эту эмигрантскую жизнь и этот «рай» всеми фибрами души и мечтал сбежать хоть на край света). В ней было написано: «Какое право имеет господин Сметов клеветать на американскую демократию и американскую действительность? Мы выбрали свободу, а США и свобода – это синонимы. Пора бы понять такую простую истину».
Был звонок главному редактору газеты, и Павла моментально вышибли – никаких прав и гарантий на работу здесь никогда не существовало, босс делает всё, что хочет. Павел оказался без работы, за квартиру платить стало нечем, тем более что эта плата поглощала большую часть заработка. Единственная надежда была на тараканью гостиницу для бедных и переход на социальное пособие, на жизнь в зоне «презираемых». Но он ещё пребывал на старой квартире, у себя, и не сдавался: ругался по телефону со многими эмигрантами, метался, искал выход… Многие от него отшатнулись и тотчас истерично предали. Игорь Ростовцев покачивал головой: «Я говорил, здесь нам бесполезно бороться. Лучше, как я. На меня с потолка падают тараканы – ну и пусть падают».
Любочка и Генрих помогали как могли. Андрей и Лена сами еле сводили концы с концами. Миши Замарина не было: опять куда-то пропал.
Лена сблизилась в эти дни с одной эмигрантской семьёй из Москвы – Инной и Марком Гердерами, которая ей чем-то очень понравилась. Глава – Марк – работал уборщиком в одном эмигрантском учреждении, его жена – Инна – чуть-чуть подрабатывала. Был ещё сын Коля – восьмилетний всего. Жили они в маленькой квартире в Вудсайде. Лена сдружилась главным образом с Инной. И та призналась Лене как-то раз:
– Ты знаешь, я, наверное, здесь сойду с ума. Вчера Коля проснулся весь в слезах: он видел во сне Москву. Он уже несколько ночей плачет, потому что видит во сне родину, Москву. Я тоже вижу Москву, но сейчас уже не плачу… И знаешь, что произошло вчера? Коля начал кричать утром: «Папа, мама, я видел Москву!» И плачет, конечно. Я тоже кричу. А Марк накинулся на меня и на Колю: «Молчите, молчите! Вы что, спятили оба? Я из-за вас лишусь места!»
– Ну и ну! – отшатнулась Лена. – Неужели он думает, что вас подслушивают?
– Представь себе. Он сдвинулся на этом. И всё из-за работы в этом проклятом эмигрантском болоте. Конечно, там всех прослушивают насквозь. Но он-то, он-то кому нужен, несчастный уборщик…
И Инна заплакала.
– Инночка, Инночка, но разве всё это так влияет?
– Что влияет? Ты же знаешь, что существуют чёрные списки. Не только среди эмигрантов. И все, кто в них, – попробуй достань работы. Все пути обрежут. Самой простой работы лишат. Но Марк сдвинулся, потому что он думает, что нас могут подслушивать. Разве до этого может дойти?
– Не знаю… Да конечно, нет! А как, интересно, составляются эти чёрные списки? Я тоже слышала от некоторых эмигрантов…
– Ленка, ты удачливая. Вы с Андреем знаете английский. Марк же тянет еле-еле. Ему всегда плохо давались языки. Ищите не эмигрантскую работу, а какую-нибудь нейтральную. Иначе совсем замучаетесь.
– Мы против совести ничего не делаем. Статьи Андрея в основном о литературе, то, что он думает, то и пишет…
– То-то, говорят, его так недолюбливают в редакции. Не про то, что нужно, пишет. Уходит в сторону, эстетствует. Он так долго не продержится, и никакой ваш ПЕН-клуб не поможет. Видишь же, что случилось с Пашей Сметовым?
…Теперь телефон в квартире Круговых внушал им всё большее и большее отвращение.
– С эмигрантами меньше общайся, – кричал им по телефону Генрих, не лишённый чёрного юмора. – Скажешь, что любишь Пушкина, напишут, что монархист, а значит, советский агент.
Но Лену раздражали не непрерывные слухи об этих «демократических» доносах и различных звонках, а разливающийся океан чёрно-фантастической злобы, звериной ненависти. Когда писали о тяжёлых событиях в истории СССР – писали не с желанием как-то предостеречь или чем-то помочь, не с болью за страну, а с патологическим злорадством, внутренним, еле скрываемым желанием, чтобы страдания повторились, с червивой злобой, которая самих носителей ненависти превращала в дегенератов. И многие ведь «носители» вовсе не страдали в СССР, а неплохо там были устроены.
На одну такую статью резко ответил Эдик Вайнштейн, эмигрант из Риги (его письмо было опубликовано с сокращениями).
– С этими людьми просто невозможно общаться, – нередко говорила Лена у Кегеянов. – Возражать им – во-первых, набросятся, как бешеные псы, во-вторых, настрочат столько доносов, что в конце концов действительно попадёшь в чёрный список, останешься без работы…
– Да не в этом дело, – возражал Генрих. – Работы, чтоб мыть полы, тебя не лишат, а вот Андрею и мне могут закрыть все ходы, все каналы в русской и американской прессе. Ведь для чего мы сюда приехали? И вот тогда – смерть, тупик. Тем более что доносы тут пишут часто просто потому, чтоб подсидеть друг друга, утопить, чтоб не было, так сказать, «конкурентов». Чтоб самому побольше заграбастать.
– Надо общаться только с теми, кто по душе, – вздохнула Любочка.
– Ну, кроме нас, Эдика Вайнштейна, Ростовцева, их немного наберётся.
– Больше всего меня поражает убожество, дошкольно-зоологический уровень этих статей, этих разговоров. И это после Москвы, после наших полётов в непознаваемое, – сказал Андрей. – Что бы подумали в наших московских кругах, если бы могли слышать и читать всю эту ахинею!
– А мы сами могли бы во всё это поверить всего несколько месяцев назад? – взорвалась Лена. – Да если б нам кто тогда сказал, что здесь творится, мы б его сумасшедшим сочли!
– Да, пришлось нам за эти «несколько месяцев»! – отозвался Игорь. – Пересекли черту – и всё переменилось.
– До чего же мы были наивны тогда! Даже удивительно! – покачала головой Лена.
– Мы и сейчас ещё наивны, – заметил Генрих.
– А что творится с некоторыми, даже приличными людьми, – вмешался Андрей. – Ты ведь знаешь Вадика, Генрих? Так вот, при мне он буквально бился в истерике, и только потому, что его имя не поставили в одной паршивой, занюханной русскоязычной газетёнке рядом с именами других писателей-эмигрантов. А ведь считался аристократом духа. Буддизмом увлекался. А вот тебе и нирвана… В свою очередь, наш небезызвестный поэт Саша порвал с Вадиком все отношения – а ведь они лет десять-двенадцать дружили в Москве – из-за того, что-де Вадик не упомянул его имя в разговоре с одним именитым профессором.
– Ну ладно, Андрей, надо быть добрее, – вставила Любочка. – Все мы немного здесь кончились.
– Начались, – захохотал Генрих. – И вот на что я обратил внимание: как американцы произносят слово «деньги». В телевизорах, в разговорах, везде… Не заметили? С придыханием, с особой вибрацией в голосе, а главное, с каким-то сексуальными, настойчивыми интонациями… И я не удивлюсь, если…
– Да, да, это точно! – вставила Лена. – Я понимаю теперь. Как ты верно схватил!
– Ну а что же ещё относится к божеству здесь, в XX веке? – подал голос Игорь.
– Эх, лучше я вас всех позабавлю, – вмешался Андрей. – Я тут собрал статейки о моих сказках в «Новом журнале». Две рецензии неплохие, правда, все из Парижа. А вот в нашем регионе есть перлы. Зачту.
И он вынул папку из портфеля.
– Номер первый, – объявил Андрей. – «Автор в своих рассказах-сказках повествует нам о всякой нечисти, леших, ведьмаках. Зачем это? Что автор имеет в виду? Какое социальное содержание за этим стоит? Неужели в двадцатом столетии нет других забот? Неужели для господина Кругова борьба с тоталитаризмом – пустой звук?»
От хохота Любочки её чашка с чаем как-то сюрреально перевернулась, и чай залил чёрный стол.
– Номер второй, – продолжал Андрей. – «Писатель великолепно владеет своей темой, её глубокой символикой. Не может быть двух мнений, ибо ясно, что под видом ведьм, старух, русалок и леших автор разоблачает советских агентов».
– Этому надо поставить памятник, – закричал Игорь из своего угла. – Сохрани для потомства, Андрей.
– Нет, это уже настоящий сюр, – хохоча, перебил Генрих. – На Нобелевку тянет такая критика.
– Но одна заметочка причудлива. Это наш Саша опять отличился. Читаю: «Весь смысл этих страшных произведений сводится, по существу, к нелепому охаиванью нечистой силы. Зачем? Это не плюралистический подход. Мы должны учиться быть толерантными. Терпимость – вот великий урок, который нам преподаёт великая западная демократия. И эта терпимость неделима, так же как неделима и сама свобода. Здесь не может быть исключений. Терпимость к так называемому чёрту, то есть, выражаясь психоаналитически, к так называемым низшим инстинктам человека, является альфой и омегой свободы и западной демократии. Тот, кто не способен этого понять, недостоин свободы и плюрализма, этого апофеоза нашей новой великой родины – США».
– Ну и тип… Андрей, ты мне этого не читал! – удивилась Лена.
– Да, Сашка даёт прикурить! – хохотал Генрих. – Но всё-таки он когда-нибудь нарвётся на неприятности. Не все же здесь дураки, в конце концов. Лишат его куска.
– Да уж…
…Постепенно беседа в этот неясный, странный дружеский вечер, ни в чём не напоминающий их московские встречи, затихала. Игорь и Андрей с Леной покинули, наконец, Кегеянов. Их путь лежал по длинной, прямой, почти безлюдной нью-йоркской улице с немного другой луной в небе – до метро. Там Игорь простился с Круговыми – до своей гостиницы он ходил обычно пешком, возвращаясь по ночам, один, не шарахаясь от всяких странных фигур, периодически возникающих около него.
Андрей и Лена нырнули в метро. Уже привычно, но не без биения сердца понеслись по подземелью. Было тихо, в углу вагона скучали убийцы. Кто-то спал на полу. И было безлюдно – почти совершенно безлюдно, как будто никого не было здесь. И тогда в сознании Андрея прорезались слова: «Большой Брат всегда смотрит на тебя». И застыли в мозгу светло-огненной формулой… Убийцы спали.
Они выскочили, наконец, на землю. То был их Вудсайд. Чуть-чуть прошлись по какой-то скучной, ординарной улочке и вдруг вдали увидели Манхэттен. Он сиял бесчисленно-маленькими глазами великана, но больше всего их поразило необъяснимое кровавое зарево над этим городом-островом. Они впервые увидели его по-настоящему. Всё небо над Манхэттеном было залито этой кровью, как проклятием, и вместе с тем в зареве этом, в его отсветах и огне было что-то мёртвое, словно созданное воображением ада, оно было зримо, как огненный, широкий меч над головой.
13
Прошло ещё полтора месяца. Наконец и Лена закатила Андрею истерику.
Андрей отчаянно пытался успокоить.
– Нет, ты должен во что бы то ни стало выбраться отсюда! В спокойный университетский город. Сделай, сделай невозможное. Достань там работу…
– Ты же знаешь, я сделал всё, что возможно. Ничего не остаётся, кроме как ждать. Теперь уже всё только в руках судьбы.
Лена повернулась к окну.
– Я не могу так жить.
– Так, всё, – Андрей обнял её за плечи. – Успокойся. Не может быть, чтобы не было выхода…
И Андрей опять что-то придумывал, метался, пытался ускорить то, что невозможно было ускорить.
– Видишь, как вывернулся Павел? Лишился работы, квартиры, всего, а пристроился у американки. Каждому своё.
– А у нас какой шанс? Только университет, – твердила Лена.
И опять они бегали, суетились, а времени на то привычное, родное, глубинное, чем они жили в Москве, становилось всё меньше и меньше. Всё поглощала нелепая «борьба».
– Если бы ты одну десятую той энергии, которую ты тратишь здесь, тратил бы в Москве в смысле работы – то был бы там уже членом академии, – говорила Лена. – А здесь ты пока ещё ничего не добился. Здесь каждый маленький сдвиг даётся с усилием – двадцать раз надо что-то сделать, чтобы получилось всего одно попадание. А девятнадцать – мимо.
Андрей, усталый от напряжения, стал искать какого-то успокоения, и особенно искал он встречи с Мишей Замариным, вечно исчезающим. Они не были близкими друзьями в Москве, но всё же Андрей неплохо знал его.
– Он и тогда был чуть-чуть необычным, даже для нашей среды, но здесь, в Америке, он совсем одичал, – говаривал Андрей. – Неконтактен. Понятно, развал семьи. Но он-то не особо горюет об этом. И хоть и угрюм, но как-то очень уверен в себе. И что-то меня тянет к нему.
…Замарин встретил Андрея у себя дома, и на этот раз улыбчиво.
– Ты уже сколько здесь? Пора делать выводы. Как тебе аборигены? – приветствовал он его.
– «Слишком много кругом иностранцев», – пошутил Андрей словами поэта Саши.
– Вот одна из них, – сказал Миша, и навстречу Андрею вышла художница и переводчица с итальянского на английский, цветущая молодостью Клэр.
Познакомились и сели за столик. Несмотря на цветенье, глаза Клэр были напряжённые и грустные.
– Не думайте, что вам здесь труднее, чем другим творческим людям, например нам, американцам. Здесь пробиться по-настоящему стало почти невозможно, – заявила она довольно холодно. – Очень многое зависит от боссов, от прессы, которая делает здесь «знаменитостей». Всё зависит от их воли, от их выбора, от их политики. Можно быть гением, талантом – и оказаться за бортом.
– Из ста талантов выбирают одного, который не более других талантлив, но на котором легче сделать деньги, – добавил Миша. – Остальных – в помойку.
– Фактически начинать нам гораздо труднее, чем вам, – продолжала Клэр, потягивая вино. – Вы всё-таки здесь «экзотика».
– Клэр, но я пью за ваш успех, – произнёс Андрей. – Такая женщина, как вы, должна его иметь. За ваш «Кадиллак»!
Клэр засмеялась.
– Я очень хочу жить, – вдруг сказала она опять с грустью. – Но жить и иметь успех – это одно и то же. Я ухожу, мои русские друзья. Мне надо ещё кое-что сделать. Вы даёте мне эту книгу, Михаил?
– Конечно, Клэр, конечно.
И Клэр ушла, упорхнула; захлопнулась дверь.
– Пойдём, отвезу тебя в бар, посидим, – сказал Михаил, собираясь. – В моей берлоге слишком темно.
В баре было спокойно. Тихо звучал телевизор. Двое у стойки уставились в него.
Другой как будто бы дремал, неподвижно глядя в рюмку с виски.
– Сплошное небытие, – махнул рукой Михаил. – Сядем за столиком, в стороне.
Когда уселись, Андрей сразу взял быка за рога.
– Миша, ну что ты думаешь, как мне пробиться?
– Смотря куда и в каком смысле, Андрей. Даже не знаю, что тебе посоветовать.
– До сих пор мне так ничего и не удалось. Но ты же знаешь, что настоящий талант – от вечности. Рукописи не горят.
Михаил усмехнулся.
– Тогда не надо было уезжать. Хотя нам и было плохо там. Но плохо в социальном смысле, а не в духовном. Плохо, ну и пускай.
– Мы многого не знали. Хотелось, чтобы дело рук наших увидело свет при нашей жизни. Но теперь всё отрезано.
– Ну и ладно – отрезано и отрезано, нечего об этом говорить. Может быть, нам по судьбе надо было познать мир. Увидеть, какой он есть, лицом к лицу. Ведь там наши русские горе-интеллигенты ничего, ну абсолютно ничего об этом не знают.
– Ну, не все.
– Не все. Но даже эти «не все» только смутно предощущают то, что мы здесь узнали точно уже через месяц после приезда. Достаточно было только месяца или чуть больше, потому что за нами опустился непроницаемый занавес – и нет возврата, и ты один, – и тогда только познаётся настоящая, а не бутафорская реальность. Это, разумеется, не туристическая поездка и не командировка.
– Ну, хорошо. Ты здесь уже долго. Каков тут социальный механизм, как он работает?
– Ох, Андрей, да неужели ты сам ещё всё не видишь?
– Вижу, но не всё. Почему столько нищих, безработных, вэлферовцев, дегенератов, трущоб? Неужели государство, считающееся самым богатым в мире, не может для них сделать что-то лучшее?
– Ну, ты даёшь, – удивился Михаил и от удивления даже выпил сразу огромную кружку пива.
– Конечно, я понимаю, что здесь есть на то экономические причины. Но у меня такое ощущение, что это к тому же ещё и, так сказать, сознательно.
– Это механизм социального террора, и в этом плане это делается, конечно, сознательно. Это политика большого бизнеса и финансовой олигархии – чтобы держать в повиновении массы, особенно средний класс. Чтоб развить страх перед падением в нищету, чтоб каждый думал только о деньгах и готов был на всё, лишь бы удержаться на поверхности. Чтоб был наглядный пример, что ждёт каждого, если он оступится. И всё это на фоне всемогущего блеска золота.
Андрей слушал, немного подавленный, но возразить было нечего, слишком это было очевидно.
– И это очень удобно, чтобы держать в страхе средние, определяющие слои населения. Люди только и думают о том, чтобы не потерять работу, заработать как можно больше денег на будущее, на старость. Всегда есть страх за будущее, страх, что с тобой может случиться то же, что с ними, что ты окажешься в этой зоне… Работают, как обезумевшие; чтоб сходить в сортир, надо спрашивать разрешения у начальства. И деньги, деньги, деньги – только одно в сознании. После работы – телевизор. И вот так называемый свободный человек – иными словами, робот – испечён.
– Ну и картина, – угрюмо заключил Андрей. – Но всё-таки у них технология.
– Зачем нужна технология, если нет человека? Человек – вот смысл и цель цивилизации. А не технология. Можно иметь и технологию, и человека.
– Ну, естественно.
– Да, вот так и создаётся молчаливое большинство. А что за жизнь у этих людей? У теней в аду – и то более духовная, светлая и радостная. А если взять вообще историю Запада, не только Америки… Их колонии… Это же был мировой архипелаг ГУЛАГ, существующий столетиями. То тихий, то бурный геноцид. А зайди в любую книжную лавку – не очень-то там много книг об этом. Свобода, так сказать. То, что пишут в «Индия таймс», ты не встретишь на страницах «Нью-Йорк таймс»…
А та же Ирландия? Кто организовал в первой половине XIX века искусственный голод, проводил геноцид, уничтожив больше половины населения? Самая демократическая Великобритания с парламентом и конституцией. А инквизиция, потоки крови в Европе? Какой там Иван Грозный! Смешно. Конечно, везде были преступления, но эти, намного опередив всех, в последнее время ещё взяли себе в привычку какое-то слабоумное лицемерие: все свои злодейства им надо обязательно прикрывать. Переделывают историю, как хотят…
А геноцид православных в Югославии, а Индия… Да что тут перечислять, собьёшься… Говорят, что после Хиросимы и Нагасаки американцы сбрасывали с самолётов аспирин и не забывали это списывать с налогов. Бомбили немецкие города, сносили целые жилые массивы (вместе с жителями), только чтобы потом строительные компании могли строить новые дома и делать на этом бизнес.
– Да, я уже заметил, лицемерие – это их основа. Одни морды лидеров по телевизору чего стоят. Пуговичные глазки, тоненькая улыбочка на устах. А вид такой, аура такая, что в аду встретишь – удивишься. Особенно умилительно, когда они о Христе говорят…
– Сейчас всё меньше и меньше о Христе говорят. Ты вот обрати внимание на другое. Ясно, что их власть здесь – это диктатура бизнеса и банков. Диктатура за занавесом. Но какой ловкий занавес они скроили! Пишут, мол, что наш президент, наши выборы, а выбирать можно только уже проплаченных. Театр марионеток. А в газетах: демократия, свобода… На каждом углу визжат о своей свободе. Это уже само по себе подозрительно. А на деле – такой скрытый и откровенный контроль, что, может быть, Гитлеру и не снилось. Но, что интересно, камуфляж всегда соблюдается, ласково так, аккуратненько, с лицемерной улыбочкой: в газетах двадцать огромных статей, каких надо, но обязательно одна-две маленькие, где-нибудь в стороне, – против. Дескать, вот, у нас демократия, свобода.
– И всё-таки у меня порой вспыхивает надежда, – вдруг проговорил Андрей.
– Это потому, что ты недавно приехал, – холодно ответил Замарин. – И к тому же живо вспоминаешь то плохое, что было там. Но скоро ты будешь вспоминать только хорошее из той жизни. А что касается этой страны… – он махнул рукой. – Америка хвастается своим динамизмом, своим движением, и в ней действительно всё меняется, кроме одного – власти денег и людей, у кого есть деньги, в глобальном масштабе, конечно. И этим пронизано всё: от религии и искусства до воспитания в дошкольном возрасте и похорон.
– И что же делать?
– Что делать? – Замарин иронически развёл руками и посмотрел на Андрея. – Или исчезнуть. Или… Много «или».
– А я считаю, что всё же существует иная Америка. Не говоря уже о том, что здесь много хороших людей.
– Ну-ну. Но не в их руках власть, и не они делают здесь погоду.
– Всё может измениться.
– Кроме одного.
В бар вошли две проститутки. Довольно страшные по своей искусственности и разукрашенности. Они скорее отталкивали, чем привлекали, и походили на манекены. Деревянно подошли к стойке и разместились, так же деревянно крича. Андрей удивлённо загляделся на их искусственность и чуть-чуть испугался: за их клиентов.
– Но самое страшное здесь вовсе не в том, о чём мы говорили, а в другом, – прервал его изумление Миша. – Когда-нибудь ты узнаешь это на собственном опыте.
– А тебе не кажется, что эти проститутки пришли с Марса? – спросил Андрей.
– A-а… Я привык, – Замарин лениво отпил пива.
– Но всё-таки, чем ты здесь занимаешься, кроме живописи?
Замарин Миша ничего не ответил, только улыбнулся, но от его улыбки повеяло ещё большей неизвестностью.
– Ты сам в чём-то изменился здесь. Не во всём, конечно, – добавил Андрей.
– На том свете мы тоже не узнаем друг друга, – засмеялся Замарин. – За тот свет, старик!
И он поднял кружку.
14
Лена и Андрей сидели на неустойчивых стульях в большой, но дико запущенной, грязной, с пыльными стёклами квартире. В квартире уже год жили эмигранты из Москвы – отец и дочь.
Отец, семидесятилетний старик, лежал на диване, взятом с помойки, и кричал (на Андрея смотрели его большие, лихорадочные глаза):
– Вы видите этот шоколад?!! – в руках старика действительно была мокрая плитка шоколада. – Только в свободной стране может быть такой шоколад. Я купил его со скидкой двадцать процентов! Вы хоть понимаете, насколько вы счастливы, что живёте в такой великой демократической державе, как Америка?!
Андрей замер, но почти согласно кивал головой.
– Наконец-то мы на свободе! – старик поднял палец. – Надя, принеси кофе!
В другом тёмном углу комнаты на стуле сидела его дочь, сорокалетняя женщина, которая мечтала здесь кем-то стать. Она незаметно вышла на кухню.
Пальцем старик указал на свой лоб.
– Мы ещё не в силах понять всем своим умом, – сказал он и вытянулся на диване, – что такое свобода. Мы не в силах осознать всё величие Америки.
– Кем вы были в Москве, Дмитрий Константинович? – робко спросила Лена.
Старик повернул на неё уже красные глаза:
– Я был редактором. И мучился.
Надя принесла кофе.
– Я хотела бы вас попросить, Андрей Владимирович, помочь мне опубликовать тут мои статьи, – произнесла она. – В «Новом журнале»… У нас нет друзей…
– Как это у нас нет друзей, Надя? – поднялся старик. – Ты что?! В Америке у нас все друзья! Просто Андрей Владимирович, как писатель, мог бы тебе действительно помочь.
«Они воображают, что я многое могу», – с ужасом подумал Андрей.
– Ну, хорошо, потом поговорим о делах, – как-то забито и совсем тихо сказала Надя. – Попьём кофе…
Но Андрей всё-таки рассказал о ситуации в эмигрантских газетах и журналах, кому надо писать и так далее.
– Вы видите, какая свобода! – и Дмитрий Константинович опять как-то призрачно взглянул на Андрея.
…Через час Круговым надо было уходить. Надя отвела Андрея в другую комнату, чтобы дать свои статьи.
– Приходите, Андрей Владимирович, дня через два, – она судорожно сглотнула слюну. – Вы знаете, нас вчера опять ограбили. Это уже четвёртый раз за этот месяц. Хотя смешно – что у нас брать, что мы можем купить на вэлфер? Но здесь трущобы. Тащат даже поломанные стулья. Просто заходят, как на помойку. Сломали дверь днём и вошли. Мы идём и видим – дверь открыта. А в полиции заявили: «Скажите спасибо, что вас не было в квартире. Радуйтесь, что живы. Но мы такими делами не занимаемся, вы знаете, сколько в Нью-Йорке таких квартирных краж случается каждый день?» Так и сказали.
– Да, вот и я обратил внимание, что дверь-то у вас…
– Мы не знаем, что делать. Сначала надо немного отремонтировать квартиру. А денег нет, – тихо сказала Надя.
– Надя, мы придём к вам завтра. И я сделаю, что смогу. Я хочу с вами поговорить – наедине, – медленно сказал Андрей.
– Хорошо, хорошо. Спасибо. Значит, придёте завтра?
Надя вошла в комнату отца:
– Папа, Андрей с Леной придут завтра вечером…
– До свидания, друзья, – отозвался Дмитрий Константинович.
– Как ты думаешь, он верит в то, что кричал? Или он и нас, и всех боится? – спросила Лена у Андрея, когда они неслись в автобусе по нью-йоркской ночи.
– Конечно, он боится. Но он и верит – ты вспомни его глаза!
Дмитрий Константинович умирал – умирал в эту ночь. Нади не было – она убежала за врачом: там, через два квартала, жил их знакомый врач, но у него пока ещё не успели поставить телефон, а местного, американского, врача вызывать было бесполезно.
Отец – в одиночестве – подполз к дыре в окне и дышал. В эти последние минуты он ни о чём не думал: ни о прошлом, ни о будущем, ни о жизни, ни о смерти. Ни о чём.
Послышались тяжёлые, уверенные шаги по лестнице. Открылась дверь. Вошли грабители: двое молодых парней. Один из них быстро взглянул на Дмитрия Константиновича. Тот еле стоял у окна.
Парни, не обращая на него внимания, взяли стол и вынесли его вместе с чайной посудой. Дмитрий Константинович почти в той же позе остался у окна.
Когда Надя вернулась со знакомым врачом, отец был уже мёртв. Он лежал точно на том месте, где стоял вынесенный стол.
15
– Я не могу здесь больше жить! – этот крик на русском языке Игорь услышал днём, посреди грохота и воя Бродвея.
Кричала женщина, в полузабытьи, истерически, её длинные русые волосы разметались – рядом стоял толстый мужчина, видимо её муж, и довольно равнодушно её слушал. Было видно, что ему здесь более или менее нравилось.
Игорь уже привык к подобным и другим картинам. Цель его была тут, на углу, – встретить Андрея и повести его на Сорок вторую улицу, которую последний толком так и не знал до сих пор. Сорок вторая улица – по крайней мере внешне – считалась самой разнузданной в Нью-Йорке. По одну сторону – сплошная порнография: фильмы и прочее, прочее. По другую сторону – фильмы ужасов без прочего, прочего. Друзья решили заглянуть именно в эту сторону.
Андрей появился чуть-чуть весёлый.
– Ну, двинулись, – заявил он.
– Что-то тебя будущие ужасы так веселят, – недоверчиво проговорил Игорь. – Я не так уж люблю эти страсти. Ну уж ладно, тебя сведу.
Сорок вторая опять поразила Андрея своим динамизмом. Потоки автомобилей, людей, крутящиеся рекламы, крик – всё это с утра, днём. Прохожие на тротуарах пребывали всё время в какой-то ажитации; из порнографических закоулков выскакивали потные люди, во всю мощь шла торговля: соки и сосиски мгновенно поглощались. Но были и какие-то худые выжидающие типы, видно, совсем без денег. Реклама орала так победоносно, что, казалось, рёв машин превращался в её рёв. Мелькали и дети…
Игорь с Андреем купили билеты на какой-то ультрасовременный кошмар. Кинотеатров по бокам было много, но все маленькие; тёмный зал казался ещё меньше и ýже, чем был. Андрея удивило, что в самом зале, у входа, появились двое, как всегда, сверхвооружённых полицейских. Потом они исчезли. Но, прежде чем начался фильм, у Андрея опять возникло ощущение ловушки: зал незаметно, словно входили тени, заполнился, однако, вполне осязаемыми, но странными молодыми людьми. Они были наполнены какой-то тёмной энергией, некоторые покачивались – и Андрей не знал совершенно, чего от них можно ожидать. Он сталкивался – в далёком прошлом – с хулиганами и даже бандитами, но понимал их психологию. С ними можно было вступить в контакт, даже смягчить их, зная их в душе. Но здесь не могло быть никакого контакта, и это было самое страшное. Поэтому, если произойдёт нападение – на улице или здесь, – оно будет неотвратимым, безжалостным и внезапным.
Рядом с ним сел, например, человек, понять которого, казалось, не было никакой возможности. По понятиям Андрея, он вёл себя угрожающе, но, как потом объяснил все тонкости Игорь, намерения у соседа были совершенно нейтральные. И наоборот, женщина, сидящая сзади, могла в любой момент закричать, призывая к атаке. Они сидели в середине зала, и вокруг них были эти люди – разных цветов кожи, и, как чувствовал Андрей, они находились в каком-то непонятном напряжении. Было явно также, что некоторые из них вооружены.
Из-за непривычной кинотеатральной атмосферы Андрей не мог отдать должное фильму, и он не понимал, то ли он смотрит на то, что происходит в зале, то ли фильм ужасов. Тем более вдруг поднялись клубы дыма – курили марихуану или, возможно, что-то покрепче из наркотиков. Замысловато-синий дымок висел в зале, как тучка.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































