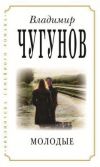Текст книги "Твой след ещё виден…"

Автор книги: Юрий Марахтанов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Удачное направление ветра сегодня, скоро его прах будет над Великим морем.
– Говорили: он оттуда родом.
– Кто теперь это знает.
У Ратхамы вдруг защемило внутри так, как много лет назад, когда его привязали верёвкой к седлу лошади, на которой сидел гордый перс.
– Мне больно, – попытался высвободить руку сын. – И зачем ты меня держишь, словно я маленький?!
Остатки костра уже покрывались седым пеплом и никому теперь не освещали путь, а сами впитывали холодный свет луны и миллиардов звёзд. Ратхама стоял у пепелища и желал найти хоть какой след от человека, так безжалостно порвавшего связь с этим миром. Совсем рядом, на вытоптанной земле, он увидел три белых камушка, нагнулся над ними, и не делая никаких усилий, прочёл имя своего сына, сложенное из трёх, знакомых ему знаков:

Матхара
11
Работа шла для Александра своим чередом. А письма Николая Благова он читал по вечерам. Иногда – до поздней ночи. В прочитываемой истории предощущалось что-то такое, чего он не мог понять до конца.
В окружавшем его мире, существовала такая жизнь, которая отторгала искреннее, откровенное слово. У певцов – клички стали заменять имена. У писателей, диалог с двойным или тройным подтекстом, поражавший Александра раньше у Хемингуэя – заменил набор букв, обозначающих слова и похожий на собачий лай. А о написанных Хемингуэем рассказах, выражались теперь в России пренебрежительно: «хемингуёвина», – не предложив ничего взамен.
Вязь слов, сплетённая поручиком Благовым, странно напоминала Александру об отце, который любил и знал Рубцова, Платонова, Маркеса и Кортасара. Хотя был настырным, прагматичным математиком, кандидатом наук, цеплявшимся сейчас за жизнь в презревшей науку России.
«Отец, я сейчас вынужден прикоснуться к жизни революционной России, – Александр долго думал над текстом электронного письма, не зная, как объяснить то, чем он сейчас занимался. – Помнится, ты читал мне выдержки о странных и загадочных 20-30-х годах. Пришли хотя бы страницу твоих любимых текстов Платонова. Характерных. Или я стал забывать русский язык, или он стал сторониться меня. При встрече всё объясню».
И вот этот сумасшедший текст висел перед ним на экране компьютера, Александр читал и нервничал.
«Один красноармеец сидел на корточках и глядел себе в пах, откуда тёмным давлёным вином выходила кровь; красноармеец бледнел лицом, подсаживал себя рукою, чтобы встать, и замедляющимися словами просил кровь:
– Перестань, собака, ведь я же ослабну!
Но кровь густела до ощущения её вкуса, а затем пошла с чернотой и совсем прекратилась; красноармеец свалился навзничь и тихо сказал – с такой искренностью, когда не ждут ответа:
– Ох, и скучно мне – нету никого со мной!»
«Зачем тебе это? – спрашивал Александра в конце письма отец. – Этой России больше нет».
«Не знаю», – ответил он отцу и не слукавил.
В Каире достраивался завод. Шакер Саллам звонил иногда, не скрывая, что рад бы повидаться. Болью в душе часто выплывала из небытия Таис, – а он сидел над листками с удивительно красивым почерком и с сожалением, даже на ощупь осязал, как мало их осталось.
Письмо четвёртое.
Февраля 1919 года.
Не только писать, подчас и жить-то сложно. Зима здесь скучная, бесснежная. И когда её нет, вспоминаешь, Степан, другое: из детства.
Вспоминаю даже не берёзы, а белое полотно их стволов, по одному из которых ползли муравьи. Они встречались, приостанавливались, словно что-то сообщая друг другу, и расходились встречь. Ствол был в серых штрихах, а мураши ползли вдоль его, поперёк полосок. Над озером, где мы рыбачили, трещали стрекозы. По воде расходились круги, обещавшие клёв. Стоял июль, и было розовое небо. Ожидалась гроза, но молнии полыхали пока далеко и бесшумно. Свиристели птицы, и, потихоньку приближаясь, начинал доноситься гром.
– Гроза будет, пойдём быстрее, – сказал за нашими спинами чей-то женский голос.
– Пусть, – безразлично ответил мужчина.
Озеро зазнобило, оно сделалось непрозрачным. Уже гнало к берегу волны, куда сразу прибило поплавки наших удочек. Не сговариваясь, мы взяли по жёлтой охапке сена и подтащили их к берегу, под плотные берёзовые кроны, ветви которых дико свисали почти над водой. И тут же на минуту стих ветер, озеро опять стало глянцевым; и вдруг пошёл дождь.
– Идём домой, – сказал ты мне, будто сомневаясь: надо ли это делать. – Ждут, наверное.
Я стряхнул с груди ползущего муравья и согласился. Когда мы подошли к дому, стало совсем темно. Но в окнах горел свет, играла музыка, а захотелось вернуться обратно – на примятое нашими телами сено. Тем более, что дождь потрусил чуть-чуть мелкими каплями и отправился за озеро.
Шёл первый год нового века, и каждый день детства был таким длинным, бесконечным, и полон событиями, словно августовские соты дедушки – мёдом. Любой из дней казался весомым на ощупь, а всякое событие имело свой запах и свою значимость. И земно кланяющиеся навстречу нашей повозке незнакомые деревенские люди. И сиянье златоверхого храма в конце дубовой, тенистой аллеи. И молниеносные стрижи над чердачным окном дедушкиного дома. И даже деревянная плошка с синими ягодами черники в белом молоке, которую держал в своих ладонях дед, и руки его были такие же серые, в таких же трещинах, как сама плошка. Но казались тёплыми.
В Генуе сейчас февраль. Вдоль пустого берега стучат бортами яхты. Они скучные, без парусов, с голыми скелетами мачт, устремлёнными в серое небо. Летом, разноцветные треугольники их парусов гоняются друг за другом; и весь порт, и многочисленные его бухты живут ощущением ритма, воспевающего скорость и spazio (что по-итальянски означает «пространство»). Тогда мчатся накренившиеся под порывами яростного ветра парусные суда, а на их взметнувшихся вверх бортах, висят матросы и стараются восстановить равновесие.
Но сейчас чёрные волнорезы прорезают море, жёлтая луна висит над акваторией; и так далеко лето. Хочется сочинить себе праздник, но не получается.
И вести из России не приносят радости. Ходят слухи, что ещё летом 18-го уничтожили всю царскую семью. Это месть за казнённого Ульянова-старшего? Или реванш дальним государевым родственникам за унизительный мир с Германией? Может быть, просто: упоение властью? Но если не пощадили государя и – страшно подумать – его детей, то что же будет с нами: царскими офицерами, взгляды которых не могли измениться за столь короткое время?!
Такой странной войны: гражданской, да ещё поддержанной иностранцами, – не знала ни одна страна мира. Какая же нужна сила идеи, чтобы в этой войне выстоять? Когда-то Ленин обвинял нашу партию и всю военную кампанию в национал – шовинизме. Но разве не чувство исключительности русского человека может спасти Россию!?
Только не даёт покоя одна мысль: русские офицеры, которые воюют сейчас под знамёнами Колчака, Деникина, других, равно как и солдаты, – которых всех теперь называют белогвардейцами, – они же тоже отстаивают свою Россию. И те, и другие кричат одно: «Ура!» Всё это походит на деревенскую драку: конец на конец; деревня на деревню. И чужого не надоть, и свово не отдадим. Чего под руку попало, тем и дубасят: не ты, так тебя.
А страны Антанты – сволочи и предатели. Спасаются этой войной против собственных революций. Да и у бывших наших противников дела не лучше. Австро-Венгрия – почти уже не империя. Осенью 18-таго у них произошла «революция осенних роз». Венграм нужна своя республика и вот-вот она ею станет. Один из бывших их офицеров рассказывал мне, как солдаты срывали звёздочки с их погон, эмблемы с инициалами короля Карла, и вручали розы. Теперь, в эйфории, всех скопом принимают в Венгерскую компартию, коммунисты слились с социал-демократами, хотя друзьями никогда не были. Но многим кажется, что всё закончится, как и обычно: обладающий капиталами, властью, заводами, землёй, – просто так ничего не отдаст. И вот уже против «роз» стягиваются войска боярской Румынии, французский премьер-министр Клемансо науськивает буржуазных чехословаков, итальянцы зашевелились, особенно здесь, на севере.
И так было, и будет. Всегда и везде. Имущий против неимущего.
Штыками, предательством, ханжеской службой и ленивой работой, – оставшиеся не у дел, будут раскачивать власть, чтобы вернуть своё. Пусть через пятьдесят, семьдесят лет, но будут помнить, что когда-то их отцы или деды имели то, чего не имеют они, или – хотя бы – заседали в Госдумах и земствах.
И что же делать? Это только вашему Ленину всё ясно.
Не лезть в политику. Жить. Но она – политика – и против твоей воли может найти тебя. Думал ли я, уходя на фронт, что всего за пять лет, так изменится Россия! Пора открывать свой магазин и заниматься делом. Как говаривал дед: «Хватит витать в облаках, пора избрать благую часть».
Чего и вам всем желаю.
Письмо пятое.
декабря 1920 года.
Уже четыре года, как не живу в России. Стал забывать скрип калитки, в заборе нашего дома, но рука ещё помнит сопротивление мощной пружины, навитой мастеровитым дедом в его артельных мастерских.
Занимаюсь простым: во-первых, – торгую; во-вторых, – слежу по газетам за военными событиями в России, или как она теперь называется; в-третьих, – просто живу. Я – уже почти итальянец. Где-то далеко, на родине, творится история (я это чувствую и понимаю), но истории нет дела до людей, если это, конечно, не цари, тираны или великие полководцы. Иногда думаю: зависит течение истории от человека или нет? И являюсь ли я частью её, ну хотя бы крупицей истории своей России? Сколько нас, оставшихся волей или неволей вне России? Тысячи и тысячи. Кто о нас вспомнит? Мне исполнилось тридцать лет. Не юбилей, конечно, но всё же… Вспоминаю мудрого нашего деда, который перед своим семидесятилетием спросил у давнего знакомого:
– На позорище-то моём, будешь ли?
– Почему же, позорище? Юбилей же.
– Потому что будут говорить про меня хорошие красивые слова. А я буду сидеть и плакать.
И что там теперь с его артелью? С его небольшим, но единственным в своём роде промыслом? Да и жив ли?
Я уже теперь не Николай Благов, а Nicolo Blagovioni, а свои офицерские документы храню в железной коробке из-под папирос и за ненадобностью достаю редко.
Одну войну бесславно закончили, тут же началась другая, и конца краю этому не видно. Если бы я был в России – на чьей стороне воевал? С генералами, которые уже пали: Красновым, Деникиным или вставшим на его место «правителем юга России» Врангелем? А может быть, с новыми «красными» командирами: Будённым или Фрунзе?
Теперь и не знаю. Потому что живу другой, уже торговой жизнью, в которой, правда, своя дисциплина, свои армии и своя оборона. Неожиданно обнаружил в себе некоторые способности, наверное, достались от деда.
Касательно военных действий, то после того, что произошло с врангелевскими войсками в Крыму, да и потом, при бегстве, то ничего другого, кроме как сочувствия – не вызывает.
Мой друг Константин, с которым мы бежали из плена, такой же как я связист, но неуёмный и, кажется, рожденный для военных кампаний, – он всё никак не мог успокоиться и с первой же оказией рванул «добивать» немцев, а потом оказался в Белой гвардии. Недавно вернулся, осел в Раполло, но понять, что с ним произошло, почти невозможно. Водки здесь нет, а с итальянского вина он не очень-то разговорчив.
Хотя из эмигрантских газет кое-что узнать можно. В берлинской газете «Руль» вычитал подробности бегства врангелевцев из крымских портов. Бросали всё: имущество, склады, госпитали с ранеными, бронепоезда, артиллерию. «На некоторых судах, рассчитанных на 600 человек, находилось до трёх тысяч пассажиров: каюты, трюмы, командирские мостики, спасательные лодки были битком набиты народом. Шесть дней многие должны были провести стоя, едва имея возможность присесть». Когда я показал эту статью Константину, он только горько усмехнулся:
– Ещё не было воды и хлеба. Замерзали от холода и задыхались от тесноты. На моих глазах некоторые сходили с ума. Это уже было почти катастрофой бело го движения. А окончательно оно перестало существовать, когда мы, остатки частей врангелевской армии, мечтавшие ещё недавно о Босфоре и Константинополе, сполна их получили. Нас разместили в лагере, в 50-ти километрах от вожделенной нами столицы, в рай оне Чаталджи. Тиф, лихорадка, отвратительное питание, ветер и ночной холод, и верховодство генералов, выбивающих любую мысль о возвращении в Россию. Нас вырвалось оттуда около 2000 человек. И тот, наш с тобой, Коля, побег из австрийского плена, я вспоминаю сей час как трудную прогулку, а этот 20-й год как кошмар.
Эти наши воспоминания, как болячка, которую хочется сковырнуть. Знаешь, что пойдёт кровь, она свернётся, загустеет и станет похожа на ржавчину, и ты опять её сковыриваешь, испытывая боль и наслаждение.
На берегу моего озера мне хотелось стать художником и написать геометрию озёрных волн, но я не стал им; музыкантом, чтобы раздумчиво исполнить партиту № 6 Баха, но не случилось. Всё поглотили революции, баррикады, война, плен и чужбина…
Письмо шестое августа 1921 года
Наконец-то в Советской республике заговорили об обычной жизни: о промышленности, о сельском хозяйстве, об установлении нормальных торговых отношений с «капиталистическими государствами». Конечно, опять делят страны, с которыми пытаются иметь отношения – на «наших» и «не наших».
Вам, Степан, социалистам, а теперь уже ком мунистам, не нравится, что средства производства являются частной собственностью. Вы хотите, чтобы всё принадлежало народу, но в то же время – государству. Как пишут теперь ваши газеты: «Рабочий класс в союзе с трудовым крестьянством под руководством коммунистической партии ликвидировал политичес кую власть буржуазии и помещиков; путём национализации и обобществления основных средств производства в важнейших отраслях народного хозяйства завоевал экономические позиции в стране». Я человек был военный, но кое-что из того, что нам преподавали – помню.
Жило нас в России до мировой войны чуть меньше 160 миллионов человек. Считалось, что 4/5 или око ло 130 миллионов – население было сельское (т. е. в большинстве своём неграмотное), из которых больше 85 миллионов – крестьяне единоличники и кооперированные кустари (а эти совсем уж к политике и управлению государством люди не охочие). Буржуазия, помещики, служащие, торговцы и «кулаки» (по вашему) – около 50-ти миллионов. И сколько остаётся на рабочий класс, которому, якобы, доверили управление государством? 24 миллиона или 1/7 часть. А убери женщин, коих больше половины, а их к управлению государством, промышленностью, да хоть бы и крестьянским двором – отродясь на Руси не подпускали. Да и с грамотой у женского пола всегда было слабее. Вспомни. В нашей слободе, в двух гимназиях: на полторы тысячи человек – в мужской, семьсот девчонок – в женской. У нас в России среди женщин сроду: ни Достоевских, ни Толстых; ни Суворовых, ни Менделеевых; ни Пугачёвых, ни Разиных. Декабристки, правда, были.
По такому раскладу – селяне должны власть представлять в советах или в Учредительном собрании; буржуазия, служащие, да торговцы; а уж в последнюю очередь, рабочие, которых обманывают, что они только и имеют право на власть.
Стал я злым, расчётливым и Фомой неверующим. Наверное, от большого одиночества. И не знаю, в чём правда? У Алёши Карамазова, выше правды – Христос, у кого-то, наверное, государство. Я – не Иван, не Митя и не Алёша. Я кто-то другой: четвёртый брат Карамазовых. Изгнанный с собственной родины. Таких – на Руси и не было никогда. А вот теперь – есть. И не приведи Господи, ежели племя это будет множиться. Конечно, мы не «младенцы Вифлеемские» и предназначение наше не как у Христа, чтобы оправдать исход наш словами родителей Иисуса: «Лучше быть изгнанными, чем погибнуть». Но надеешься когда-нибудь услышать: «Из Египта воззвал я Сына Моего».
Письмо седьмое мая 1922 года.
Теперь хочу и надеюсь жить. И пишу сейчас не ради размышлений, а чтобы не потерять ощущение весны, надежды и счастья.
Полюшко ты моё – Поля!
Что за чудный апрель окутал Геную! Уже разворачивали паруса первые яхты или же готовились к сезону: свежевыкрашенные, пахнувшие олифой, маслом и блестевшие под солнцем аккуратными бортами. И я, бывший сухопутный офицер, сидел на берегу и жалел, что не вырос у моря, и не могу познать полностью этого удовольствия: пройти под парусами не пассажиром, а матросом, знающим все премудрости этой сложной оснастки.
Но всё чаще обращал я взгляд от моря к при гостинничной терассе, которая, с облюбованного мною места в кафе, хорошо просматривалась. Там, в креслах, выставленных под одинаковым углом к солнцу, словно в ожидании магниевой вспышки над фотографическим аппаратом, в полной тишине и неподвижности, занимали места люди, никого из которых я не знал. Все вместе они были частью советской делегации, прибывшей в Геную на экономическую конференцию, и взирающие сейчас на странную для них, беззаботную жизнь, творящуюся вокруг. С лицами, лишёнными выразительности; в одеждах бледных и бесстрастных красок; уставшие от «политики военного коммунизма» и пережившие 21-й год – год засухи, голода и разрухи, – они напоминали языческих поклонников бога Солнца, но не замечающие друг друга. И даже приближавший сцену бинокль, не менял этого впечатления, а наоборот – только усиливал его: равнодушный вопрос, бесстрастный ответ, и невозмутимая тишина; а обилие света вокруг, только подчёркивало обстановку терзания, мучения, нерадушия, и отчуждённость людей, названных делегацией. Хотя каждый из них находился в ожидании необходимости того, что должно свершиться, в противоположность тому, что существует; и выглядел чинно.
Вечером, когда краски неба и моря становились мягкими и пастельными, а тени не глубокими, я фланировал по набережной с щемящей надеждой оказаться с русской делегацией лицом к лицу. Атмосфера ясности и спокойствия царила вокруг, я вглядывался в лицо каждого встречного человека, с сожалением не узнавая в нём соотечественника.
– Поручик… Коля… – ты подошла ко мне сзади, положила руки на мои давно гражданские плечи и этим вернула мне прошлое.
Тебе, Поля, позволительно было не узнать меня, тем более, что прошло девять тяжёлых лет, оставивших печать не только на наших лицах, но и в наших душах. Позволительно пройти мимо. Но ты подошла…
Только первые мгновения мы оставались теми молодыми людьми, между которыми не было ни войн, ни революций, а лишь звенящий обещающий взгляд и осязаемый трепет соединённых вместе ладоней. Но тут же весь твой облик уже дышал прямотой и серьёзностью, граничащей со строгостью. А волевое выражение лица естественно гармонировало с застёгнутым наглухо чёрным платьем, собранными в тугой пучок волосами и напряжённой спиной. И лишь глаза оставались мягкими и тёплыми, в которых жила память.
Я не нашёл тогда, что сказать. Лишь теперь, спустя время, говорю словами Dante Alighieri:
Но мнится мне: давно бы вы изгнали
Ту память прочь, будь я неверен ей…
Мы стояли на набережной, наверное, уже с полчаса. И с каждой минутой чувство безысходности нашего положения наполняло меня. Но я видел кружевной белый воротничок и такие же манжеты, оживляющие твоё строгое платье. И хотелось дотронуться до них – символов нашей далёкой гимназистской юности. С Генуэзского залива ветер осторожно пробовал на ощупь складки твоего платья, и я завидовал нахальному ветру.
Я узнал: что жива, но постарела моя мать; что брат Степан, как этого и следовало ожидать, работает теперь в ВЧК; что подрос младший брат Виктор. И боялся спросить о твоей личной жизни. И даже почувствовал облегчение, когда услышал казённые сухие слова: о том, что «продразвёрстка подрывала союз рабочего класса с крестьянством», «о переводе предприятий на хозрасчёт», «о мобилизации кадровых рабочих на работу в госаппарат»…
– Ты замужем? – спросил я.
– Нет, – без сожаления ответила ты.
Ты оказалась рядом с человеком, которому была нужна сейчас и которого нашла сама, но с тем ли, кого искала? Тот, потерянный тобою, возможно, совершенно другой – он был интересен тебе прежде.
Понимая, что ты не можешь быть со мною долго, я спросил:
– Когда мы теперь встретимся?
– Наша делегация уезжает в Рапалло.
– Это недалеко, – разъяснил я. – Здесь же, в Лигурии. Я найду тебя. Удачи в переговорах вашему наркому иностранных дел Чичерину.
Ты не возразила, лишь попросила:
– Будь осторожнее.
Я понимал, что в этом небольшом городке делается часть истории, но слава Богу, что ей было не до нас. В перерыве между бесконечными заседаниями ты стояла на широких мраморных ступенях, молча запрокинув лицо к солнцу, а я, притворившийся случайным прохожим, успел передать тебе записку с адресом.
Маленький домик, который с гусарским благородством уступил на время мой друг Константин, был похож на украинскую мазанку. Я так долго ждал тебя там, жадно вглядывался в улицу, курил и боялся прожечь трепещущие на ветру занавески на окнах. Всё дрожало и внутри меня, а ощущение безрассудного мимолётного порыва усиливало бликующее под солнцем море, лёгкие перистые облака над ним, и частично успокаивало – высокое, голубое небо. Хотелось быть парадным, в офицерской форме с золочёными погонами, хотелось щегольски щёлкнуть каблуками при встрече; но сейчас была белая рубашка «апаш», цивильные брюки, одинокая бутылка сухого вина на столе (которая так и не будет почата), и ветка дерева, склонившаяся над окном – беременная набухшими по весне почками.
Ты появилась и выдохнула с порога:
– Ну, здравствуй, поручик!
На тебе было белое платье, перетянутое в талии жёлтым плетёным пояском; шляпку ты держала в руках, и я видел, как её судорожно сжимали твои пальцы, словно она являлась последним оберегом от того, что будет за следующим твоим шагом. И ты вошла, всем своим видом давая понять, что наше поведение ошибочно. Пыталась что-то сказать, но слова, как и фигура, были напряжённы, несвободны; ты и присела на краешек стула, инстинктивно самозащищаясь или от нашего прошлого, или – от непонятного будущего. Испуганно взмахнула рукой, когда я, не зная, что делать, предложил сухого вина, приготовившись браво вышибить пробку, как это делают многие мужчины в присутствии красивых женщин. Но и доли кокетства не видел я, разве лишь неловкость, которая была частью твоей природной скромности, а теперь уже приобретённой осторожности. Под окном журчала струя воды, и это был единственный звук в полной тишине, царившей в комнате, в которой словно остановили течение времени. Мы оба понимали обречённость нашего земного союза, но не могли остановиться. В одиночестве не радуются, в нём томятся: мы и бежали каждый из своего одиночества; может быть, ты – ещё и от агрессивности жизни, которая окружала тебя там, в России.
Окутанная мягким, через занавески светом, обнажённая, ты сидела вполоборота ко мне, и твоя сжатая поза напоминала зародыш в материнской утробе. Но странную притягательность испытывал я к твоему телу, и розовые отблески каминного мрамора вторили молочному цвету твоей кожи. И никаких изъянов плоти не наблюдал я, да и не хотел их видеть. Твои пальцы будто перебирали что-то невидимое, словно нащупывали крест, которого, впрочем, не было.
– Ну, преврати меня в оленя, как Диана охотника Антеона, который увидел её наготу, – попытался оправдать ся я, – а потом меня растерзают мои же собственные собаки.
– Или мои… – тихо сказала ты.
Ты была со мною рядом: русская женщина, хотевшая меня, любящая, а потому жалеющая меня, и уставшая вдруг. Потому, что ты даже стонать боялась, будто нас мог услышать ваш нарком иностранных дел. И тут же шептала: «Хочу быть с тобой!..» Я уже смотрел на тебя со стороны. В твоё запрокинутое лицо, спокойные и устало улыбающиеся губы, на твоё тело, где словно ягоды клюквы выделялись соски. Твоя правая рука была закинута вверх и на её кисти покоилась голова, левая рука тоже спрятана под тело – ты, как будто, сама себя поддерживала так, чтобы не утонуть в красно-синих простынях, вихрем мазков клубящихся под тобой. И твои раскинутые по подушке рыжие волосы, и даже тёмные круги вокруг глаз – были тревожно-соблазнительны, но одновременно, вместе с фоном беспокойного рисунка обоев, – вызывали подспудное предчувствие трагедии. Хотя и тогда, и сейчас я испытываю счастье.
Твой поезд отбыл совсем недавно. Провожая тайно, я не выдержал и зашёл в вагон. Остановился рядом с твоим купе и смотрел на тебя через приоткрытую дверь, притворившись чужим, случайным человеком.
– Уезжаете? – спросила соседка по купе.
– Уезжаю! – весело ответила ты и повернулась.
И тут же твои глаза стали постепенно грустными, блестящими от слёз, тёмными и глубокими, как наше озеро.
* * *
Александра как бы поставили лицом к лицу с простым человеком, исполненным достоинства и непонятной печали. Он почему-то стал сравнивать Николая Благова со своим отцом, и это было странно. Ни возрастом, ни судьбой они похожи не были. Хотя судьбы многих русских повторяются из века в век. И многим приходится прятать своё прошлое; однако, воспроизводя в сознании прежние, радостные или горестные впечатления, тем самым возжигать свою память – пусть и всего лишь крупицу минувшего времени человечества. Если бы в своём математическом интеллекте Саша не ограничился, если бы знал, что древние философы по-разному обсуждали понятие «времени», то, наверное, поспорил бы с ними. «Время не есть самостоятельный предмет, так как мы не можем представить его себе зрительным образом», – так, в изложении современных толкователей, рассуждал Эпикур. Но Александр после писем поручика не представлял даже, а видел всё зримым образом. И время, его бесконечная, прошедшая часть, не было для него «бестелесным». Его окунули в историю, но он понимал, что его выбрали хотя бы и потому, что он русский. И почувствовал свою русскость как достоинство.
Историю они «сдавали» в университете, как бы понарошку. Смеялись в коридоре, понимая, что «история» стала вдруг никому ненужной. Преподаватель, у которого воротник пиджака весь был обсыпан перхотью, казался им досадной помехой к предстоящей жизни. Первой «прокололась» Пишина. Воздушная и летняя, она залетела в аудиторию с беспечностью бабочки. И к столу преподавателя припорхнула легко и непринуждённо. Её родители уже давно и удачно что-то приватизировали. Поездки: зимой – на Мальдивы; летом – на Кипр и в Испанию, – расслабили Пишину настолько, что она и забыла, где находится. Навалилась огромным декольте на стол, обнажив до ежевичных сосков, грудь.
– Выйдите и оденьтесь! – сказал преподаватель.
Саша наблюдал за происходящим, расслабившись. Пишина выбежала в коридор, но даже здесь, в аудитории, был слышан её голос.
– Девки, дайте лифчик! – вошла – сама девственность. И начала пороть такую чушь, что Саше стало стыдно за всю группу.
– Вы понимаете, о каком времени говорите!? – остановил её преподаватель. – Как в тридцатые годы Ленин мог оценить эти события? Он, в каком году умер? – вопрос был проходным, не требующим ответа, но Пишина сморозила:
– В тридцать девятом.
Преподаватель снял пиджак, подошёл к окну и тихо выдохнул:
– Вон!!
А следующим должен был отвечать Саша. Остальные распластались по столам, словно блины по сковородкам. Он и перепутал-то в масштабах истории всего ничего: года два-три. Не мог воспринять то время, «период мирного вживания кулака в социализм». Никого из родни в классе «кулаков» не просматривалось. Сидел, рассуждал о сталинских послаблениях, об идиллиях крестьянских перевоплощений.
Преподаватель, вдруг, неожиданно, резко – рванул на груди рубаху, обнажив немощное тело.
– Вот оно, ваше «мирное вживание»!! Одна пуля навылет, другая – до сих пор сидит во мне! – и эти раны были его памятью и его прожитым временем.
Тогда хватило ума извиниться. Хотя бы за недопонятый предмет.
Сейчас существовало ещё одно письмо, которое, наверное, объясняло если не всё, то многое. По крайней мере – появление в Италии сеньора Марчелло, но Саше казалось, что это уже какое-то иное повествование. Тем более, что сеньор Марчелло смотрел теперь на него внимательным отцовским взглядом, словно оценивал произошли в Саше какие-нибудь перемены или нет. Да ещё сказал по-итальянски фразу, которую Саша не сразу смог и перевести.
– Дети – воплощённое прошлое отцов, которое им хотелось бы кое в чём поправить, – и замолчал надолго.
Конец первой части
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?