Текст книги "Председатель"
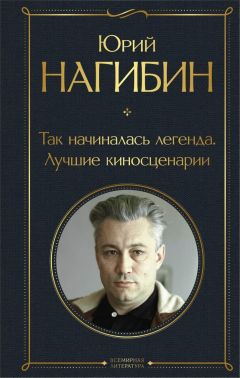
Автор книги: Юрий Нагибин
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Хмель заплетал ей ноги, швырял из стороны в сторону, она падала, подымалась и вновь начинала свое бессмысленное кружение. Настеха не заметила, как перевалила через кювет, продралась сквозь колючий кустарник, оставив на ветках клочья одежды, и оказалась на большаке. Смутно сквозь затуманенное сознание в нее проникло ощущение горькой обиды. Из-под косынки, туго перехватывающей ей глаза, выкатывались слезы. Она ловила руками воздух, и жалко выглядела эта слепая, нелепая погоня за несуществующим.
Но вот руки Настехи, обнимавшие лишь пустоту, сомкнулись на живом теле человека. Прохожий остановился на дороге, чтобы прикурить из горсти. Занятый своим делом, он не заметил приближения девушки.
– Попался! Попался! Не уйдешь! – закричала с бедным торжеством Настеха. – Ты кто такой? Ты не Жан… не Васька… не Павлик… – Ее руки трогали грудь и плечи прохожего, поднялись к его лицу, коснулись губ, щек, скул. Настеха слабо, смертно охнула и отстранилась. – Господи!.. – произнесла она и стала валиться на землю.
Прохожий человек удержал Настеху, он сорвал с ее глаз повязку, и девушка увидела возле своего лица загорелое, возмужавшее лицо своего суженого Кости Лубенцова.
– Пришел!.. – сказала Настеха и заплакала…
…Медный свет близящегося к закату солнца стелется по стерне скошенного клевера, по валкам еще сыроватого сена, которое бабы ворошат граблями. Сеноуборочная в разгаре. Хотя колхоз обогатился мужским поголовьем, фигуры, оживляющие пейзаж, все те же: бабы, девки, два-три деда. Некоторое разнообразие вносит лишь Костя Лубенцов, работающий бок о бок с Настехой.
Действуют бабы старательно, но без обычного огонька. То одна, то другая вдруг станет, опустит бессильно грабли и потянется сладко, всем телом, как с недосыпа И частенько поглядывают бабы из-под ладони на солнце: мол, скоро ли загорится вечерняя заря – предел долгого-предолгого страдного дня?
Вот остановилась Марина и, закрыв глаза, с хрустом повела плечами и томно, сонливо улыбнулась не то воспоминанию, не то радостной думе вперед.
– Ходи веселей! – подогнала ее звеньевая Настеха.
Марина медленно открыла глаза. С ней поравнялась Софья и передразнила Марину. Обе молодые женщины понимающе рассмеялись.
– Гляньте, Петровна! – сказала Даша…
Краем поля в сторону деревни шли Надежда Петровна и Якушев.
– Так как же насчет второго плана? – спрашивает Якушев.
– Рано, дайте нам прежде с мужиками управиться.
– А что, все не работают?
– Какой там! Гуляют с утра до поздней ночи.
– Хотите, я с ними поговорю?
– Ну а чего вы им можете сказать?
– Найду чего… пристыжу.
– Зачем же их стыдить? Они кровь проливали, они смертельно устали на войне. Это понимать надо. И вообще, давайте условимся, товарищ Якушев: мы сами будем свои болячки лечить. Народ не кобель, чтоб его носом в лужу тыкать!
– Вечно вы из-под меня почву вышибаете! – полушутливо-полусерьезно сказал Якушев.
– А по-моему, наоборот: я стараюсь вам жизнь облегчить. Ну чего вы, что ни день, сюда повадились? Нешто мы дети малые, своим умом жить не можем?
– Да ведь с меня тоже требуют!..
– То-то и оно! – вздохнула Надежда Петровна. – Мой дед извозом на Курском тракте занимался. Он рассказывал: попадется, бывало, нетерпеливый седок и ну деда по шее лупить! Дед вызверится и давай лошадей охаживать. Так и мчатся: седок – деда, дед – лошадей, а лошади что?.. Лошади свое нутро тратят, перегорает в них сила, случалось, околевали прямо на скаку. Разорился дед…
– Мрачная притча!
– Не притча – правда! Колхозники – самые незащищенные люди. С рабочим не помудришь – взял расчет и на другой завод подался. Профсоюзы опять же… А колхознику куда деваться? Он к земле прикован, у него и паспорта нету, попробуй уйди! И оттого иному дуролому кажется, что нет никакого предела давильне. Еще поднажми, еще сок выдавишь – ан, то уже не сок, а кровь!.. Вот вы второй план с нас требуете. Знаю, нужно дать, такое сейчас положение в стране. Но как бы это сделать, чтоб поменьше людей ущемить, чтоб не обманом, не давильней это получилось, а по сознательности, по сердцу? Иначе на другой год не то что двух планов – одного не сробят. Филон начнется, как при немцах. Все в поле, а работы нет. Сельское дело – нежное, боже упаси его силой ломать. Не то что человек-труженик – сама земля обидится, перестанет рожать… А у нас к тому же лишняя трудность – наши почтенные мужички. Вон – гляньте!..
Последнее восклицание относилось к Жану Петриченко, на рысях спешившему в сельмаг с авоськой, полной пустой посуды…
…Сельмаг. Заведующий в грязном фартуке и донской папахе наваливает на прилавок гору различной снеди.
– Осетринки маринованной не будет, пойдет тюлька в томате.
– Давай тюльку, – соглашается Василий Петриченко, красный, разомлевший от затяжной пьянки.
– «Казбек» кончился, могу предложить «Беломор».
– Ты бы еще «Прибой» или «Волгу» предложил! – презрительно говорит Василий.
– Завтра обеспечим «Казбек»! – с готовностью говорит заведующий.
Василий кидает на стол деньги: «Сдачи не треба!» Забирает в кошелку водочные бутылки, консервы и прочую снедь, идет к выходу. В дверях сталкивается с Жаном.
– Коль мужики еще с недельку так погуляют, – шепчет завмаг продавцу, – выполним квартальный план. А ну-ка, – заметил он нового посетителя, – обеспечь подкрепление.
Жан подошел к завмагу, шмякнул авоську на прилавок, огляделся.
– Реализуем, папаша, чудные дамские часики системы «Омега»?
– Это как понять – «реализуем»?
– Культурное, заграничное слово! У них, понимаешь, есть деньги – «реалы» называются. Получил за товар деньги – значит, «реализовал». Реализуй мне две косых и забирай эти чудные часики на шестнадцати камнях.
– Ну-ка, покажи…
…Гуляют конопельские мужики. Фарсовито, истово, без суеты и спешки. В разных концах деревни могучие, промытые «Демченкой» и «Особой московской» глотки исторгают лихие и грустные песни. Звучат и неизбывные «Степь да степь кругом», «Молодая пряха», и «Крепка броня», и «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». На всех кавалерах – галифе, суконные кителя и воинские фуражки; подворотнички сверкают белизной, сапоги надраены до зеркального блеска.
С поля устало возвращаются бабы. Проходят мимо пирующих фронтовиков, умиленно прислушиваясь к пению, в котором основной упор делается на громкость.
– Мой-то, ну чисто Лемешев! – глядя на широко открытую пасть Василия, умиляется Софья.
– Уважаю мужские голоса, – заметила Марина, – не то что наша бабья визготня.
– Красиво гуляют! – присоединила свой голос Комариха…
– Нет, вы как клали? У вас кирпич с кирпичом не сходится! – орет Надежда Петровна, выстукивая новую печь в зимнем птичнике.
Перед ней в испачканных известкой фартуках стоят Матвей Игнатьевич и Матренин муж по кличке Барышок. Мастера исполнены чувства собственного достоинства, чуть презрительной обиды, но отнюдь не смущены и не подавлены упреками председательницы.
– Нешто может баба понимать в печах, а, Матвей Игнатьич? – говорит Барышок, разминая в пальцах папироску.
– Никак не может, – степенно отвечает Матвей Игнатьевич.
– Вот что, – устало говорит Петровна, – разбирайте эту печку к чертовой матери!
– Сроду этого не было, чтоб разбирать, – не теряет спокойствия Матвей Игнатьевич. – Не хотите платить – не надо. Мы как старые члены партии проявили сознательность, вышли на работу, а терпеть издевательства неумной женщины не намерены.
В дверях и проемах окон птичника показались встревоженные лица женщин: Анны Сергеевны, Матрены, Марины, Софьи и других, привлеченных сюда громким голосом председательницы.
– За такую работу гнать бы вас из партии! – с горечью произнесла Петровна.
– Ты, Надежда Петровна, привыкла бабами верховодить, – сказал Барышок, – а с нами номер твой не пройдет. Мы войну сделали, знаем, что почем.
– Войну вы сделали – честь вам и хвала. Но неужто вы на войне работать разучились? Ты мне так клади: где дырка, там глинка, где бугорок, там молоток! – И Надежда Петровна вышла из птичника.
– Чего ты на мово-то кинулась? – обиженно сказала Анна Сергеевна. – Он хоть на работу вышел…
– Подумаешь, герой! Может, ему за это еще в ноги кланяться?
– Кланяться нечего, а другие мужики вовсе филонят. Только и знают, что водку дуть да песни играть.
– Мой Василь надысь междурядья перепахивал, – заметила Софья.
– Да, – подхватила Анна Сергеевна, – борозду пройдет и ну дымить! Две цигарки искурит, тогда дальше ползет.
– Он контуженый, – потупилась Софья, – ему табак для головы полезен.
– Хорош контуженый – бугай бугаем, а такой куряка – не приведи господи!
– Ну а Маринин Жан вовсе на поле носа не кажет! – обиделась Софья.
– Да что Жан – один, что ли? – вступилась за мужа Марина.
– А ведь правда, бабы! – вскричала Матрена. – Мы горбину гнем, а мужики наши, словно панычи. Зажрались, аж лоснятся. Капризничают – того им подай да этого!
– Я б в охотку! – от души сказала Софья. – Я все для него рада, лишь бы работал как человек.
– Хотите, бабы, чтобы они фасон свой бросили, за работу, за дело взялись? – сказала Надежда Петровна.
– Ой, помоги, Петровна!
– Пускай каждая сама себе поможет. Посуровей с ним будь, лиши его ласки, не охаживай да не обслуживай. Удивится – поясни; мне, скажи, нужен муж, друг, работник, хозяин, а не всадник-нахлебник.
– Ой, не знаю, бабоньки! – вскричала Софья. – Может, и хорош совет, а только мой Васька глянет – и нет моей воли.
– Смотри, Сонька, уговор общий. Не подведи! – сказала Настеха.
– Ты в бабье дело не лезь! – прикрикнула на нее Марина.
– Это почему же? – растерялась Настеха.
– А кто ты есть? Не девка, не баба, ни богу свечка, ни черту кочерга…
– Молчи ты! – остановила Петровна. – Вот кончим сеноуборочную – и справим Настехину свадьбу. Ну что, бабоньки, принято условие?
– Принято!.. Принято!.. – отозвались бабы, кто с задором, кто в сомнении, кто с явной неохотой.
– Не знаю, как другие, а за себя я ручаюсь, – твердо сказала Комариха…
…Со страшным грохотом летит с печи престарелый супруг Комарихи. Он падает на поленницу, разваливает ее и остается бездыханным.
– Говорила тебе: нельзя! – свесила с печи седые космы Комариха. – Ты живой там? Эй, дыши, старичок!
– Подсоби! – слышится слабый голос. – Я в дежу угодил…
– Не пущу, – тихим, жалким голосом говорит Софья, – право, не пущу. – В длинной ночной рубахе она припала к двери, ведущей из горницы в кухню.
Василий с другой стороны дергает дверь так, что дрожит изба и сыплется пыль с притолоки.
– Детей разбудишь… Не мучай ты меня, – просит Софья, – ступай на сеновал, там постелено.
– С последнего ума спятила? – рычит Василий.
– Замучил ты меня, мочи нет. Не пущу, вот те крест, не пущу! – рыдает Софья…
…У Настехиной хаты идет тихий ночной разговор. Настеха, в спальной рубахе, облокотилась о подоконник. Снаружи, возле окна, стоит Костя Лубенцов в накинутой на плечи курточке.
– Когда поженимся? – спрашивает Костя.
– Нешто мы не женаты?
– Я по закону хочу.
– Ишь какой законник… Я тебя мало знаю.
– Чего меня знать-то? – простодушно сказал Лубенцов. – Я весь на виду.
Глаза Настехи потемнели.
– А может, я не вся на виду. Много ли ты про меня знаешь?
– Чего б не знал, моего к тебе ни убавить, ни прибавить, – серьезно сказал Лубенцов. – Я с тобой без остаточков.
– Ой ли?.. – Какая-то хрипотца в Настином голосе. – Хватит болтать! И вообще, иди отсюдова. Нам запрещено с вашим братом водиться.
– Что так?
– Карантин.
– Нет, правда?
– Проучить вас надо, чтоб работали!..
– Это я-то не работаю?
– Ты у меня, Костя, золото. Но только давай от ворот поворот, нечего нам баб дразнить.
– Поцелуй, тогда уйду.
В этом Настя не могла ему отказать…
…У деревенского колодца толпятся с ведрами мужики. По утренней улице идет злой, непроспавшийся, но обуянный какими-то соображениями Жан. Он видит столпившихся у колодца и судачащих мужиков, и высокомерная улыбка змеится по его тонким губам. Это не остается незамеченным.
– Ишь, задается! – говорит Василий. – Чего-то он надумал!..
– Братцы, сколько энтот Жан барахла привез, и-их!.. – восторженно ужасается подошедший с ведрами Барышок.
– Ты почем знаешь?
– Одних часов – сто пар, а браслетов, бусиков, колец – сосчитать невозможно!..
– Точно! – подхватывает рыжий парень. – Мне намедни Францев с Выселок стренулся. Они с Жаном вместе в Берлине были. Так он говорит… – Рыжий таинственно понизил голос, и все дружно посунулись к нему, чтобы, упаси боже, не пропустить интересную сплетню.
– Други, – говорит Матвей Игнатьевич, – а вам не кажется, что мы хуже баб стали? Чешем языками, как заправские кумушки…
…Жан приближается к ручью, обтекающему деревню за огородами.
Под сенью ив расчесывает мокрые волосы конопельская Манон – Химка. Короткий сарафанчик плотно обтягивает ее влажное тело.
– Химка, – проникновенно сказал Жан, – пойдешь со мной в рощу?
– Дядя Жан, нешто вы с утра закладываете? – Из-под красноватого полога волос заинтересованно проглянул темный Химкин глаз.
– Хочешь, дыхну?
– Верю! Верю! – поспешно сказала Химка.
– Ну пойдем, я тебя отблагодарю.
Химка чешет волосы, не обращая внимания на Жана.
– Убудет тебя, что ли? – обиделся Жан. – Одним больше, одним меньше – какая разница?
– Сроду с женатиками не гуляла, – последовал ответ.
– Я все равно что холостой, жена отставку дала, – с наигранной горечью сообщил Жан. – Слушай, Химка, я подарю тебе чудные швейцарские часики.
– Какие?
– Фирма «Онемаханизмус»…
– Без механизма, значит?
– Почем ты знаешь?.. Да нет, в них все чин чинарем. Шестнадцать камней. Это только название такое, потому облегченный механизм.
– Дядя Жан, катись-ка ты отсюда, не то тетке Марине скажу.
– Тоже мне невинность! – разозлился Жан и, наподдав сапогом Химкины тапочки, пошел восвояси…
…На колхозном базу конюх проваживает Эмира, чудо-жеребца чистейших орловских статей. Надежда Петровна любуется дивным конем, словно выточенным из цельной черной кости. Эмир дышит из ноздрей сухим жаром, скашивая на председательницу диковатый, настороженный зрак.
– Рацион строго соблюдаешь? – спрашивает конюха Петровна.
– Обижаешь, Петровна! Я, бывает, сам не пожру, но Эмир у меня завсегда обухожен.
Петровна хотела еще что-то спросить, но тут внимание ее было властно отвлечено. К базу подходил глубокий овраг, густо заросший травой и полевыми цветами: ромашкой, резедой, колокольчиками. По отлогой пади оврага ползал Софьин муж Василий и собирал цветы. Петровна устремилась к оврагу.
– Ты что, Василий? – крикнула Петровна. – На подножные корма перешел?
Василий не ответил, только спрятал за спину букет.
Надежда Петровна приблизилась к нему.
– Никак сударушку завел? Так Софье и передам.
– Для нее и рву, – буркнул.
Чувствуется, что Надежду Петровну прямо-таки разрывает от смеха, но она сладила с собой и – сочувственно:
– Нешто она к вам охладела? Давайте я вам букетик составлю, а то у вас между цветами лошадиный клевер торчит.
Обалдев от срама, Василий сунул ей букет. Петровна быстро подобрала его по цветам, сорняк повыдернула.
– Может, вам с гитарой у ней под окнами посидеть? Женское сердце на музыку падкое. Да и детишкам вашим будет занятно.
– Хватит насмешничать…
– А я не насмешничаю. Я к тому, что травка тебе не поможет. Вспомни лучше, каким ты раньше плугарем был, каким чертом был на работе. Тем и взял ты Софьино сердце.
Василий не отличался особой сообразительностью, но тут его осенило:
– Так это ты, значит, бабу с панталыку сбила?
И сжал букет, как топор, вот-вот ахнет Петровну по голове. Но и та зашлась, ей сейчас все нипочем.
– Нишкни, лодырь! На твою бабу молиться надо. Она по шестнадцать часов робила, траву жрала, чтоб детей твоих сохранить. Ангел она, а не баба. А ты ряшку разлопал, а робишь, будто поденный. Ей бы гнать тебя в шею, Аника-воин!.. – размахивая кулаками перед самым носом Василия, орала разбушевавшаяся председательница…
– Ну-ну, ты полегше… – отступая, бормотал Василий…
…По улице идут Якушев и Надежда Петровна. Якушев громко, заразительно смеется.
– Неужто помогло? – спрашивает он сквозь смех.
– А как же!.. Конечно, не то помогло, что почти в смех задумано, – совесть в мужиках заговорила.
– Знаете, Надежда Петровна, – закуривая, сказал Якушев, – а ваш метод уже известен в истории. Была такая древнегреческая дама Лисистрата. И она предложила своим согражданкам объявить любовный бойкот мужьям, если они не перестанут воевать.
– Когда это было? – остро спросила Надежда Петровна.
– Да более двух тысяч лет назад.
– Bo-на!.. И помогло?
– Еще как!
Надежда Петровна чуть задумалась, потом сказала с торжеством:
– И ничего похожего!.. У них – война, а у нас – мирный труд. Совсем, значит, наоборот… А все ж ки эта твоя, как ее?.. Лизасрата – умная баба! Я бы ее к нам в правление взяла.
Мимо проходит Жан, небрежно здоровается и подымается на крыльцо сельмага.
Сельмаг. Заведующий в грязном фартуке меланхолически озирает полки, тесно заставленные бутылками и дорогими папиросами. Берет пачку «Казбека», раскрывает ее, нюхает.
– Так и есть – заплесневели, – уныло говорит он.
Жан кидает на прилавок мелочь.
– Спички!
Завмаг с понурым видом кладет перед ним пачку спичек. Жан пытается прикурить, спички шипят и гаснут.
– Отсырели, не горят.
– Зато мы горим, – тяжело вздохнул завмаг, – горим, как шведы под Полтавой.
Жан окинул взглядом магазин и понимающе присвистнул.
– Подорвали бабы нашу коммерцию. Слушайте, товарищ Жан, а вы не возьмете назад свои часики? Шестнадцать камней.
– Не дешевись! – презрительно сказал Жан. – Еще не вечер. – Он наклонился к завмагу. – Ты что, твердо решил сгноить весь табачок?
– А что с ним делать? Не берут.
– Что делать? Ребята, инвалиды войны, герои, мучаются, где бы раздобыть папирос для штучной продажи, а он тут дерьмо в слезе размешивает! Да в Судже, в Рыльске, в Льгове, в самом Курске твою плесень с руками оторвут!
– Так ведь туда ехать надо, а на кого я магазин брошу?
– Съездить можно… – тягуче и равнодушно сказал Жан.
– Товарищ Жан, пройдем в кабинет… – попросил завмаг…
…Возвращаются с поля колхозники. Видать, крепко устали: чуть не на версту растянулась полеводческая бригада, идут в тишине – ни разговора, ни песни, ни шуток. Поравнялось с конторой звено Настехи. Из окошка высунулась Надежда Петровна, зыркнула рысьим взглядом.
– Опять Жан не вышел?
– Опять.
– Хватит с ним цацкаться. Сколько у него прогулов?
– Вся неделя.
– Штрафуй – и баста!
Ничего не подозревавший Жан спокойно покуривал на крылечке своего дома, отдыхая от трудов неправедных.
– А Марина чего не идет? – поинтересовался Жан.
– Идет… маленько отстала, – отозвалась Настеха. – Завтра с утра отнесешь в контору двести рублей штрафу.
– Не жирно будет? – думая, что с ним играют, беззлобно огрызнулся Жан. – Может вытошнить!
– Ничего не попишешь – систематические прогулы.
– В каких купюрах платить – в крупных или мелких? – резвится Жан.
Подошла огорченная и разозленная Марина.
– Думаешь, она шутит? – завела на высокой ноте. – Здесь так положено!
– Нет такого закона, – сказал Жан, все еще пребывая в странной беспечности.
– А у них есть! – бессознательно отделяя себя от колхоза, крикнула Марина.
– Вы что?.. – побледнел Жан. – Ты что?.. – Он с ненавистью поглядел на звеньевую. – Сдурела, зараза? Да я за двести рублей горло перегрызу. Катись отсюда, не то всыплю горячих – небось срамотно будет!
– Но-но, полегче! – сказал Лубенцов и загородил собою Настю.
– Ты кто такой? – Жан встал, одернул рубаху. – Ты-то чего лезешь?
– Не встревай, Костя, сами разберемся, – сказала Настеха. – А штраф платить придется.
– Поговори еще, фрицев матрас!
– Сволочь! – Кулак Лубенцова обрушился на челюсть Жана. Тот упал, сильно приложившись затылком о ступеньки крыльца.
– Чего дерешься, дурашлеп?! – яростно закричала Марина – Правда глаза ест? Хошь не хошь, а невесточка тебе досталась с брачком! С фрицевой зазубриной!
– Настя!.. – беспомощно сказал Лубенцов. – Настя, чего она?!..
Странная полуулыбка забилась на лице Насти.
– Вишь, молчит! – с торжеством сказала Марина. – Не может соврать перед народом! – Опустившись на корточки, она пыталась поднять Жана.
– Настя!.. Ну чего ты молчишь?.. Настя!.. – потерянно бьется голос Лубенцова.
Он оглядывает людей, ищет у них защиту Насте, но люди отводят глаза, не зная, как объяснить внутреннюю неправду позорного обвинения. Лубенцов понимает это по-своему, лицо его становится жалким, потерянным.
– Настя, как же так?..
– А вот так! – звонко сказала Настя, повернулась и пошла.
Заплакал бывший танкист и, как был, не разбирая дороги, через буерак, потащился вон из деревни.
Жан очухался, сбегал в сени и вернулся с колуном.
– Где он, сволочь? Я его обрублю!
– Ты уже его и так обрубил… да и ее тоже… – с печалью и презрением сказал Василий.
– Ищи ветра в поле! – добавил кто-то.
И люди видят, как Лубенцов, выйдя на большак, остановил полуторку и перевалился в кузов.
– Сука ты, Жан! – сказал Василий.
Жан замахнулся колуном. Василий без труда обезоружил его и зашвырнул колун в палисадник. Оттуда с квохтаньем выскочила наседка. Все дружно проследили за рябой курицей, которая, взмахивая крыльями и теряя перышки, перебежала улицу и юркнула под створку ворот. Люди чувствовали какую-то свою вину в случившемся, но не знали, как поступить, и потому цеплялись за мелочь внешних впечатлений.
Беда, как предгрозовой ветер, захлопала створками окон, дверьми, калитками, заметала по улице бабьими подолами, и не узнать, кто первый крикнул тут же подхваченное всеми:
– Настеха повесилась!..
…Казалось, Надежда Петровна спокойна до бесчувствия, если б не тяжкая, страшноватая краснота в лице; кровь вздула вески толстыми венами, налила выкатившиеся из орбит глаза. А голос звучал деловито и ровно, когда, быстро шагая деревенской улицей, она выспрашивала у Анны Сергеевны:
– Кто ж первый обнаружил-то?..
– Дуняша. Она сразу почуяла недоброе – и за Настехой… Прибежала, а та уже распорядилась. Дуняша, молодец, схватила косу и обрезала гужи…
– Настеха не поуродовалась?
– Маленько шею ободрала.
– Плачет?
– Нет, молчит.
– Это плохо, надо, чтоб плакала.
… – Что же ты наделала? – сказала Надежда Петровна непривычно маленькому Настехиному лицу, потонувшему в подушке. – Ты же не себя казнила, ты всех нас казнила, а лютей всего Дуняшу и меня. Жестоко это, Настя…
Лицо молчит, хотя глаза открыты, не понять, доходят ли слова председательницы.
– Нельзя так, Настя… Из-за подлости мелкой шушеры губить такое чудо чудное, как жизнь!..
Лицо молчит.
– Ведь ты любишь Костю. Разве его тебе не жалко? Думаешь, стал бы он жить, когда б ты в своем зверстве успела?
Лицо плачет.
Надежда Петровна сразу вышла из горницы. Конюх и тренер держат Эмира, запряженного в легкий шарабан.
– Загубишь коня, Петровна, – с тоской говорит тренер.
– А хоть бы!.. Это всех коней дороже! – Петровна забралась в шарабан, взяла волоки, кнут. – А ну, пускайте!..
Конюх и тренер рассыпались по сторонам. Эмир повелся в оглоблях, чуть осадил, всхрапнул и полетел.
– Быть ей без головы! – сказала Комариха.
Осталась позади деревенская улица, сивый старик сторож едва успел откинуть околицу, и шарабан вынесся на большак.
Густая пыль, позлащенная идущим под гору солнцем, скрыла шарабан, а когда он вновь возник, то под ошинованными колесами дробилась щебенка шоссе.
Деревянный мосток кинулся под ноги коню, мягко прогрохотал гнилыми бревнами, будто сыграл какую-то мелодию, и часто забисерил гравий о днище шарабана. Широко, мощно шел Эмир, подлинно «холсты мерил», и не сбился гордый конь с рыси, когда Петровна круто завернула его на целину.
По скошенному клеверищу и пару ровно прошел шарабан, а затем началось дикое поле, поросшее колокольчиками и ромашками, а в цветах скрывались серые лобастые камни – знаки ледового плена земли. Объехать их не было возможности. Шарабан резко подкидывало вверх, заваливало набок. Петровна держалась в нем лишь весом грузного тела да злостью. Стоило Эмиру раз сбавить скорость, как она вытянула его кнутом, и оскорбленный конь понесся вперед, грудью рассекая цветы и рослые травы.
Поле пошло оврагами, балками. Упряжка то скрывалась из виду, то над краем пади возникала узкая голова коня. Они пронизали березовую рощу, ободрав ступицами колес белые стволы, и вымахнули на асфальтовое шоссе под носом у полуторки. Впереди уже виднелись железнодорожные постройки и печально сигналил маневровый паровозик.
Костя узнал председательницу и, не раздумывая, на всем ходу выпрыгнул из кузова. Он упал, больно ударившись об асфальт, вскочил и побежал к ней.
Надежда Петровна уже сошла на землю и оглаживала взмокшую морду Эмира.
– Сядь, – сказала она Косте.
Он покорно сел на краю кювета, она тяжело опустилась рядом.
– Слушай: была девочка, был парень, дружили. И вся деревня, как положено, дразнила их «жених и невеста». Парня взяли на финскую, и он замерз у погранзнака «666», легко запомнить. Девочка подросла, стала девушкой, полюбила хорошего человека. Он ушел на Отечественную. Через неделю ей доставили похоронную… Потом другую пару дразнили «жених и невеста», и немецкий солдат хотел эту «невесту», девочку, ребенка, чести лишить. Чтоб спасти ее, Настя себя, как кусок мяса, тому солдату кинула. Нынче девочка Насте долг вернула – вынула ее из петли.
– Как?! – Он схватился рукой за горло.
– Так вот, Костя Лубенцов, чистенький мальчик… Ну куда тебя везти: на станцию или?..
Он только мотнул головой, говорить не мог…
…Ухает, стонет над деревней чугунное било, как в старь, как в самые трудные для конопельских людей времена.
В паузах между ударами слышится надсадный рев дизельных моторов.
– Зачем они так колотят? – больным голосом спросила Настя сидящую у ее изголовья Комариху.
– Народ на правеж собирают, – отозвалась старуха. – Обидчиков твоих судить.
– К чему?.. Не нужно… Что мне до них?.. – Настя зажала уши.
– Нужно, девушка, нужно! – сказала Комариха – Не ради тебя, а ради всех это нужно…
– Ну, иди! – говорит Надежда Петровна Лубенцову, остановив запаренного коня возле Настиного дома. – Сам иди… Может, она тебя и не выгонит. Я бы выгнала, а она – добрая душа… Ступай!
Лубенцов медленно идет к дому, подымается на крыльцо, толкает дверь. Надежда Петровна следит за ним с напряженным лицом. Проходит несколько пустых секунд, затем дверь распахнулась, и вышла Комариха. Старуха перекрестилась и торопливо зашагала в сторону набатного звона.
Надежда Петровна глубоко вздохнула, зашла к голове коня и поцеловала его в большой лиловый глаз.
– Прости, Эмирушка… вишь, не зря…
…Все конопельцы, от мала до велика, запрудили деревенскую площадь. Замолк чугунный рельс, и над затихшей площадью звучит голос Надежды Петровны:
– … когда вы землю нашу врагу отдавали, когда вы драпали от немецких танков и пехоты, разве сказала хоть одна русская женщина слово упрека солдату? Когда вас, пленных, рваных, чуть не голых, через деревни гнали, нашлось ли хоть у одной женщины недоброе или насмешливое слово? Нет. Мы вам хлеб выносили, молоко выносили. Нас штыками кололи, прикладами били, а мы все равно вам служили. Вы нас немцам в добычу оставили, а мы ваше место берегли, детей ваших берегли, себя для вас берегли до последней человечьей возможности. Что нам на долю выпало, то вам не снилось. На войне один раз убивают, а нас каждый день убивали. И никто нам не судья. Насте подвиг ее святой грязью обернулся, гибелью сердца обернулся, петлей обернулся. Но ты, гнида куриная, Жан Петриченко, не одной Настасье – всем русским женщинам в душу нагадил и мужскую честь в дерьмо затоптал. Народ тебя приговорил, нет тебе пощады. Да будет всем неповадно на горькой нашей земле какой ни на есть малостью женщину попрекнуть!..
– Помилуйте, люди добрые!.. – раздался звенящий крик Марины.
Она билась в руках односельчан. Рядом, бледный в черноту, молча извивался в железных тисках Василия ее муж Жан.
– Давайте, ребята! – крикнула Крыченкова.
Взревели моторы, толпа расступилась. Дом Марины и Жана опетлен толстой, витой железной проволокой по оконницам, стойкам крыльца, балкам, поддерживающим кровлю. Свободным концом каждая проволока прикреплена к тракторам, пне-корчевателю, грейдерной машине. По знаку Надежды Петровны машины двинулись. Рухнули стойки крыльца, зашатались стены, поползла соломенная крыша сарая.
Надежде Петровне показалось, что один из трактористов недостаточно радив, она согнала его с трактора и сама села за штурвал. Задним ходом наезжала она на дом, ударяла в него тяжелой массой трактора, а затем мощно рвала вперед. И дом начал поддаваться по всему своему составу, и многие в толпе, не выдержав, отводили взор, зажимали уши, чтоб не видеть, не слышать смерти дома.
Под дикие вопли Марины, матерный лай Жана рушилось, уничтожалось крестьянское жилье с большой русской печью, клетями и подклетями, чуланами и сусеками. Страшновато обнажалось мудро устроенное нутро дома.
Но вот рухнула крыша, повалились стены, взмыла густая пыль, и все было кончено.
Подкатила поганая телега, на какой возят назем, скупо выстланная соломой. Туда посадили полумертвую Марину, втолкнули Жана, затем им подали завернутую, в одеяло, сонную, ничего не ведающую дочку. Старик сторож подобрал вожжи, причмокнул и, шагая рядом с телегой, повез семью Петриченко прочь из родной деревни…
…Полдень. Краем деревни идут Надежда Петровна и Якушев, одетый по-дорожному.
– Неужто вас из-за меня сняли? – похоже не в первый раз спрашивает Надежда Петровна.
– Надо же кому-то отвечать… – пожал плечами Якушев. – Но сняли меня не только за это, а по совокупности: и со вторым планом не проявил я должной твердости, и вообще сею гнилой либерализм.
– Что же с вами теперь будет-то?
– Учиться посылают.
– Надо же! Так, глядишь, до яслей дойдете!.. Ну и как, научат вас «должной твердости»?
– Не думаю, – улыбнулся Якушев. – Я многому у вас научился, Надежда Петровна, – сказал он тепло. – Меня не столкнешь на такой путь. Сельское дело – нежное, а колхозники – самые незащищенные люди, так вы говорили? Я этого никогда не забуду. Да и вас я никогда не забуду…
Они остановились у околицы.
– Спасибо, – сказала Надежда Петровна. – Коль мы расстаемся, могу вам признаться: я вас тоже помнить буду. Благодарна я вам. Не только за то, что защитили, а что открыли вы мне мое живое сердце. Ничего у нас с вами быть не могло – тому и живые и мертвые помехой. Но одному никто не помешает: буду я о вас думать, скучать, может, всплакну. А для меня это очень много, почти счастье.
– Спасибо, – хрипло сказал Якушев. – Не ждал я этого. Спасибо. И до свидания.
Он подал ей руку. Надежда Петровна притянула его за шею.
– Прощай, милый мой, жалкий мой человек! – И она поцеловала Якушева.
Он повернулся и, не оборачиваясь, быстро пошел по дороге. Она глядела ему вслед. Потом поднялась на бугор, где под рослыми плакучими березами зарастало бурьяном и лопухами заброшенное сельское кладбище. Отсюда она еще долго видела Якушева.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































