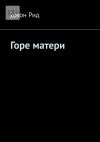Текст книги "Орбека. Дитя Старого Города"

Автор книги: Юзеф Крашевский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Она поглядела на часы.
– Постараюсь, – добавила она с хладнокровием, – остаться внизу полчаса, может, дольше… потом приду на верх, но тогда дверь должна быть уже забита, заклёпана.
Когда она это говорила, её глаза горели, она живо дышала, но страх уже прошёл, опасение убежало, была уверена в себе, поглядела в зеркало, почувствовала себя восхитительной. Набросила пурпурную шаль с пальмами на плечи, задержалась на минуту, думая на пороге, погрузив голову в ладони, и… пошла.
Орбека сидел ещё ошеломлённый, с дрожащими устами, на том самом месте, где упал, вернувшись сверху, когда в его дверь постучали, он ничего не услышал. Мира вошла и с прыжком бросилась ему на шею.
Её движения, физиономия так были пронизаны чувством, выражение лица столько имело правды, что нужно было, зная обстоятельства, склонить голову перед отличной актрисой.
Орбека, видя, что она направляется к нему, отскочил, точно увидел призрак, словно наступил на змею.
Мира остановилась.
– Что с тобой? Ты болен? – воскликнула она.
Валентин молчал, глядя на неё.
– Но объясни же мне, что это значит? Отступаешь от меня, когда я желаю вернуться к тебе? Молчишь? Смотришь, точно на меня гневаешься. Смилуйся!
– Что со мной? – выговорил Орбека, едва в состоянии произнести эти слова. – Что со мной?
И бросил ей ключ на стол.
Мира, точно ничего не зная, ни о чём не догадываясь, смотрела, мастерски разыгрывала остолбенение, удивление, жалость, словно над безумным. Не узнавала ключа.
– Что же это? Какой это ключ? Объясни же мне эту загадку? Орбека долго молчал, был смешан этим спокойствием.
Мира стала ближе присматриваться к ключу, ударила по карману и вдруг начала ужасно, чрезвычайно, несдержанно смеяться.
Она упала на кресло с этим смехом, прекращала смеяться, судорожный смех охватывал её снова, пыталась говорить – не могла, металась, топала, будто бы желала его обнять, но это превосходило её силы. Орбека смотрел, стоя, на неё, качающийся, неуверенный, начиная уже подозревать себя, что был сумасшедшим, что сошёл с ума. Смех внешне искренний, страстный, резкий, пустой разлетался по покою с выражением наивности и откровенности, по-настоящему мастерски подхваченными.
Наконец, заплакав от этого смеха, Мира начала говорить, но иногда пустое веселье ещё прорывалось.
– А! Теперь я уже знаю, что это значит, – сказала она, – я забыла дверь закрыть по невнимательности, ты пошёл, открыл вход в соседний дом, припомнил, что рядом как раз стоит шамбеляниц, и дьявол ревности схватил твоё сердце в свою когти! В самом деле, я могла бы возмутиться, серьёзно разгневаться навеки за такое какое-то странное объяснение вещей в самом невинном свете.
Орбека стоял, теряя самообладание.
– Откуда взялась эта дверь, сейчас тебе объясню, – говорила медленно Мира. – Ещё прежде чем шамбеляниц остановился в этом доме, раз были мы с судьёй К. в моём будуаре, для осмотра моего коврика для молитв, который как раз пришёл ко мне из Парижа. Я заметила, что староста на этот угол постоянно оборачивал глаза, подходил, приглядывался, наконец пальцами стены начал ощупывать. Меня это удивило, я пыталась расспросить; сначала он ничего поведать мне не хотел, выкручивался, баламутил, наконец, прижатый мной, он признался, что знал, что этот дом в бытность прошлого владельца имел проделанный из его кабинета, обращенного теперь в мой будуар, проход к пани С. Я не хотела верить, мы начали спорить. Судья упирался, мы побились об заклад. Но что же стало! Дверь существовала в действительности! Судья схватил раму и оторвал. Дверь была открыта. Я тут же, возмущённая, испуганная, послала в соседний дом, не желая тебе ничего о том говорить, и оказалось, что очень правильно.
Слушай же, ты можешь сам убедиться в том, что двери с той стороны нет вовсе, потому что без следа была замурована. Оставили её, видно, заклеив, с этой стороны, или из невнимательности, или из недостатка времени. Вот вся эта страшная история, из которой, может, кто-то что-то слепил, видя, что ко мне шамбеляниц рекомендуется!
А ты, – добавила она грустно, играя роль жертвы, – а ты… на малейшее подозрение, не имея никакой веры ко мне, несмотря на столько доказательств привязанности, подозреваешь меня сразу же в этой гнусной, чёрной, грязной измене! А! Это ужасно! Да, – воскликнула она яростно, – может, я это заслужила, принимая это положение, в котором нахожусь, но по крайней мере не от тебя…
Здесь, очевидно, подобало плакать, и Мира расплакалась. Орбека, самый счастливый из людей, упал у её ног, прося прощения, и примирение после некоторого сопротивления, гнева, упрёков, закончилось всплеском страстной нежности.
Орбека не пошёл даже наверх удостовериться в рассказе, прекрасная артистка слезами, выражением лица убедила его в своей невинности. Он сам был неблагодарен, он один виноват! Он преступник, что смел подозревать саму невинность!
Потом, зевая, пани вернулась на верх, где её ждала давно дремлющая Юлка, и велела раздеваться.
– Дверь забита, – шепнула служанка.
– Это хорошо, но видишь, даже этого было не нужно, это хороший, спокойный человек.
И рассмеялась сама себе, пожимая плечами, а служанка посмотрела на неё и ушла, с настоящим восхищением к начальнице.
ROZDZIAŁ IX
Назавтра Орбека, которому очень было важно, чтобы отмыть своё божество от несправедливых подозрений, сам побежал искать Славского, но дома его не нашёл. По городу крутился напрасно, судьба хотела, что не мог его встретить, вернулся поэтому домой, но торжествующий, весёлый, и не замечая даже с какой насмешливой миной смотрели на него люди. Хотя недавно Мира пережила такую грозную отповедь, даже ни на один день не изменила режима жизни, имела вчерашние обязательства, обещанные свидания, прогулки, обед, ужин, так что допоздна не было её дома. Возвращаясь, однако, наверх, она признала правильным на минутку своим присутствием прояснить келью отшельника. Вошла в неё вся благоухающая, лучистая, разогретая разговором и испарениями чужой весёлости, истинная вакханка, но очаровательная и весёлая. Она бросилась на чёрное кресло Валентина, жалуясь на усталость.
Он улыбнулся.
– Твоя это вина, – сказал он, – повторяю тебе это сто раз, а ты меня слушать не хочешь, рассеянная, на вид весёлая; жизнь, брошенная в добычу людям, счастья не даёт. Каждая из вас, когда устанет от безделья, думает, что этот свет зовётся развлечением, сумеет её насытить, но эта ваша забава есть как изнуряющий напиток, который пробуждает ещё большее желание…
– Потому что ты мужчина!
– С этой точки зрения каждая из вас может быть мужчиной, – говорил Валентин, – но нужно подумать и поверить, что в глубине того, что вам кажется развлечением, только бесцельность и пустота, а в это как раз поверить не хотите. Я иначе понимал жизнь, где-то в стороне, в тишине, жизнь вдвоём с искусством, с книжкой, с природой… Но ты, ты в этой жизни уже не выдержала бы долго, у тебя привычки.
– Да, признаюсь, я имею плохие привычки, а ты знаешь, как человек легко их приобретает. Сама чувствую, что меня это не развлекает, не насыщает. Что же? Однако к этой нездоровой пище привыкли уста мои.
Орбека вздохнул.
– Выедем отсюда по крайней мере, – сказал он, – перестанут говорить. Подумают, что клевета.
Мира, которая была вполне сторонницей путешествий, заколебалась, что-то её, видно, в Варшаве задерживало.
– А! Не сейчас ещё, по крайней мере… не теперь… позже… поедем охотно…
– Как хочешь! – сказал послушный Валентин. – Видишь, что я не требовательный, и однако, позволь мне хоть раз похвалиться собой – трудно придумать более неприятного положения, чем моё. В собственном доме я как чужой и едва терпим, что-то наподобие невыносимой старой вещи, которую прячут за штору. Я почти никогда тебя не вижу, люди тебя крадут у меня, ты для всех целый день, для меня редкой минуткой, и то, когда устала и нуждаешься в отдыхе. Мне часто не разрешено показываться наверху, потому что есть тот или этот из гостей, в отношении которого моё присутствие было бы компрометирующим, впрочем…
Валентин замолчал. Мира была в течение какого-то времени немного обеспокоена, чувствовала справедливые побуждения этих упрёков, а не могла позволить, чтобы ей их делали. Измеряла только свою силу и мощь, чтобы спасительный оборот придать этой грустной речи; поскольку она ни в коем разе не хотела быть побеждённой и уйти без триумфа.
Её лицо несколько покрылось тучками, морщинками, грустью, туманом гнева, уста задрожали.
– Это правда, – отвечала она медленно, – ты рисуешь своё положение такими отчётливыми красками, что трудно не признать их правду. Это правда. Я так невыносима, что не могу изменить жизнь, ты такой бедный, что не хочешь к ней привыкнуть, стало быть, зачем тебе быть несчастным? Я на это не вижу иного спасения… только расстаться, да, расстаться.
Последнее слово она произнесла с отлично разыгранным чувством. Валентин, которому не пришло в голову, что она могла быть доведена до такой крайности несколькими словами, брошенными из открытого сердца, удивился и испугался.
Исподлобья кокетка мерила его косым взглядом, думая, покинуть ли опасное испытание, или продвигаться дальше до его края.
Орбека стоял, колеблясь только, как попросить у неё прощения; она заметила, что ничего не угрожало, и начала говорить дальше:
– Скажи только слово, завтра меня тут не будет, как птица потрясу крыльями и улечу… Я – твоя помеха, бремя, крах, увы! Я себялюбивая, недостойная… чудачка.
Говоря это, она встала. Орбека был всё более смешанный, хотел уже броситься к её ногам, просить прощения, когда Мира, рассчитав, что может растянуть сцену, а потом ею воспользоваться, вдруг встала, прикрыла глаза платком и выбежала, хлопая за собой дверью.
О, бедное ты, человеческое сердце! Не раз, не раз в жизни ты даёшь обмануть себя, чувствуя обман, так тебе нужны вера, надежда и любовь! А искать их где-нибудь в другом месте, как в человеческом сердце, не умеешь. Сто раз преданный, ты возвращаешься к тому высохшему источнику за новым мучением, которое есть новым удовольствием. Разум указывает тебе эту плохо прикрытую лохмотьями фальш, нагота которой светится через рваные дыры поношенного покрытия, и однако… идёшь как птица в силок неумелого ловца, который любовью вводит тебя в заблуждение.
Орбека остался внизу в отчаянии, Мира побежала к себе, мало обеспокоенная всей этой историей, потому что была слишком уверена, что она окончится её победой.
Едва она вышла, постучали… была это навязчивая Анулька, которая шпионила за болью бедного пана, из сострадания к нему, как муха, которая летает над огнём, когда в нём другая сгорает.
– Какой-то пан хочет увидеть вас.
– Какой это пан? – спросил Валентин, и сразу на мысль ему пришёл Славский.
– Просить его.
Дверь отворилась, это действительно был Славский, который, узнав дома, что его искал Валентин, думая, что нужен ему, немедленно прибыл. По взгляду он ни о чём догадаться не мог. Они подали друг другу руки.
– Я тебе нужен? – спросил он.
– Да, – ответствовал хозяин, – но по многим причинам… я хотел бы поговорить с тобой где-нибудь в другом месте… не здесь.
Славский с состраданием на него посмотрел.
– Капает дождь, – сказал он, оглядываясь.
– Зайдём, куда хочешь, – отвечал Орбека, – в первую попавшуюся кофейню или кабак. Пойдём.
Они немедленно вышли.
В Варшаве уже в то время расположение к игре в бильярд повлекло к основанию нескольких таких мест, в которых рядом с бильярдом были разные напитки и закуска. Не всегда, но иногда по какой-то случайности собиралось там и не совсем плохое общество, хоть по большей части такое, которое до высшего света столицы доступа не имело. Но случалось разное, потому что захмелевшие паны не очень обращали внимание, где потом докончить свои оргии. Иногда ради фантазии искали как можно более захудалые шинки – это принадлежало к элите и хорошему тону.
Недалеко от дворца Орбеки было как раз одно из самых приличных таких заведений, принадлежавшее услужливому итальитянцу, который – как говорили – умел понравиться разной молодёжи и старым, а был очень вежливый… Валентин со Славским вошли в боковой незанятый кабинет, примыкающий к главной зале, в которой было несколько довольно оживлённых групп, очень громко разговаривающих и смеющихся.
Орбека начал с точного повторения всего вчерашнего случая, разговора с Мирой, её прекрасной победы. Славский молчал на это… Позже приступил к сегодняшней сцене.
Для человека холодного, смотрящего на это сбоку и убеждённого в характере Миры, вся эта ловкая игра была открыта. Славский в ней читал, но должен ли был открывать глаза тому, кто их добровольно держал закрытыми?
– Я ничего тебе уже больше не скажу, – произнёс он после минуты раздумья, – я убеждён, что если бы ты застал у неё шамбеляница в необычную пору, а дверь открытою, ещё эта женщина смогла бы тебе объяснить, что она невинна, а ты преступник, она – жертва, ты – палач.
– Значит, ты не веришь? – спросил Орбека.
– Не верю, не обязательно из-за тех или иных более или менее дающих себя объяснить обстоятельств, – сказал Славский, – но так как знаю её прошлое, её характер…
– Но это была клевета, ты предубеждён.
– Окончим это, – прервал Славский, – прости, что побеспокоил, не о чем уже говорить… дело окончено.
Замолчали.
Судьба имеет порой странные фантазии. Среди этой минуты молчания из залы несколько раз послышалось громко, несколько раз повторённое имя Миры, фамилия Орбеки и шамбеляница. Валентин побледнел, хватаясь за стол. Славский, желая его избавить от напрасной досады, начал спрашивать, но Орбека подбежал к двери, приказывая ему молчать.
В зале мужской голос, немного хриплый, разглагольствовал, среди вторящих ему смешков… слова доходили до их ушей очень отчётливо.
– Есть же созданные на то люди, – говорил незнакомец, – чтобы их обманывали даже такие ветреницы, как та Мира, побелённая, раскрашенная, и уж, сказать по правде, не такая даже свежая и молодая, чтобы для неё по шею в грязь лезть хотелось. Я этого Орбеку не знаю, но это идиот, глупец, которого бы в дом сумасшедших следовало посадить. Что эта женщина с ним вытворяет! Шамбеляниц, который, несмотря на то, что влюблён, в смертном грехе бы проболтался, и не может сдержаться, чтобы не болтать, сегодня уже на ухо признался приятелям, что вчера дверь открыли, что ночью её замуровать должен был. Смеются, начиная от Бляхи до предместий все… а тот… добрая душа, просит прощения у своей Дульсинеи за неслыханное подозрение!!
Не найдётся милосердный человек, что бы ему глаза отворил. Для всего рода мужского позором есть его унижение.
Славский поглядел на Валентина, который стоял, слушал и, задрожав, бросился на кресло… пришёл к нему, тот был наполовину бессознательный.
– Но ради Бога, мужайся! – воскликнул он. – Сама судьба принимается за твоё спасение, вырви же себя из этого пекла… имей отвагу, имей решение – убеждаешься всё-таки!
Орбека ничего не говорил, был как убитый.
– Что мне делать? – спросил он, дрожа.
– Что? Немедленно уходить, собирать вещи, выехать и, не видя её, порвать… ежели с ней увидишься, не отвяжешься от неё; я знаю тебя, она тебя убедит, в чём захочет.
– А если она невинна? – проговорил через минуту Валентин, бросая на приятеля умоляющий взгляд.
Славский с сожалением пожал плечами… был одновременно гневный и тронутый.
– Я потерял голову, – начал Орбека, – не знаю уже, что делать, распоряжайся мной… что хочешь прикажи – исполню.
– Идёшь со мной, ко мне, – сказал Славский, – я еду за твоими вещами и бумагами, и если хочешь, буду сопровождать тебя туда, куда хочешь… Отпуск у меня в кармане.
Валентин ничего уже говорить не мог, но дал себя потянуть… прошли через многочисленное собрание первой залы, вышли на порог, хотели сесть в фиакр, когда вдруг Орбека вырвался, сделал знак рукой и убежал… в сторону своего дома. Славский, который уже одной ногой был в экипаже, обернулся… покивал головой и, разочарованный, пошёл домой.
Тем временем беглец, которого тянуло сердце, или, не знаю, какая-то страсть, прибежал прямо к себе, наверх… наполовину безумный. Люди, что видели его вбегающим, стояли изумлённые. На счастье, в покое не было больше особ, кроме Люльер, поверенной и приятельницы… и прекрасной Миры, сухой голосок которой, насмешливый, слышался издалека. Не из желания подслушать, потому что таким шпионством гнушался, но из-за какого-то страха Орбека сдержал шаги, собираясь войти в покой, из которого до него доходили голоса.
Как будто в ответ на вопрос или жалобу Люльер говорила Мире.
– Всё это мило, красиво, но это какие-то чрезвычайные вещи, которые кажутся мне более грозными, чем тебе. Если бы ты имела дело с человеком нашего света, обычаев, представлений, жизни, можно бы по крайней мере предвидеть события… но по своей собственной вине ты выбрала создание дикое, одинокое, наверное, сильных страстей, замкнутое в себе, не знающее света… а с такими людьми он n’est jamais sur de rien. Всегда это кончится катастрофой. Они это принимают всерьёз.
Что-то невыразительное отвечала на это Мира. Орбека слышал только сухой смех, сопровождающий слова и – вдруг вошёл.
Мира, которая лежала на канапе, немного вздрогнула… но обе женщины в своей жизни были слишком привыкшими к сюрпризам, чтобы не уметь сдерживать впечатления. Поглядели только друг на друга.
Валентин имел отвагу войти, и всю её исчерпал на этот последний шаг. Стоял как вкопанный…
– Вы больны, – спросила Люльер, – что так странно выглядите?
– Я? Да, я действительно болен… очень болен.
– Тогда почему лучше не ляжешь, чем как привидение людей пугать? – отозвалась с гневом Мира.
– Как раз решив лечиться, – сказал задетый этим тоном Валентин, – пришёл с вами попрощаться.
Люльер, поняв из самого тона, к чему клонится, живо встала.
– Не хочу быть свидетелем такой грустной сцены, – воскликнула она, – и ухожу.
Она непомерно живо завертелась, и шелест её шёлкового платья постепенно исчез в отдалении. Таким образом, они остались вдвоём, одни, и в течение долгого времени Орбека не мог найти слов. Мира думала ещё, что это будет дальнейшее продолжение сцены, вызванной ею самой – была, поэтому, спокойно за результат.
– Хотя я добродушный и меня легко обмануть, – отозвался наконец Орбека, – даже у такого легковерия, как моё, есть границы.
– И о чём же идёт речь? О чём? О чём? – выведенная из себя, бросая ему ключ, отозвалась Мира. – Иди и убедись.
– Мне даже это не нужно, – ответил Валентин, – я уже убедился… Шамбеляниц по всему городу разнёс историю замурования двери ночью… я слышал своими ушами в публичной кафейне смеющихся над этим.
Мира вскочила с канапе, на котором лежала, слишком хорошо знала шамбеляница и Орбеку, чтобы этому не поверить; в голове только искала уже отговорки, средства, какой-то лжи, будучи уверенной, что несчастный, дрожащий голос и лицо которого красноречиво рисовали страдание, схватится за самую слабую ветку.
– Пане мой! – воскликнула она. – Не укоряй меня за чужие вины… послушай… подумай… а потом сделаешь, что тебе нравится… бросишь меня, несчастную, в жертву людской клевете, на несчастную добычу, на отчаяние сердца, которое без тебя не выживет!
Да, то, что я тебе говорила вчера, было правдой, но не всей. Я не хотела тебя беспокоить, признаваясь во всём, хоть клянусь тебе… я невиновата!!! Эту несчастную дверь шамбеляниц велел отбить, я слышала в один вечер стук, убежала, наделала шуму… Велела её с моей стороны забаррикадировать. В чём же я виновна, что этот человек мстит мне, бросает теперь на меня клевету?
– Ты хочешь, чтобы я его убил?! – воскликнул Орбека, который уже остыл, и дал первому выражению боли побороть себя.
– Делай с ним что хочешь, убей его! – воскликнула, имитируя слёзный стон, женщина. – Но не обвиняй меня. Отпусти, если хочешь, брось… не осуждай, однако же… Я невинна, я тебе клянусь, что невинна!!
Дольше ей даже не было нужды доказывать свою невиновность. Валентин сам встал перед ней на колени.
– Завтра мы едем за границу… я тут минуты не останусь дольше! – отрезал он с горячкой.
– Немедленно, ежели прикажешь, – отвечала женщина. Назавтра действительно Славский из публичных слухов узнал, что пан Валентин Орбека и Мира выехали в Италию. Дом был закрыт. Взяли с собой только одного слугу и… по какой-то случайности, по причине слабости фаворитки, Анульку.
ROZDZIAŁ X
Около года потом не было о них вестей, только как контролёр Кабрита Славский убеждался, что героически черпали из кассы. Между тем летели дукаты, и капитал Орбеки так вдруг уменьшился, что можно было думать, что его, пожалуй, в других банках перемещает за границу.
Шамбеляниц надел траур, в обществе в течение нескольких дней шептали и говорили, Люльер страдала над потерей доброй подруги, а потом… потом, как и всё, забылось и стёрлось!
Только достойный Славский не забыл о приятеле, несчастьям которого сочувствовал, а, вычитая из банкирской книжки каждый расход его состояния, страдал над ним, потому что видел в этом всё большее преобладание кокетки, которая безжалостно пожирала свою жертву. К несчастью, от этой продолжительной горячки не было никакого лекарства на таком расстоянии.
Прошёл год…
Однажды Славский возвращался уставший со своей повседневной работы в скромную одинокую квартирку на третьем этаже, когда ему на пороге служанка снизу (поскольку собственного слуги Славский не имел), отдала визитную карточку, неразборчиво написанную на серой, грязной бумаге. Поначалу он даже почерк распознать не мог, таким был удивительно изменившемся, по подписи догадался, что карточка была от Орбеки, который вызывал его к себе – в Отель на Краковском.
Непонятным было для Славского, почему он остановился в отеле, минуя собственный дом. Из письма догадываясь о болезни, он безотлагательно побежал. Ему указали комнату внизу, довольно неудобную и тёмную. Орбека лежал на кровати, света не было, он поднялся к Славскому, но, на ногах удержаться не в состоянии, упал бессильный. Двое приятелей обнялись в молчании; когда затем слуга принёс свечу, Славский поглядел на лицо Орбеки и ужаснулся… Был это другой человек; дряхлый, сломленный, поседевший, едва дышащий… с дивно сверкающими глазами, в которых временами пролетало как бы некое безумие.
– Что с тобой? Когда ты вернулся? – спросил Славский.
– Видишь, я болен, я один… – он покивал головой, – да… один… догораю. Я прибыл сегодня утром, но только что выспавшись, я мог найти несколько слов, чтобы написать.
– Но почему ты остановился не в собственном доме? – спросил Славский.
– Но дом давно продан, – отрезал Орбека, – и этот, и во Львове и всё, и всё…
– На что? Почему? – воскликнул Славский.
– Были расходы… долги… – тихо начал Орбека.
– Ты имел капитал у Кабрита?
– Кажется, там также ничего не осталось, – сдавленным голосом отвечал Орбека, – или почти ничего.
– Не знаю, давно книг его не видел, а в любом случае ты должен это лучше знать.
– Да, да, – покачивая головой, сказал Валентин, – ничего не осталось, ничего, кроме горечи, жалости, грусти и ненужной жизни.
А! Правда, – добавил он через минуту, – однако же я должен ещё, возможно, иметь ту моё деревеньку, вернусь туда подыхать.
Говорил он это с равнодушием отчаявшегося человека, которого уже ни что есть, ни что станет, не интересует. Славский, сидя, смотрел на него с сердечным состраданием.
– Ну что? Как? Расскажи мне… как до этого дошло?
Валентин поднял голову.
– Не знаю, смогу ли, и стоит ли, я сильно ослаблен, жизнь исчерпал этим несчастным счастьем.
– Ты хорошо его теперь назвал, – прервал Славский, – это даёт мне надежду, что ценой великих душевных, сердечных и финансовых потерь ты опомнился и прозрел… что вылечился.
Орбека поднял на него слёзные глаза, и горячую, пылающую ладонь положил на его руки.
– Друг! – сказал он. – Ты не знаешь, что такое страсть, не знаешь, как она ненасытна, покуда пресыщена не будет, как нелогична. Ещё сегодня, если бы она кивнула, вернула бы мне жизнь, я бросился бы к ней через пропасть, пошёл бы за ней в ад!
Славский жалел, что задел за такую болезненно звучащую струну – раны были ещё слишком свежи… не смел спрашивать больше, но Орбека ожил от обновлённой боли, ему нужно было посетовать, говорить, и он сам прервал молчание.
– Всё тебе расскажу, – сказал он, опуская глаза, – ты лучше всех знаешь грустные истории нашей жизни в Варшаве, сам первый уведомил меня, что делалось в этом нашем несчастном доме. Я хотел её вытянуть из этой лужи, оторвать от этих людей, которые могли, если не какие-нибудь права иметь на неё, то вооружиться её собственным прошлым против неё. Я думал, что перемена страны, места, окружения, одиночество вдвоём благотворно повлияют на её характер.
Не раз даже во время путешествия мне казалось, что это сердце, а скорее эта голова, обеспокоенная мечтами, прояснялась от более светлых мыслей… под влиянием новых впечатлений. Мне казалось, что она чувствует себя счастливой, что желала тишины и начинала её любить.
Но это продолжалось только мгновение… малейшее случайное влияние событий повергло начатую постройку в щебень; какой-то бал, шум и толчея людей, вид столицы бросили её в этот кипяток, в котором по привычки была как в своей стихии… он был ей нужен для жизни, она чувствовала себя в нём возрождённой.
Может быть, она хотела работать над собой, чтобы измениться, но продолжительная борьба превосходила её силы; справиться не могла.
Сначала поехали в Медиолан, потом в Геную, откуда я повёз её тем чудесным берегом моря, над пропастями, в Пизу. Я думал, что вид этой величественной природы, эта поэзия Божьих созданий, это море лазури над головой и ногами, эти великие картины, среди которых человек уменьшается, а сердце растёт, подействуют также на её ум и чувства, на воображение, оторвут от заинтересованности в легкомысленных и детских забавах. Я ошибался – то, что меня восхищало, её едва могло от сна сдержать; она боялась одиночества, вершин, пропасти, разбойников, скучала, зевала, иногда гневалась на меня, что я её тянул в эту чудесную пустыню, не любила природу, потому что сама была искусственным существом.
Прибыв в город побольше, она на мгновение оживилась, испугала меня смелостью, а скорее дерзостью, с какой, оголодавшая, она искала новых знакомств, не глядя на стоимость людей, дурачилась, таща меня за собой как невольника на цепи.
Что я вытерпел, узнавая ближе это сердце, в котором всегда искал таинственных глубин, а находил холодное дно зеркала, отражающего всё, что её окружало, этого рассказать не сумею.
Что же ты скажешь? Ничтожество. Я любил её; за месяц страданий одной улыбкой она притягивала меня к себе, просила прощения. Я забывал, что она делала вчера, гневался только на себя, на себя принимая всю вину, мою непутёвость!
От Генуи, несмотря на красоту окрестностей, она быстро устала – хоть нашла себе и местных, и путешественников, с которыми легко завязала знакомство – мы поехали дорогой Корниша в Пизу. За нами потянулся какой-то англичанин, которого она поймала одной улыбкой и несколькими словами. В грустной Пизе она не выдержала трёх дней, мы поехали во Флоренцию, англичанин за нами.
Не знаю уже, почему ей так понравилась Флоренция; мы должны были нанять там целый дворец, устроить двор, экипажи, ливрею, и нашей роскошью мы удивляли даже англичан. Фантазии её были страстью, могла завтра гнушаться тем, что сегодня сильно желала, но когда чего желала, то должно было статься. Итальянцы были от неё в восхищении, звали её la piccola principessa, меня же, несмотря на гнев и сопротивление, не иначе как Превосходительством… правда, что мы это почтение дорого должны были оплачивать – деньги текли как вода, а крали и обирали нас как богатых на каждом шагу.
Мира, едва устроившись во дворце, потребовала виллу, расположенную в долине Арно; я должен был не нанять (потому что она не терпела нанятого жилья), но снова купить виллу, потом эту пустошь обставить, сделать воздух ароматным, поднимать, потому что, несмотря на прекрасную архитектуру, сад, виды, была это руина страшная. В этой Италии, под солнцем которой разогревается камень и приобретает золотистый цвет, где мрамор созревает веками, стены уничтожаются быстрее, чем где-нибудь в другом месте. Через несколько лет плющи, травы, деревья расслаивают её, опускают, съедают. Наша вилла была княжеской, рисунком и кроем, но почти заново её пришлось строить. Я сделал из неё игрушку, думая, что она полюбит её, потому что поначалу говорила, что там на всю жизнь хочет поселиться. Я стелил гнездо, размечтавшийся, счастливый. Но когда уже всё было закончено, Мира остыла, хвалила, восхищалась, а покинуть совсем дворец во Флоренции не хотела; поэтому мы держали два двора, проводя по несколько дней попеременно в городе и на вилле. Кроме нашего вездесущего англичанина, который меня непередаваемо обременял, пришлая молодёжь, местные господа льнули к нам, привлечённые роскошью дома, представительностью жизни и обаянием той женщины, которая, когда хочет, бывает чарующей, непобедимой.
У нас дома и вокруг нас был первейший свет. За границей достаточно иметь много денег и толику видимой воспитанности, чтобы попасть с этим всюду. В Италии (в те времена больше, нежели сегодня, может быть) достатка хватало за всё.
Кто-то из иностранцев в шутку говорил о том, что хотел с другим побиться об заклад, что за несколько тысяч дукатов купит каждому, кто захочет, титул князя. Поразило это Миру, голова её загорелась, она подхватила мысль и придумала на ней новый план. Решила вынудить меня, чтобы я на ней женился, приобрёл итальянское княжество и осел в Тосканском.
Слёзы, гнев, ласки, нежность, всё было рассчитано на эту цель, но – напрасно… О женитьбе речи быть не могло, потому что я дал торжественное слово себе, что пока несчастная, которая была моей женой, жива, ни с кем не связывать себя новым браком.
Она совсем на меня разгневалась, пробовала насмешку, равнодушие, пробуждение ревности, угрозы, что меня бросит – на этом одном пункте она нашла меня непоколебимым. Я падал ей в ноги, просил прощения, но слова нарушить не хотел, а, сделав это, я считал бы себя нечестным человеком.
Когда наконец она потеряла надежду, что сможет довести меня до этой цели, она сбросила все маски, стала странной, раздражённой, презрительной, а в то же время как бы специально, самым безумным образом расточительной. Пожелала совершить морское путешествие, я должен был арендовать корабль специально для нас. На нашем коче плыл англичанин и трое или четверо приглашённых иностранцев. Так мы посетили Корсику, Эльбу, Неаполь, Сицилию, доплыв даже до Мальты; кто знает, может, мы бы продвинулись к Греции, если бы сильная буря, продолжающаяся два дня, во время которой мы были в настоящей опасности, не склонила её к скорейшему возвращению.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?