Читать книгу "Двадцать пять вспышек в моей чёрно-белой дырявой памяти"
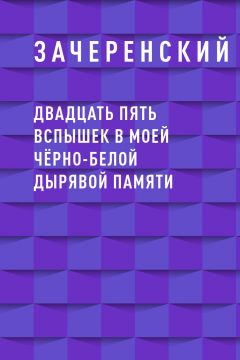
Автор книги: Зачеренский
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
рассказ Первый
ЗАНАВЕСКИ
Занавески висели с той стороны стекла. Сдвинуть их и посмотреть, что находится за ними, не было никакой возможности. Иногда, редко, на бледно-розовых полотнищах появлялись загадочные тени, они были расплывчатых очертаний и никогда не оставались на месте ̶ всегда двигались, делаясь то большими, то маленькими, снова пропадая. Оттуда, из-за занавесок, раздавался какой-то шум, похожий на тот, что я слышал у себя за спиной, в моей комнате, но тот, «зазанавесочный», был абсолютно таинственным и порою даже страшным, поскольку был непонятен. Каждое утро, входя в комнату, я сначала подходил к стёклам с потусторонними занавесками, надеясь, что сегодня приоткроется хотя бы небольшая щёлочка и я наконец увижу маленький краешек таинственной жизни соседнего, манящего своей неизвестностью мира. Увы, ничем, кроме редких загадочных силуэтов, тот мир себя не проявлял; а я недоумевал, как же так, ведь там, за этими занавесками, есть люди, я слышу их приглушённые голоса, почему никто из этих незнакомцев не подходит к этим самым занавесками и не раздвинет их, ведь им-то сделать это так просто, не то что мне, отделённому от них толстенным стеклом!? Из того времени я не могу вспомнить ничего, кроме этого стояния перед волшебным экраном бледно-розовых занавесок и своих отпечатков пальцев на стекле перед ними: ни игрушек, ни развлечений с «сокамерниками». Я был поглощён ожиданием… не известно чего. И вот однажды, войдя в комнату, я увидел на загадочной занавеске движущуюся огромную тень, похожую на слона с торчащим почти в небо тонким прямым хоботом, хобот этот двигался, становясь то длиннее, то короче, а сам слон медленно передвигался вдоль занавеси. Я подбежал к стёклам, сердце моё билось маленьким молоточком, я был уверен, что сейчас произойдёт что-то важное, давно ожидаемое, и тайна загадочной соседней комнаты откроется. И наконец, я дождался появления материального подтверждения существования зазанавесочного мира… В щель между занавесками просунулся тот самый тонкий хобот и сразу же пропал, мелькнув лишь на мгновение, через секунду он появился снова и ударился в стекло прямо над моей головой, грохот от удара был страшный, но стекло выдержало удар хобота и не разбилось. Из-за стекла я услышал таинственный женский голос, какая-то тётенька сказала несколько коротких слов, занавески раскрылись, и надо мной возникло огромное щекастое лицо в белом платке. Лицо посмотрело на меня и глухо сказало: «Кыш, мелюзга!». Занавески опять сомкнулись. На сей раз навсегда.
Летняя дача, на которую выезжал мой детский сад в начале июня, располагалась в посёлке Сиверский, но все называли это место Сиверская, именуя его, видимо, по старинке деревней, которой он был до войны. Дача представляла собой довольно большой одноэтажный дом, окружённый застеклённой широкой длинной верандой, поделенной застеклёнными же перегородками на три комнаты. В крайних жили воспитанники младшей и старшей групп, в средней комнате, соответственно, – средней группы. Именно в помещении средней группы и висели пресловутые бледно-розовые занавески, а я, поскольку был обитателем одной из крайних комнат, членом младшей команды, не имел возможности к ним даже прикоснуться. Уезжая в конце августа в город, я, зная, что уже осенью пойду в среднюю группу, а летом следующего года на законных основаниях займу вожделенное среднее помещение, мечтал о будущем переезде. Это, пожалуй, была моя первая «большая» мечта. Но ей, как впоследствии и многим другим моим мечтам, не суждено было сбыться. В июне следующего года моя мама отвезла меня на всё лето к моей тёте Кате ̶ старшей сестре моего папы, жившей на реке Волге в славном маленьком городке Старица, точнее ̶ не в само́м славном городе, а на другом берегу Волги, фактически в деревне условно городского типа, поскольку из «городского» там было только электричество, всё остальное: огород, сад, туалет, летняя кухня, русская печь в доме ̶ вряд ли можно было назвать городским.
От этого волжского лета у меня остались довольно яркие воспоминания, некоторые из них подзабылись, в частности ̶ мытьё в бане, в женской, разумеется, по причине моей младости. Я ходил туда с тётей Катей пешком по длинному мосту, разделяющем Старицу на городскую и деревенскую части. Баня была большая, с высоченными потолками, и мылось там довольно много народу, я даже помню, как мы стояли в очереди, чтобы купить билетик, как в трамвае, для прохода в этот храм омовения.
Помню ещё пар из дверей парной, шайки, лохматые мочалки, огромные краны с холодной и горячей водами, гул голосов, плеск воды, но сам процесс мытья в женской бане, учитывая, что это была именно женская баня, в моей памяти не запечатлелся, и образов моих соседок по банным лавкам тоже не сохранилось. Дырявая память… наследственное… Надо было тёте Кате сводить меня помыться в женскую баню попозже, лет так через десять, тогда бы у меня наверняка остались бы совершенно другие впечатления и воспоминания.
Ещё одно происшествие того лета также абсолютно выветрилось у меня из головы, я только запомнил, как меня долго и крикливо ругали моя тётя и её великовозрастные дочери, мои двоюродные сёстры, за то, что я что-то такое сделал, чего делать было нельзя, и «как мне не стыдно?» ̶ вопрошали они, и что я больше бы не смел играть и вообще приближаться к этой плохой девочке! Соседской девчонке было восемь лет, как её звали, я не помню, но что такого я в свои пять лет мог с ней делать, ума не приложу; до сих пор я не понимаю, за что меня ругали родственники, моя память вычеркнула и стёрла все воспоминания о моих греховных деяниях. Так и не уразумев, что же конкретно мне вменяется в вину, я дал клятвенные заверения, что никогда в жизни не буду этого делать, с чем и был отпущен погулять в пределах нашего двора. Исходя из дальнейших более зрелых лет своей жизни можно предполагать, что клятву свою я не сдержал, но тайна осталась нераскрытой, поскольку позднее мне было неловко просить у тётушки разъяснений по поводу того злосчастного инцидента.
Зато я прекрасно помню, как пожалел маленькую белую собачку, у которой на её лохматой спине застрял огромный репейник, и я, желая облегчить страдания бедного животного, стал отдирать этот репьяк от её волосиков. Я до сих пор помню те свои тактильные ощущения: колкую колючку, тёплую густую собачью шерсть и через секунду страшную боль ̶ собачка довольно сильно укусила меня за живот, даже пошла кровь. Я, естественно, заревел и побежал домой, где моя добрая тётя Катя оказала мне необходимую медицинскую помощь и дала красивое яблоко.
А в августе приехали мои мама и папа, я их не видел два месяца, но не помню, скучал ли я по ним, наверное, да. Папа привёз аккордеон, огромный, совершенно неподъёмный музыкальный инструмент германского или итальянского производства с красивой металлической накладкой – длинное название этого инструмента с двумя t на конце. Мой отец, музыкант-любитель, учился играть по самоучителю. Сколько я помню, он всю жизнь разучивал одно монументальное произведение по нотам ̶ «Чардаш» венгерского композитора Монти; восторгаясь, он показывал мне и другим интересующимся в нотных листах места, где были обозначены ноты продолжительностью одна шестьдесят четвёртая, наличие нот такой микроскопической длительности его сильно возбуждало и делало разучиваемое им произведение шедевром музыкального искусства. Честно говоря, я не помню исполнение моим папой этого выдающегося опуса композитора Монти целиком, а знаменитые одна шестьдесят четвёртые мне вообще не запомнились, видимо, папа играл их очень быстро. Зато я прекрасно помню, как на второй день после приезда родителей к нам пришли две тётки – соседки и долго и настойчиво приглашали моего папу-музыканта поиграть на танцах в местном клубе. Отец долго отказывался, говорил, что он только учится, что на танцах он никогда не играл и не собирался этого никогда делать впредь, что он имеет не совсем тот профильный репертуар, что он должен переговорить со своим импресарио (с моей мамой). Тётки были непреклонны, не помню, на чём, но отец «сломался». Какие баснословные гонорары посулили маэстро, я не знаю, но на завтрашний вечер была объявлена премьера. Папа был освобождён от всех хозяйственно-огородных дел, и остаток этого дня и весь следующий он рьяно репетировал.
На вечер отдыха в виде танцев народов мира мы с папой пошли вдвоём, мама и тётя отказались от участия в этом шабаше, сославшись на неотложные домашние дела. Папа волновался страшно, когда он сел на предоставленный ему персонально табурет в дансинг-избе, он был бледен и мокр от нервного пота. Решив начать своё выступление, как положено, с торжественной части, маэстро врубил первые пару аккордов из нетленного венгерского танца венгерского же композитора Монти. Вступление удалось, но, к сожалению, продолжения не последовало, папа забыл взять ноты «нетленки», понадеявшись на свою память, а она, сволочь, его подвела. Как потом выяснилось, этот эффект провалов в сволочной памяти в стрессовых ситуациях папа по наследству передал потомству, мне то есть. В тот памятный вечер я ещё об этом не знал, и мне было страшно обидно за папу: почти сутки он терзал заграничный аккордеон, тренируясь в нажимании клавиш правой рукой, а по кнопочкам – левой, и вроде бы всё неплохо получалось, а тут то ли слишком торжественная обстановка зала, то ли молчаливое ожидание уважаемой публикой вожделенных танцев, то ли папа заранее не изучил свой гороскоп на сегодняшний вечер, но после четырёх безуспешных попыток всё ж таки сбацать свой чардаш, папа впал в ступор. Раздвинув подвижную часть инструмента на максимальный размер, маэстро сидел с сомкнутым ртом, устремив невидящий взгляд на дальнюю стенку избы, на которой висел большой красивый плакат, призывающий повысить удои молока в два с половиной раза, и не знал, как достойно закончить своё выступление. Тётки – организаторши гастролей заезжего «столичного» музыканта, поняв душевное и эмоциональное состояние артиста, подскочили к моему папе с двух сторон, и обе одновременно в оба папиных уха начали что-то горячо ему говорить и даже петь, приплясывая. Они оказались неплохими психонаставниками, через минуту их тренинга лицо папы порозовело, он даже улыбнулся и … заиграл. Что конкретно он исполнял в тот музыкально-танцевальный вечер, я не помню, я лишь зафиксировал, что мелодий было две, каждую папа исполнял минут по пятнадцать, в конце каждой срываясь даже на импровизации, затем начинал следующую, и так – по кругу. Зал стонал от восторга, плясали все! Я сидел на лавке в уголке танцпола и с восторгом и ужасом наблюдал за высокоамплитудным колыханием половых досок несчастного деревенского клуба; слава богу, доски выдержали, мой папа тоже. После полуторачасового марафона измождённого аккордеониста провожали домой всей деревней. Ложась спать тем вечером, я решил, что играть на аккордеоне я не буду никогда. С того вечера у меня появилась аллергия ко всем клавишным инструментам, я буду играть только на щипково-струнных! В крайнем случае, на ударных, ну и, на худой конец, возможно, на духовых.
А в Ленинград с волжских просторов я всё-таки привёз музыкальный сувенир – песню, распеваемую тогда местной волжской молодёжью. В ней были такие слова:
"Я иду по Уругваю,
Ночь хоть выколи глаза,
Слышны крики попугая
И гориллы голоса".
Там были и другие слова, в художественной форме описывающие непростую жизнь уругвайских трудящихся, но, к сожалению, после весёлых каникул по дороге домой на поезде, ведомым настоящим паровозом, из которого исходил ядрёный дым, остальные куплеты этой задорной песни забылись мной безвозвратно.
Совсем недавно я узнал, что автором этой композиции, разумеется, с другими словами, был знаменитый Кол Портер, а пел он совсем не о замечательной латиноамериканской стране, а о Париже:
«Я люблю тебя, Париж, и зимой и летом…»
Осенью я снова пошёл в свой детский сад в старшую группу, а следующим летом, сразу после переезда на дачу в Сиверской, я подбежал к стеклянной перегородке, отделяющей комнату теперь моей старшей группы от средней, и обнаружил, что и эти бледно-розовые занавески опять висят по ту сторону стёкол ̶ в комнате средней группы… Ещё одна тайна в моей многотрудной жизни осталась неразгаданной: я так и не узнал, что же происходило в том занавешенном среднегрупповом мире. Зато я понял, я это сам вычислил, кто был тем самым слоном с тонким хоботом ̶ наша нянечка Наташка, а хоботом – ручка её швабры, которой она мыла пол.
рассказ Второй
НОЧНОЙ КЛУБ
Ночной клуб я посещал дважды, это были разные клубы. Общего между ними было… Ничего общего между ними не было, ни одного параметра. Разница по времени их посещений составляла, сейчас подсчитаю… пятьдесят один год.
Я был второгодником. Не тем, хрестоматийно-хулиганистым в фуражке набекрень, сидящим на последней парте в каждом классе, в котором он оставался на второй год; я был детсадовским второгодником ̶ в старшую группу детского сада мне пришлось ходить дважды. Дело в том, что я "октябрьский", родился я 13 октября 1953 года, и, поступая первый раз в старшую группу детского сада, я был уверен, что на следующий год пойду в школу, это было бы нормально ̶ я бы отучился полтора месяца шестилеткой, а потом бы уже семилетним первоклассником продолжал бы обучение на законных, закреплённых конституцией основаниях. Но летом канунного года моя мама испугалась. Потом она, конечно, подвела основания для отсрочки моей "службы" в "учебных войсках среднего всенародного образования", мол, ребёнок ещё недостаточно подготовлен для несения "бремени" начального школьного обучения, что маленького мальчика будут обижать великовозрастные семилетние бугаи, что… чем-то она ещё аргументировала мою задержку в развитии, не помню. После семейных дебатов и консультаций со специалистами дошкольного воспитания было решено, что мальчик походит в детский сад ещё годик ̶ здоровее будет. Я, конечно, поначалу расстроился ̶ мне очень хотелось пойти в школу, потом смирился. Так я стал второгодником, и в конце июня 1961-го года поздно вечером я шёл по пыльной дорожке с девушкой в ночной клуб. Я запомнил эту пыльную дорожку, потому что загребал своими сандалиями эту самую пыль, и мне было приятно это делать: пыль была тёплая и уютная, но одновременно я понимал, что сандалии пачкаются и завтра меня будут за это ругать. Но завтра меня никто не ругал ̶ утром сандалии были чистыми. Их помыла девушка, которая сейчас держала меня крепко за руку. Было тепло и светло – белые ночи. Перед этим, часа за два до описываемых событий, после ужина ко мне подошла моя любимая воспитательница Александра Васильевна и, отведя меня в сторонку, на ушко попросила меня, чтобы я после отбоя лёг в кровать не раздеваясь и чтобы я не спал, а ждал её, и мы с ней пойдём в кино, в клуб железнодорожников, где будут показывать новую картину "Девочка ищет отца".
Почему Александра Васильевна пошла на должностное преступление, пойдя ночью в кино с посторонним для себя мальчиком, не знаю. У моих родителей с ней были очень хорошие отношения, можно сказать, они дружили семьями, хотя своей семьи у Александры Васильевны не было. Только её мама, с которой она вместе и жила. Я помню, мы даже приезжали к ним в гости, когда я уже учился в школе. Сколько было лет моей воспитательнице, я не знаю, вероятно, не было ещё и тридцати, она точно была моложе моей мамы, а мама моя – старородящая, родила меня в возрасте тридцати двух лет. Красивой Александру назвать было нельзя, милой, пожалуй, да. Она была высокой, выше моего отца, крупной, но не толстой, с круглым, всегда улыбающимся лицом. И вот я шёл с ней, подпрыгивая от радости, держась за её большую руку в ночной клуб посёлка Сиверский смотреть кино про девочку, которая будет искать своего папу, и был очень горд этим приключением и не знал, за что мне выпала такая удача. Само кино я не помню, скорее всего я просто уснул в этом ночном клубе, и Александре Васильевне пришлось меня из этого увеселительного заведения нести в обратный путь на своих больших сильных руках. Судя по всем демографическим показателям таких одиноких молодых и не очень молодых женщин после войны было очень много, далеко не каждой из них удалось испытать семейное женское счастье, видимо, эта неудовлетворённость и побудила Александру Васильевну хотя бы на один вечер побыть "мамой" и сводить "сына" в кино; на утренник она его сводить не могла по понятным причинам, так хоть на ночной сеанс. Если мои предположения верны, то я чрезвычайно рад, что хоть на один вечер смог сделать её немножечко счастливой. Равно как и других женщин, с которыми меня сводила судьба позже при других обстоятельствах.
рассказ Третий
УНИБРОМ
Унибром… Если кто забыл или не знал, то унибром ̶ это не успокаивающее средство и не химический элемент таблицы чемоданщика господина Менделеева, хотя, несомненно, к химии имеющего отношение. Унибром, бромпортрет, фотобром ̶ это забытые ныне в век цифровой фотографии виды фотографической бумаги, используемые для получения чёрно-белых снимков. Вот мы и произнесли это сакральное ̶ ФОТОГРАФИЯ. Как много в этом слове!.. Для кого-то ̶ увлечение, кому-то ̶ источник существования, профессия, большинству ̶ развлечение. Оговорюсь сразу, под ФОТОГРАФИЕЙ я подразумеваю ПРОЦЕСС получения плоского изображения на специальной бумаге при помощи устройств, в основе конструкции которых лежит «камера-обскура», всё остальное, включая так называемую «цифровую фотографию», ̶ просто фотографирование. Я сейчас начну возмущаться, «топать ногами», брюзжать, обзываться. Прошу отнестись к моей эмоциональной речи снисходительно, я сам с удовольствием и даже с радостью пользуюсь этим великим изобретением ̶ «цифровой» записью и изображения и звука, и любой другой информации. Итак, моё гневное выступление: "На наших глазах произошло чудовищное ̶ девальвация самого понятия – «запечатление изображения»! Ну скажите на милость, как назвать то, что делает моя полуторагодовалая внучка Масяня, тыкая крохотным пальчиком в экран мобильного телефона, установленного родителем в режим автоматической фотосъёмки? Разве она делает фотографию? Да она даже не фотографирует! Хотя понимает последовательность своих действий: надо тыркнуть вот в этот кружочек на телефоне, и тогда можно любоваться застывшим изображением мамочки. И вы, взрослые люди, называете это фотографией!? Человечество катится в пропасть, причём уже давно, и то, что люди сотворили со священным ритуалом «получение изображения», придумав этот суррогат, фотофастфуд – цифровое фотографирование, есть преступление перед прогрессом! По мнению большинства горе-изобретателей их «придумки» облегчают жизнь человека, а кто им сказал, что эту жизнь надо облегчать и что в этом и есть смысл существования человечества? Своими безрассудными, безответственными изобретениями они наносят поступательному, естественному ходу прогресса непоправимый, разлагающий урон ̶ человечество вырождается, приучаясь с младых ногтей бездумно нажимать кнопки, человек в этом действии – нажатии кнопки и получении результата – пропускает самое главное: КАК получается этот результат, в данном случае, ̶ фотоизображение! В этом КАК ̶ не только и не столько технологический процесс, а главное ̶ УДОВОЛЬСТВИЕ от делания и понимания процесса появления конечного продукта.
Экспозиция… трансфокация… байонет… ракурс… диафрагма… виньетирование… да тот же унибром! Поэзия! Симфония! Молитва…
Выступление закончилось, можно хлопать, а можно просто улыбнуться.
Свою первую фотокамеру я получил на свой первый юбилей, в десять лет. Наверное, четверть моих фотоархивов снято этой «Сменой» без номера. Проще аппарата трудно придумать, разве что спичечный коробок, изнутри покрашенный чёрной тушью, с дырочкой, проковыренной швейной иглой в центре картинки – самолётика. Однако снимать, то есть делать качественные фотоизображения «Сменой», было совсем не просто. Пропущу не всем интересные подробности этого увлекательного процесса и перейду к следующей технологической фазе – печатанию «карточек».
Делалось это так. Испросив загодя разрешения на оккупацию ванной комнаты у соседей по коммунальной квартире и у моей мамы, отец обычно в воскресенье утром, поскольку по субботам я учился в школе, тщательно мыл ванну, напускал в неё холодной воды, ставил на бортики ванны кусок фанеры и расставлял оборудование. Я в этом принимал активнейшее участие. Этот первый этап процесса был обыкновенен и походил на многие другие: пиление дров, сборка телевизора, починка швейной машинки и тому подобные; сначала – подготовка рабочего пространства, инструмента и оборудования, затем – сам процесс: пиленые чурками дровишки отлетали в стороны, с помощью паяльника «потроха» телеящика приобретали законченный телевизионный вид, маленькие железячки снова собирались в швейную машинку. Границы между подготовкой и самим процессом во всех этих действиях не было, но в печатании карточек был тот уникальный, волшебный момент, отсутствующий при проведении любых других работ, а именно: когда всё было приготовлено, увеличитель поставлен на фанеру, по кюветам разлиты отфильтрованные реактивы, разложены пинцеты – разные: для проявителя и фиксажа – свой (потом, конечно, в темноте они перепутывались), таймер (тогда он назывался реле времени) повешен на специальный шурупчик на стенке, рамка для плёнки лежала под увеличителем, и, наконец, зажигался красный фонарь, выключался в ванной свет и… весь мир за дверью ванной комнаты исчезал, и я вместе с папой переносился в волшебную страну, озаряемую таинственным светом красного фонаря ̶ в «СТРАНУ ФОТОГРАФИЮ». К огромному своему сожалению, вынужден пропустить следующую, основную часть технологического процесса, предполагая, что не всем потенциальным читателям этот процесс будет интересен; за рамками повествования останется основное – непосредственное получение ИЗОБРАЖЕНИЯ: таинственное появления знакомых лиц в окружении кустов сирени, не важно, что на фото было невозможно разобрать, персидская это сирень или обыкновенная или сирень ли вообще, цветущих яблонь, а может быть, и не яблонь, а вовсе даже и персиков или авокадо, сохнущих простыней, пыльных улиц, разгромленных праздничных столов, всего окружающего мира, порой даже не замечаемого в обыденной жизни и проявляющегося в буквальном смысле только в ванночке с проявителем… Чудо! Буквально волшебство… В это мгновение ты вспоминал, как неделю или месяц тому назад ты наводил видоискатель своей «Смены» на маму или папу, на птичку, севшую на подоконник кухни, на красивый листик, слетевший с дерева во дворе, на трамвай, подъезжавший к остановке, на своего одноклассника, корчившего рожи в школьном дворе… И становилось неважным, что лица твоих родителей получились «смазанными», потому что ты выставил не ту выдержку, что от снятой тобой птички остался только хвост, что листик «пропал», слившись с другими своими братьями и сёстрами, лежащими на газоне, что снятый тобой трамвай трудно определить как трамвай, потому что он похож на приведение, что Вовка, старательно изображавший Юрия Никулина, не сможет сам себя узнать на твоей проявившейся карточке… Всё это было не важно… в момент появления изображения в этой простой, обыкновенной ванночке с химическим раствором, который назывался проявитель, ты был свидетелем и сотворителем чуда… секунду назад был кусочек бумаги, осеменённый светом из увеличителя, жидкость в блюдце – и всё! Но при соприкосновении этих простых, кажущихся обыденными предметов, происходило таинство – рождение того, чего до этого НЕ БЫЛО! Ты ощущал себя всемогущим творцом: это Я сфотографировал! Это Я напечатал! Это Я проявил! Это Я сейчас промою, а потом зафиксирую в фиксаже! Это Я достану из холодной воды в ванне фотокарточку! Это Я прилеплю её к зеркальной пластине глянцевателя, и это Я сам принесу и покажу маме снятый мной скукожившийся кусочек фотобумаги с красивым кленовым листиком и покажу своим пальцем, где этот самый красивый листик лежит в окружении своих менее знаменитых родственников… Наглядное, абсолютно вещественно-предметное доказательство торжества человеческого духа, homo, воистину sapiens!
А теперь самое главное. Это главное я понял намного позже, уже позабыв об униброме, о фиксаже, о кюветах с проявителем и этим самым фиксажем; во мне это осознание "проявилось" только в эпоху победившей цифровой фотографии… Оставаясь с папой наедине в нашей коммунальной ванной комнате, при свете красного фонаря рождался Я, тот, кем я стал и кем являюсь теперь, тот, кем я умру, моё формирование личностью, отличаемой от внешне мне подобных, происходило при этом таинственном свете от волшебного красного фонаря и от того духа единения двух творцов – отца и сына. Самые сокровенные желания, глубочайшие мысли, остроумнейшие шутки, мудрейшие жизненные советы были высказаны в тишине бело-кафельной ванной комнаты и вместе с оставшимися на всю жизнь навыками искусства ФОТОГРАФИИ были впитаны и запомнены мною навсегда. Спасибо, папа.
PS. Совет старого фотографа: не печатайте карточки с девушками, ничего хорошего из этого не получится. Качество полученных фотоизображений не удовлетворит даже бабушек этих девушек. Что касается самих девушек…
PPS. Полный комплект всего фотографического оборудования до сих пор аккуратно лежит на антресолях моей городской квартиры. Понимая его никчёмность в век цифровой фотографии, я не могу его выбросить. Не могу и не смогу, пускай это сделают мои внуки… потом… сбрасывая на пол увеличитель, кюветы, пинцеты, глянцеватель, реле времени… красный фонарь. Я их не буду осуждать, надеясь, что у них будет свой "красный фонарь".
рассказ Четвёртый
ПЕСНЯ
Песня была хорошая, она нравилась всем, я её ненавидел. Если мне доводилось на концерте исполнять две песни или более, одной из них обязательно была она, если одну – понятно какую, ̶ её.
Герой песни, солдат, мне показался сразу подозрительным: во-первых, почему он шёл один? Во-вторых, куда он шёл? В-третьих, почему у него была чужая шинель? Если бы у него была своя, то так бы и сказали: "шёл рядовой в серой шинели", а у них: "В серой шинели рядового". В-четвёртых, почему он шёл ночами, тем более грозовыми, в условиях ограниченной видимости, значит, прятался, следовательно ̶ дезертир. В-пятых, почему один географический объект обозначен – город Смоленск, а другой засекречен ̶ посёлок N-ск, в-пятых… ну, достаточно. Когда я только ознакомился с текстом песни, начиная её разучивать, я задал несколько вопросов из этого списка нашей учительнице пения. Её ответов я не помню, судя по тому, что я до сих пор не знаю на них ответов, она, видимо, сказала, что так придумал автор этой замечательной песни и моё дело не задавать дурацких вопросов, а просто петь. А пел-то я хорошо ̶ на каждом моём выступлении обязательно какая-нибудь женщина плакала, а бывало, что и две; а когда мне удавались две жалобных ноты на словах "слёзы" и "берёзы", если я удачно входил в образ, то рыдал весь зал.
Вторым номером в моём репертуаре была псевдопатриотическая песня о юном (в противовес старому, который, как известно, крепко спал, и правильно делал) барабанщике. В ней тоже был довольно странный герой – весёлый барабанщик. Мне никто не мог объяснить, почему он весёлый, из текста песни этого не следовало, мне приходилось самому домысливать и определять образ персонажа. Делать это было необходимо для "вхождения" в образ героя: я представлял себе раннее утро, все люди спят, тишина… вдруг у них под окнами раздаётся грохот барабана, люди его, мягко говоря, слышат, по тексту "то ближе он, то дальше", следовательно, этот весёлый ударник расхаживает у них под окнами. Я представлял себе дяденьку, которому через час надо вставать на работу и идти на какой-нибудь завод; встаёт этот ударник коммунистического труда, берёт ведро, набирает в него воды на кухне, подходит к окну, открывает фрамугу, выглядывает на улицу, слышит приближающийся грохот, прицеливается и ловко выливает десять литров на голову развесёлому барабанщику и на его барабан. Смешно? Наверное, да. Возможно, смеялся и сам герой с его кленовыми палочками, наш дядька, второй ударник, наверняка даже ржал, а потом шёл досыпать. Видимо, это естественное побуждение ̶ вылить ведро воды на юного кретина, мешающего людям спать, и обусловило наречение нашего юного музыканта, страдающего от бессонницы, "весёлым", но товарищ автор песни (впоследствии я узнал, что это был Булат Окуджава) не счёл нужным описывать последствия этой "музыки", слава богу, моё собственное воображение помогало мне органично входить в образ, и, исполняя это духоподъёмное с лёгкой грустинкой произведение, я всегда улыбался.
Третьим «хитом» в моём репертуаре была песня «Я первый ученик среди ребят», но её, слава богу, я мог исполнять только вместе с хором, что случалось реже. Эту песню я тоже не любил, но по другим причинам, а именно: мне было обидно наговаривать на самого себя. Если кто не знает текста этой песни, вкратце информирую: герой этого произведения в начале каждого куплета сообщает о том, что он – самый лучший, первый ученик, отличник, потом – мастер на все руки, замечательный спортсмен и так далее. А злорадствующий хор опровергает все его программные заявления ̶ уличает во лжи. Так вот, в реальной жизни я действительно был отличником и каждый год получал похвальные грамоты за отличную учёбу; во-вторых, несмотря на младость лет, я довольно много умел делать своими руками, не буду приводить примеры, действительно много. Что касается спорта, то и здесь я не был последним, да, не чемпион, но после того как я чуть не утонул в речке с символическим названием Сестра, я всё-таки научился плавать. Я первым из одноклассников освоил «перекидной» прыжок в высоту, я уже вполне прилично играл в волейбол, в то время как мои сверстники продолжали рубиться в пионер-болл и так далее. В общем и эта песня мне не нравилась.
Четвёртая репертуарная позиция ̶ "На прививку третий класс". Ну, тут я совсем не понимал, как такая песня может кому-то нравиться! Как нормальному, без мазохистских наклонностей ребёнку мне было понятно и про "дрожащие коленки", и по какой причине герою приходится прислониться к стеночке. Тем не менее я никогда в жизни не увиливал ни от уколов, ни от рыбьего жира, ни от горчичников: надо – так надо. Так что и тут искусство вступало в противоречие с моей реальной жизнью.
Так совпало, что в то время, начало шестидесятых, я со своим пением был, что называется, в тренде. Самым популярным иностранным певцом у нас был Робертино Лоретти – великолепный дискант итальянского мальчика можно было услышать из каждого окна. В фильме "Москва слезам не верит", в самом начале, как раз показана такая сценка. Справедливости ради не могу не отметить хронологическую неточность: Робертино стал известен в мире, тем более в Советском союзе, после 1960-го года, а его пластинки в нашей стране появились соответственно позднее, а не в 1958-ом году, как показано в этом кинофильме.









































