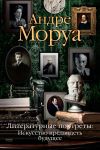Текст книги "Услады Божьей ради"

Автор книги: Жан д'Ормессон
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
III. От сына Тараса Бульбы до пышек настоятеля Мушу
Опасности, угрожавшие нашим традициям и мифам, всему зданию, оказавшемуся более хрупким, чем мы полагали, исходили не только изнутри, связаны были не только с перипетиями личной жизни и увлечениями нашей молодежи. Само правительство – надо было слышать, как презрительно произносили мы это ненавистное слово из четырех слогов, – делало все, чтобы разрушить наш мир с помощью разных выборов, немыслимых декретов и всевозможных учреждений, по поводу которых члены нашей семьи высказывались, не жалея эпитетов. Презирая наши привилегии, Республика придумала несколько ужасных механизмов, дабы разрушать наши устои и унифицировать общество. Таковыми стали всеобщие выборы, обязательная воинская повинность, образование для всех. В этом, становящемся все более враждебным мире, где представление о нашем естественном превосходстве подвергалось интенсивной критике, спасение виделось нами только в самоизоляции. В конце концов мы оказались единственными, кто еще в нас верил. Поэтому мы жили в узком кругу, охотились только со своими, женились только между собой. Нас называли гордецами. А мы были просто застенчивыми. Мы боялись других. Боялись будущего, ибо оно было противоположностью прошлого. Мы закрывали за собой все двери, ведущие во внешний мир, ставший слишком большим для нас и для наших чаяний, связанных с воспоминаниями. Школа и армия заставляли нас открывать эти двери.
Воинскую службу переносить было легче. Нам было проще общаться с офицерами, чем с преподавателями, с сержантами – чем с учителями, с солдатами – чем со студентами, с генералами – чем с профессорами, с учеными, с лауреатами Нобелевской премии по физике, по литературе, с теми, кто получил таковую, борясь за мир. Давняя привычка сближала нас с военными. Мы были и шуанами, и эмигрантами, и просто «бывшими». Но при этом всегда чувствовали себя ближе к противникам в военной форме, чем к сторонникам в гражданском. Боевое братство объединяло нас с республиканской армией, даже когда мы находились в противостоящем лагере. Нам были по душе ее порядок, ее иерархия, ее мощь и элегантность. Это были не наш порядок и не наша иерархия. Не наша мощь. И не наша элегантность, естественно, ни с чем не сравнимая. Мы не унывали в беде, и мой дед, случалось, приглашал в Плесси-ле-Водрёй отобедать или принять участие в охоте генералов, полковников, капитанов совершенно незнатных фамилий, но чьи взгляды, открыто высказываемые или тайные, были близки нашим.
Под высокими сводами салонов, в окружении портретов герцогов, пэров и маршалов, беседа текла, избегая двух опасных тем, затрагивать которые не решались даже самые смелые из них, новички, горячие головы, молодые лейтенанты, удерживаемые тайным инстинктом, двух тем: знамени и «Марсельезы». Разумеется, мой дед остался верен белому флагу, а все офицеры, его окружавшие, служили под трехцветным знаменем. Представляете себе, какое воздействие оказывали на старого монархиста слова национального гимна, который, кстати, он часто притворно путал то с «Карманьолой», то, в насмешку, с «Фарандолой» или с маршем тореадора из оперы «Кармен». Позднее, много позднее, когда молодежь нашей семьи, о которой пойдет речь ниже, стала плевать на былое знамя и насвистывать «Марсельезу», я поймал себя на мысли, одновременно и печальной, и забавной, что вспоминаю о моем дорогом дедушке, который в свое время некоторым образом проложил им к этому дорогу.
Армии в нашей среде было суждено играть все большую роль. Мы с восторгом открывали для себя, что в ней сохранились кое-какие отблески старого режима. Только ведь и остались в напоминание наших былых добродетелей, что армия и Церковь. Они по-прежнему словно напевали нам на ушко, в странно завуалированной форме, прежние мотивы. Когда страну стало раздирать «дело Дрейфуса», мы горячо выступили, сами понимаете, на чьей стороне, и вовсе не из-за маниакального антисемитизма, как думают поверхностно мыслящие люди, а только затем, чтобы защитить армию. В роли врага случайно оказался еврей. Что мы могли тут поделать? Мы даже и не утверждали, что именно он виноват. У нас же было так мало сведений. Мы полагали, что речь идет вовсе не о том, виноват он или нет. Мы просто считали, что перед обществом индивидуум должен отступить. Просто ему не повезло. Во Франции уцелели в ту пору только две иерархические системы: Церковь и армия. И вот некий безвестный капитан, не слушая увещеваний, стал упрямо бороться, попытался разрушить самую прочную из наших традиционных систем, под смехотворным предлогом, что он не виноват. «А те, кто жизнь отдал? – говорил мой дед. – Те, кто с гордостью погиб на поле брани, разве они были не такими же невиновными? Капитан Дрейфус должен был бы вести себя перед военным трибуналом как офицер при исполнении задания». И вот мы начали опять отдавать приказы французам. Дело Дрейфуса незаметно втянуло нас в споры о жизни общества, от которых мы раньше демонстративно самоустранялись. Это возвращение из внутреннего изгнания, к сожалению, получилось не слишком удачным. Приказы не были исполнены. Мы опять выбрали не тот лагерь. Над нами висело проклятие: после смерти короля, что бы мы ни делали, нам ничто не удавалось. Во вред ли нам или в нашу пользу следует добавить, что майор Мари Шарль Фердинан Вальсен Эстергази, наш дальний родственник, находился в родстве с Галантами, с Франко или Форхтенштейнами, с Сезнеками, Золиомами, потомками принцев Священной Римской империи, то есть с семействами, корни которых восходят к Крестовым походам, а может, и к Аттиле, с семействами, имевшими испокон веков право на титулы «Светлейший» и «Высокородный». Его долги нас мало смущали. Кстати, он как-то провел пару недель в Плесси-ле-Водрёе и довольно резко высказывался о своем товарище Альфреде Дрейфусе. Ему не нравился его взгляд, его голос, и вообще он был о нем невысокого мнения. И только через десять или двенадцать лет мы узнали, что майор Вальсен Эстергази был потомком наших кузенов лишь по женской линии. Последняя из французских представительниц рода Эстергази во время революции прижила незаконнорожденного сына от Жана-Сезара, маркиза де Жинесту, деда майора. Она воспользовалась беспорядком, царившим в то время, и записала сына под знаменитой фамилией Эстергази. Никто так и не сумел окончательно убедить моего дела в том, что виноват в скандальном деле был именно Эстергази. До самого конца жизни у него оставались сомнения. Однако он испытал некоторое облегчение, когда узнал, что майор носил фамилию Эстергази не совсем законно. Утешение слабое. Но в его глазах более чем значительное.
С делом Дрейфуса возвращения к практической жизни у нас не получилось. Зато получилось несколько позднее в связи с другими обстоятельствами. Такую вторую возможность нам опять предоставила армия. Кто говорит «армия», подразумевает «войну». А уж в этом-то деле мы были компетентны. И вот после очень долгой ссоры война вновь бросила нас в объятия Франции. Конечно, мы предпочли бы воевать вместе с Германией – где у нас было столько родни – против Англии и особенно против Соединенных Штатов, где мы почти никого не знали. Но мы начали понимать, что наше мнение мало кого интересует. Да и к тому же мы сражались в союзе с царем и святой Русью. Это было хоть каким-то утешением. Ну, и пора было, наконец, привыкать смиряться с обстоятельствами. На фронт мы отправлялись даже с чем-то вроде энтузиазма, вызванного, возможно, в некоей мере убийством Жореса.
Нетрудно понять, что заставляло нас выступать против страны, во многом для нас близкой. Нас вел к рубежам родины один из древнейших рефлексов нашей многовековой истории: собирание земель. Нам был гораздо ближе двор короля Пруссии и императора Германии, с его штабом, состоявшим из баронов и князей, с его пышной военной формой, чем наш режим адвокатов и ветеринаров. Нам лучше дышалось в древних башнях на берегу Рейна, чем в кабачках Марны, нам ближе были тевтонские рыцари, чем игроки в шары или рыболовы с их удочками. Но каски с острым шишаком, длинные кожаные шинели, меховые шапки с изображением черепа на них бледнели, когда возникали другие, более заманчивые картины: синие дали Вогезов, их леса, горы и долины. Мы веками жили затем, чтобы завоевывать земли. Мы прошлись по Востоку, по Италии, по берегам Рейна, по Центральной Европе, движимые страстью к земле. Эльзас и Лотарингия были для нас столь же священны, как и фермы Центрального массива, Русеты или Руаси. Франция была большим земельным владением, и мы существовали для того, чтобы расширять его границы. Падение Наполеона III не очень нас огорчило, а вот потерю земель, собранных нашими королями, мы тяжело переживали. Республика пленила нас потому, что даже в напудренных париках или в латах, даже в замках или в Версале, даже с нашими охотничьими угодьями и псарнями – и несмотря на наши мечтания, а иногда и благодаря им, – мы, тем не менее, всегда оставались крестьянами.
У моего деда брата убили на Марне, одного племянника – на Сомме, другого – в Дарданеллах, двух сыновей – под Верденом, а третий был ранен под Эпаржем и убит на Дамской дороге: то был мой отец. Ему было тогда тридцать пять лет, а мне – чуть больше четырнадцати. Он вроде бы втайне был на стороне Дрейфуса и вроде бы очень хотел жить. Но его взгляды и сама его жизнь не имели большого значения, поскольку он не был старшим и поскольку он носил нашу фамилию, что и оказалось самым существенным. Почести и привилегии не создают таких прочных связей, как жертвы и траур. Благодаря смерти своих сыновей наша семья возвратилась в историю Франции, ставшую было для нас за последнюю сотню лет чужой страной. Вокруг нас вполголоса, но с гордостью говорили, что то один, то другой герой из нашей семьи напильником стирал со своих медалей слово «Республика» и изображение Марианны: умирать за них мы были согласны, но носить на груди отказывались. Ну да это не столь важно. Менее чем за четыре года дедушка прошел в шести похоронных процессиях, а затем присутствовал вместе со всей семьей на параде победы. Г-н Пуанкаре и г-н Клемансо пожимали ему руку. Никогда еще не видели мы так близко радикал-социалиста, активного борца крайне левого крыла республиканцев, пусть даже и образумившегося. Дедушка оставался монархистом, но теперь он стал любить Францию. Говорят, что некоторые даже видели, как он приветствовал трехцветное знамя и вставал при звуках «Марсельезы». Он смирился с гибелью своих детей не потому, что любил отечество. Но гибель сыновей примирила его с отечеством. «Надеюсь, – сказал он г-ну Дебуа, – я не становлюсь социалистом».
Нет, он не становился социалистом. Мало того, он с удивлением обнаружил новое лицо социализма: большевизм в России. В 1912 или 1913 году к нам в Плесси-ле-Водрёй приезжал дядюшка Константин Сергеевич, занимавший высокий пост при дворе, являвшийся председателем земства в Крыму, владевший двадцатью или тридцатью тысячами душ, которым он, кстати, сам дал вольную, владевший также бесчисленными отарами овец, числа которым он не знал и сам. Он заказал для себя, семьи и свиты два вагона, неслыханно роскошные по тем временам, которые прицепляли к разным поездам, пересекавшим Европу, побывал в Вене, Мариенбаде, Баден-Бадене и оказался в Ницце, где всегда было много русских и англичан. Там он снял на полгода, разумеется с октября по май, целых три этажа в самом большом отеле города: второй этаж – для прислуги, третий этаж – для него и его семьи, а четвертый этаж оставался пустым, чтобы не было никаких шумов. Дядюшка Константин Сергеевич был вылитый генерал Дуракин, главный персонаж одноименного произведения. Ничего удивительного: графиня де Сегюр, урожденная Ростопчина, наша тетушка, создавая портрет своего героя, ворчливого добродетеля, вдохновлялась внешностью деда дядюшки Константина, князя Александра Петровича.
Богатство Константина Сергеевича было баснословно. Его щедрость, его беззаботность и безумное расточительство – тоже. Он не имел ни малейшего представления о размерах своего богатства и раздавал танцовщицам, парикмахерам и горничным изумруды и бриллианты, которые нынче украсили бы любую коллекцию, любой государственный музей. По странному стечению обстоятельств дядя Константин был в наших глазах отъявленным либералом. У представителей русской ветви нашего семейства складывались странные отношения с домом Романовых. В 1825 году наши родственники были замешаны в заговоре декабристов против императора Николая, и некоторые из них были сосланы в Сибирь, а впоследствии именно нашей семье были обязаны своим спасением многие революционеры, социалисты и анархисты. В просторных салонах замка Плесси-ле-Водрёй вспыхивали бесконечные споры между дедом, легитимистом, и дядей Константином, преклонявшимся перед Англией и философами-либералами, перед конституционной монархией и режимом Луи Филиппа. Мы были за царя, а он защищал поляков. Он был за Мирабо и Тьера, упорствовал в восхвалении Талейрана. Мы же их терпеть не могли из чувства верности к традиционной монархии, которая еще царила в его стране и которую он пытался направить в сторону либерализма и чуть ли не демократии. Дедушка и он любили друг друга, но сходились только в одобрении франко-русского союза, имеющем, правда, у того и другого совершенно различные корни: русский родственник восхищался республикой, а мы – самодержавием.
Когда в 1917 году несчастный Керенский поколебал режим Романовых, дедушка разгневанно воскликнул: «Опять Константин натворил что-то!» Через несколько месяцев мы узнали – и весть эта до сих пор остается для нас кровоточащей раной, – что в Крыму уничтожены все, кто носил нашу фамилию. Князь Константин, его жена и его шесть детей, его семь внуков, его братья и сестры, двоюродные братья и человек десять прислуги были расстреляны у края могилы, которую их же самих заставили выкопать. Начали с самых маленьких, с двухмесячной Анастасии и полуторагодовалого Александра. Дядя Константин видел, как падали в лужи крови его родные, и умер последним, вместе со старым кучером, которого мы прозвали Тарасом Бульбой и который четырьмя или пятью годами раньше, в своей кучерской крылатке с широким кушаком и меховой шапке, производил на нас в Плесси-ле-Водрёе большое впечатление. От русской ветви нашего семейства остался в живых только один кузен, лишь потому, что оказался проездом у нас. Впоследствии, возможно, из унаследованной от предков любви к униформе и каске, он стал капитаном пожарной команды.
Последние слова князя были обращены к моему деду, которого он нежно любил, несмотря на их споры, и к свободному русскому народу: «Передайте Состену, что не все потеряно, что великая и сильная Россия возродится и что имя будущего – свобода». «Вот к чему приводит либерализм», – вроде бы прокомментировал мой дед.
Больше года получали мы об этой трагедии только обрывочные и противоречивые слухи. От расправы уцелел только сын Тараса Бульбы. Ему удалось бежать и спрятаться, а потом добраться до Константинополя. В конце весны 1919 года он приехал в Плесси-ле-Водрёй. В тот вечер в замке устраивали торжественный обед и бал, первый после траура по погибшим на войне. Дедушка как раз только что пригласил на вальс одну из кузин д'Аркур или Ноай, когда дверь зала распахнулась и вошел господин Дебуа, а за ним появился грязный, взлохмаченный юноша в отрепье. То было явление самой истории, которую мы не узнали: слишком далеко отошли мы от нее, слишком ослабли некогда тесные связи между ней и нами. Оркестр замолк, наступила тишина. Дед недовольно повернулся к интенданту с немым вопросом. Тот пробормотал несколько слов и отступил за спину незнакомца. Борис выступил вперед, поклонился и быстро заговорил с сильным славянским акцентом. Пораженные присутствующие замерли, обступив юношу в том самом зале, где еще совсем недавно так шумно веселился дядюшка Константин. «Господин герцог, – сказал юноша, – князь погиб. Он велел мне сказать вам, что не все еще потеряно и что у будущего название – свобода». Необычными были эти слова, прозвучавшие в Плесси-ле-Водрёе. Нужна была великая катастрофа, чтобы осмелиться произнести их в присутствии деда. Сын Тараса Бульбы оказался мальчиком удивительно смелым и умным. Дедушка обучил его французскому языку и дал денег для продолжения учебы. Результаты оказались блестящими. Менее чем за двадцать лет он стал одним из крупнейших физиков своего времени. Работал с Луи де Бройлем и Жолио-Кюри, а в 1961 году сын Тараса Бульбы, профессор Колледжа Франции, командор ордена Почетного легиона, был единогласно избран членом Академии наук. Если бы дедушка дожил, он наверняка был бы удивлен, взволнован и поражен новыми временами, которые, кстати, и сами уже стали проявлять явные признаки одышки и истощения. Смелость и новшества, которым мы не переставали удивляться, уже погружались в прошлое. А через два или три года, накануне своей отставки, Никита Хрущев пригласил в Москву делегацию Французского Института. В числе других поехал и Борис. Его радушно приняли его бывшие земляки. Они вместе пили водку, поминая Ивана Грозного, Петра Великого, товарища Ленина и вместе проливали горячие и сладкие слезы по поводу судьбины старой России. Чтобы помешать моему дедушке размышлять об истории, Всевышний в своей великой благости призвал его к себе.
Великая Первая мировая война привела не только к примирению моего семейства с Францией и к падению Российской империи. Она привела также к распаду другой монархии и династии, всегда игравшей важную роль в истории нашей семьи: династии Габсбургов и Австро-Венгрии. Ненавидя орлеанистов, мой прадед, чтобы не служить Луи Филиппу, во время июльской монархии в течение четырех лет носил белую униформу австрийской армии. Он жил, тогда в роли оккупанта, в Венеции, где влюбился в итальянскую графиню, чей готический дворец возвышался над Большим каналом, между мостом Риальто и площадью Святого Марка, почти напротив академии. Его романтические приключения вдохновили, уже в наши дни, Лукино Висконти на один из его знаменитых фильмов, «Чувство», где в персонаже любовника Алиды Валли выведен отец моего дедушки.
Австро-Венгрия, подобно России и Германии, тоже была страной, где мы чувствовали себя как дома. Для нашего семейства, как и для Талейрана, чьи взгляды мы в общем и целом разделяли. Австрия была еще палатой пэров Европы. Крах ее поверг нас в ужас. То, что появилось на ее развалинах – Чехословакия, новая Венгрия, огромная Югославия, – было нам абсолютно чуждо. Святое неведение порой идет дальше компетентности и таланта. Дед мой, ничего не знавший, предсказал грядущие в недалеком будущем катастрофы: крушение Срединной империи в Китае, крушение Двуглавой монархии и всего того мира, ушедшего в небытие, который столько раз сражался против славян и турок, справлял столько праздников под знаком двух согласных, так нами любимых: «К und К – Kaiserlich und Königlich», – императорский и королевский. Вместе с Габсбургами погибла частица нашего сердца и нашего прошлого. Вместе с тем война помогла нам вновь найти Францию, наше отечество. Она же была причиной потери трех других родных стран: Германии, нашего поверженного противника, святой Руси, утонувшей в крови, и Австро-Венгрии, разорванной в клочья. Победы в еще большей мере, чем поражения, способствовали исчезновению любимого нами мира. История, так долго помогавшая нам, перестала быть нашим союзником.
Но было и нечто похуже. Мы так любили прошлое, что охотно согласились бы отказаться от настоящего и будущего, если бы нам сохранили хотя бы память о прошлом. Республика отняла ее у нас путем введения обязательного обучения. Уже само обязательное начальное образование для всех достаточно раздражало нас, потому что могло сокрушить дорогие нам барьеры между кастами. Однако оно нам не нравилось еще и потому, что не только дети других сословий должны были ходить в школу, но также и наши собственные. В отличие от буржуазии, мы вовсе не дорожили образованием ни для чужих, ни для своих детей. Веками мы видели мир таким, каким хотели его видеть, и он подчинялся нашим законам. А тут писаки-лицеисты, профессора-радикалы и интеллигенты-социалисты захватили этот мир и заставляли нас приспосабливаться к их меркам и правилам, прежде чем выпустить нас в жизнь. «Не знаю, – говорил мой дед, – какое будущее ждет моих детей. Но хотелось бы хотя бы прошлое оставить им таким, какое мне нравится». Однако на горизонте, долгое время таком чистом, окрашенном в цвета верности и чести, уже забрезжили новые ценности, к которым мы не были подготовлены: правда и свобода.
Свободу мы ненавидели. Мы ее ни во что не ставили. Для нас она была связана с бунтом, с правом выбирать, с индивидуализмом и анархией. Пока власть была в наших руках, мы относились к свободе с недоверием и презрением. «Что касается терпимости, то для нее есть специальные дома», – любил повторять мой дед. Только под сильным давлением либералов и социалистов мы бывали вынуждены тоже, в свою очередь, ссылаться на столь ненавистную нам свободу. Нам по-прежнему было трудно признать ее в качестве принципа. Мы апеллировали к ней лишь из тактических соображений. Я слышал, что это именно моему делу принадлежит знаменитая фраза: «Я требую свободы во имя ваших принципов и отказываю вам в ней во имя моих принципов». Мы немного стыдились прибегать к демагогии и к свободе в наших попытках вернуться к истинным источникам незыблемого вечного и как бы лишь ненадолго нарушенного порядка. Но только вот разве был у нас выбор? В извращенном мире, где все пошло прахом, мы пользовались свободой лишь для того, чтобы восстановить власть. Поскольку заблудшие овцы своим количеством, силой и хитростью навязывали нам нестерпимую терпимость, приходилось пользоваться свободой, чтобы восстанавливать истину в море лжи.
Свобода была вопросом тактики. Истина же ставила много других проблем. Полагаю, что их можно свести к одной провокационной формуле: истина – это мы. Боюсь, что я немного преувеличил. Скажем иначе: она принадлежала частично Богу, а частично нам. С самого начала этих воспоминаний о временах минувших две области, два созвездия, два коктейля из реальности и мифов смущали меня одновременно и своим мощным присутствием, и своей двусмысленностью. Я не говорю здесь ни о нравах, ни о честности, ни об уме, ни о любви к людям. Все это изменилось, но мы чувствовали себя уверенно в более или менее однородных системах, где нам было легче чувствовать свое превосходство. Что сегодня труднее всего объяснить, поскольку нам и раньше тут не просто было разобраться, так это наши взаимоотношения с деньгами и с Богом. О деньгах я уже говорил, и к этой теме мы еще вернемся. Поговорим же сейчас немного о Боге.
Мы не были чрезмерно набожными. Слишком много мы знали пап, кардиналов, епископов, равно как и святых, слишком много их вышло из нашей среды, и поэтому мы смотрели на них с некоторой долей фамильярности. Эта фамильярность не мешала нам относиться к ним с уважением, почтительностью, преклоняться перед ними. Однако она предполагала сообщничество, некое соучастие в существовавшей системе и ее порядке. Мы уважали короля, поскольку он уважал нас. Мы уважали святейшего Папу Римского, поскольку он и собор кардиналов уважали нас. Мы были на равных. Между Церковью и нами, между Богом и нами существовали пакты о взаимопомощи. Мы были старшими сыновьями Церкви, помазанниками Господа. Все они нас защищали. В обмен мы их тоже защищали. Не хочу сказать, что это были отношения «ты – мне, я – тебе», ибо мы все же заранее и безоговорочно вверяли себя всем предписаниям Божественного провидения. Впрочем, в момент величайших катастроф становилось очевидным, что Церковь выделяла нас из толпы, относилась к нам иначе, чем к тем, кого презрительно называют паствой. Мы не смешивались с простыми прихожанами. Я не посмел бы сказать, что Господь стоял на одном уровне с нами, что он был нашим партнером, и уж тем более я бы не сказал, что он был нашим клиентом в римском значении этого слова, персоной, пользующейся нашей поддержкой. Нет. Конечно же, нет. Но он был у нас в долгу.
Однажды, будучи проездом в Риме, матушка моего деда должна была получить причастие из рук Папы Римского. За несколько минут до начала мессы некий кардинал сообщил ей, что Папа то ли болен, то ли занят, точно не знаю, но что старейшина собора кардиналов готов дать ей причастие. Прабабушка отказалась со словами: «Для нас или Папа, или ничего».
Оставили след в нашей истории и взаимоотношения монархии с иезуитами, и галликанство, и янсенизм, и соперничество Боссюэ и Фенелона, и борьба Филиппа Красивого с тамплиерами, и оскорбление в Ананьи, где объявили о пленении Папы Бонифация VIII. А также святая Клотильда, обратившая в христианство своего мужа, короля франков, Хлодвига I, дуб Людовика Святого, папские зуавы, обращение аббата Ратисбонна на похоронах дядюшки Альбера де Ла Ферронэ в Сан Андреа делле Фратте. Все оставляло на нас своей след, будто на бархате или на очень ветхой ткани. Не было такого прошлого – французского, католического, римского, – которое бы не оставило на нас своей неизгладимой печати. Преобладал то один из них, то другие. Кое-кого из представителей нашего семейства угораздило впасть в неистовую религиозность, в мистицизм, в святошество. Иные отклонялись скорее в сторону Вольтера. Этот последний, в отличие от Руссо или Дидро, не попал в черный список французских литераторов. Некоторые из наших, например мой двоюродный прадед Анатоль, очень ценили Вольтера, в том числе и за его антиклерикализм. Но большинство не впадало в крайности. Элегантность и верность обязывали. Мы любили Бога, поскольку он явно любил нас больше, чем других. Ведь было бы крайне невежливо не обнаруживать чувства благодарности к тому, кто издревле так много делал для нас! Быть может, за нашей верностью Папе Римскому, за бесчисленными поцелуями, которыми мы усыпали перстень архиепископа, за воскресными обедами с настоятелем Мушу скрывалось хотя и смутное, но очень давнее опасение, что Бог станет меньше любить нас, если мы будем меньше любить его слуг. И именно благодаря тому, что Елеазар избежал неволи у нехристей, благодаря тому, что единственный мужчина в семье не погиб под Азенкуром, благодаря тому, что двое из наших избежали гильотины, чего оказалось вполне достаточно, чтобы продолжить род, благодаря тому, что наш род стал пользоваться Господней милостью раньше Бурбонов, настоятель Мушу по воскресным вечерам обжирался нашими пышками под малиновым соусом, одновременно и легкими, и жирными, а посему нравившимися ему превыше всего остального. К концу своей жизни настоятель Мушу мне сам рассказывал, что, когда нашу семью постигало несчастье, например когда пришла в дом тетя Сара, когда женился дядя Поль, когда погиб под Верденом дядя Пьер, а на Дамской дороге погиб мой отец, вместо пышек под малиновым соусом по воскресным вечерам подавались на протяжении нескольких недель довольно безвкусные фруктовые салаты. Настоятель был уверен, и, возможно, он был прав, что это изменение в меню было своего рода местью. Быть может, наказывая настоятеля, мы наказывали Господа за то, что тот покинул нас. Когда дела налаживались или когда забвение притупляло боль, наше благочестие вновь одерживало верх. Мы прощали Господу Богу. Мы лобызали наказавшую нас руку. И настоятель Мушу вновь получал свои пышки.
Разумеется, мы никогда не переставали воздавать соответствующие почести самому Господу Богу. Мессы, вечерни, крестные ходы, шествия 15 августа или в день Тела Господня, почитание Богоматери – «Аве, Мария»… или «Месяц Марии, месяц май, самый прекрасный из всех…» – являлись такой же частью нашей жизни, как псовая охота и семейные портреты. Но дело тут было не в набожности или не только в набожности. Это была парадная сторона нашей жизни. Мы показывали пример другим. Пример играл в нашей жизни парадоксальную и важнейшую роль. Парадоксальную, поскольку мы не трудились. А важнейшую потому, что мы делали все лучше других. Все смотрели на нас. Подражали нам. То, что делали мы, было хорошо. А то, что мы не делали, было плохо. «Ведите себя достойно. На вас смотрят» – таков был лейтмотив, передаваемый детям из поколения в поколение. Мы были возможно гордецами? Я не уверен в этом. Мы были, скорее, людьми скромными, придавленными грузом своего величия. И Бог был частью этого величия. И этой придавленности. Опускаясь перед ним за колени, мы становились еще величественнее. Что касается смирения, то тут мы не боялись никого. Мы падали в прах, а Господь, распознавая своих, брал нас за руки и возносил до себя.
Многие в своих суждениях о нас очень и очень ошибались. Они обвиняли нас в лицемерии. Но лицемерить – это значит притворяться, маскироваться, выставлять напоказ чувства, которые не испытываешь, и скрывать истинные свои чувства. Мы же ничего не скрывали и никогда не притворялись. Те, кто не верил в Бога, не стеснялись говорить об этом. Остальные готовы были, если надо, за него умереть. Большинство из нас верили в Бога изо всех сил. Некоторые были скептиками и ели по пятницам скоромное, но потом все же умирали в благочестии. Так что мы, в общем и целом, были верующими людьми. И как верующие люди мы проявляли упорство, смирение, порой склонность к безумным поступкам, порой непонимание происходящего и всегда – непреклонность. Как нам было не верить в Бога, сделавшего нас такими, какими мы стали? Вознося ему молитвы, посвящая ему наши благие дела и благие порывы, мы знали, что он примет их и будет продолжать заботиться о нас. Усомниться в Боге означало бы отречься от самих себя. Об этом не могло быть и речи.
Благодаря чудесной встрече мы открыли для себя классический порядок, разум великого века, Декарта, о котором почти ничего не знали. Для нас Бог был прежде всего гарантией всеобщей уверенности, замковым камнем свода всего здания, на вершине которого, с Божьей помощью, находились мы. Бог все сотворил, и, продолжая и дальше творить, он постоянно поддерживал незыблемый порядок вещей и живых существ. Не верить в Бога означало бы исключить себя из вселенной, предаться безумию, ненужной и заведомо осужденной ярости. Мы считали, что атеист не может ничего понять ни в устройстве вселенной, ни в истории человечества, ни, разумеется, в морали, ни в геометрии. Почва должна была уходить у него из-под ног. Мы же шагали под всевидящим Господним оком, имея его благословение и выполняя его волю. Наша заслуга тут была невелика, поскольку он сам желал нашего величия.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?