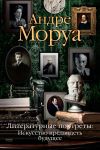Текст книги "Услады Божьей ради"

Автор книги: Жан д'Ормессон
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Достаточно ли ясно я осветил свое положение в составе семьи к моменту появления г-на Жан-Кристофа Конта в Плесси-ле-Водрёе? Отец мой погиб достаточно бедным, почти не оставив состояния, так как много тратил, мать вела уединенный образ жизни, совершая длительные визиты во все приюты и тюрьмы, которые она только могла обнаружить в относительной близости от замка, дедушка по-прежнему царил, но управляла всем тетя Габриэль, тогда как уйма двоюродных дедушек и бабушек, дядюшек и тетушек, кузенов и кузин плели вокруг окаменевшего древнего сооружения ткань, защищавшую его от внешних влияний. Дети дяди Поля и тети Габриэль пользовались всеми преимуществами: со стороны Реми-Мишо – богатством, а с нашей стороны – званием детей старшего брата, будущего главы семьи. Я же находился как бы на обочине. Г-н Жан-Кристофер Конт в конце каждого месяца получал конверт с жалованьем из рук дяди Поля или тети Габриэль. Что до меня, то меня приглашали в огромный учебный зал на последнем этаже замка подобно тому, как других небогатых кузенов приглашали на псовую охоту в лесу или на воскресный ужин в столовую под огромные картины Риго. Мы встречали г-на Жан-Кристофа Конта вчетвером: мои двоюродные братья Жак и Клод, я и сын г-на Дебуа, управляющего замком. Всем нам было лет по пятнадцать – семнадцать, и мы готовились, защищенные древними стенами Плесси-ле-Водрёя, встретить в свою очередь все опасности этого мира: женщин, учрежденные республиканской администрацией экзамены, социалистов, приключения, – все, что в романах называлось судьбой и выглядело как история, творимая у нас на глазах, но далеко от нас, по ту сторону парка, за кладбищем в Русете, за фермами и за лесом.
Жан-Кристоф удивил нас в первый же день. Все, что нам рассказывали учителя-иезуиты и настоятель Мушу, нам уже страшно надоело. Жан-Кристоф сразу распахнул перед нашими веками закрытые окна, открыв нашим взорам неведомые пейзажи. В понедельник утром, войдя в учебный класс, где мы вчетвером со смутным волнением ждали его, он сразу же заявил, что понимает обучение как своего рода дружбу и что мы можем обращаться к нему на «ты». В Плесси-ле-Водрёе редко обращались друг к другу на «ты». Мы говорили «вы» и родителям, и, естественно, дедушке, настоятелю Мушу и всем учителям. Жан-Кристоф, улыбаясь, сказал, что видит свою задачу не в принуждении, а в помощи и что надеется, что мы станем друзьями. И пока мы, опешив, приходили в себя после такого неожиданного заявления, он прочел нам стихотворение Верлена, начинающееся словами: «Что хочешь ты, воспоминанье? Уж осень…» Это стихотворение, с его особой мелодией и туманным силуэтом молодой женщины, навсегда осталось у меня связанным с учебным летним залом на последнем этаже замка Плесси-ле-Водрёй и с обаятельным образом нашего преподавателя, невысокого, слегка сумрачного и, тем не менее, такого живого брюнета.
Несмотря на его безвкусные галстуки, Жан-Кристоф Конт очень скоро стал для нас чем-то вроде полубога, необходимого и благосклонного. У нас было мало друзей. Мы почти ни с кем не встречались, кроме провинциальных кузенов, гостивших в замке, да соседей, приглашаемых строго по списку на полдники, да охотников на конях, в красных куртках с синей отделкой, с рогом, висящим на шее. Я был очень близок с отцом, но мне и в голову не пришла бы мысль считать его своим другом. Я любил его и уважал. Быть может, от того, что он погиб, когда я был еще мальчишкой, я не считал себя ровней ему. Я находился у него в подчинении. Он знал людей и смысл всего, а я их не знал. И он, как отец, должен был передать сыну эти знания. А Жан-Кристоф, наоборот, по примеру Сократа, заявлял, что ничему нас не учит. Он открывал нам лишь то, что уже было в нас. Мы несли в себе свой мир, но не подозревали об этом.
Инструментом для этого открытия, которое, можно сказать, перевернуло нашу жизнь, были книги. Г-н Конт сделал, может быть, только одну, но исключительно важную вещь: он приучил нас к чтению. В Плесси-ле-Водрёе были не только гостиные и спальни, не только столовые и часовня, но, разумеется, и огромная библиотека, куда порой приходили работать бородатые ученые с лорнетами и девушки, близорукие раньше времени. Библиотеку Плесси-ле-Водрёя, ее книжные шкафы светлого дерева, дубовые лесенки и кожаные кресла знали все. Она насчитывала тридцать или тридцать пять тысяч томов, в том числе много инкунабул, редких и уникальных изданий, произведений, вышедших из обращения, а порой и никому не известных, а также много гравюр и эстампов исключительной красоты, юридических и финансовых документов, которые никто из нас не видел, а также включала одну из самых крупных во Франции, а может, и в мире частных коллекций автографов, так как архивисты, преисполненные радости и зависти, обнаружили там письма Энеа Сильвио Пикколомини, известного под именем папы Пия II, Игнатия Лойолы, Хуана де ла Крус, Дюгесклена и Жанны д'Арк, Леонардо да Винчи, Людовика Святого, Франциска I и Карла V. А также уникальную драгоценность – буллу, в которой Александр VI Борджа канонизировал императора Алексея. Мы прочли очень мало книг из этой библиотеки. В углу одной из пяти огромных залов, занятых под библиотеку, стоял деревянный сундук с довольно посредственными романами, а над ним располагались полки, на которых стояли «Мемуары» Сен-Симона и г-жи де Буань, исторические труды о Марии Антуанетте и о маршале Ришельё, «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана, религиозные книги, а также переплетенные в красную шагреневую обложку подшивки журнала «Иллюстрасьон», очень неудобные из-за своего огромного размера и из-за приложения к нему с пьесами, называвшегося, если не ошибаюсь, «Петит Иллюстрасьон». Мы редко заходили за пределы этих привычных полок, а вся остальная огромная библиотека была неким подобием дремотного поля под парами. Г-н Конт стал водить нас на экскурсию по этим залам, где мы делали открытия, запомнившиеся нам на всю жизнь. Мы открыли для себя Корнеля и Расина в роскошных переплетах, Лафонтена в дореволюционном издании, дошли до редких в доме романтиков с иллюстрациями Гюстава Доре, не знаю, по чьей оплошности – или коварному умыслу – проникших в Плесси-ле-Водрёй. Там, к нашему удивлению, мы обнаружили «Рассказы вальдшнепа» Мопассана, которые мой прадед или кто-нибудь из его братьев, возможно, принял за пособие по охоте на птиц.
Возможно, дед мой и его окружение были не так уж и не правы, опасаясь чтения книг. Как только мы ступили в это заколдованное царство, окружавший нас мир сразу провалился в небытие. В более глубоком исследовании вы бы узнали, наверное, о разных судьбах четырех учеников г-на Конта, о тех, кто любил книги, и о тех, кто их не любил. Надо сказать, что все мы с одинаковым рвением бросились постигать законы и закономерности веры, ревности, честолюбия, любви к природе, военных приключений, изучать особенности провинциальной жизни при Реставрации, жизни в Версале при Людовике XIV и в Париже времен Вольтера. Конечно, было бы преувеличением сказать, что раньше мы никогда ничего не слышали о Вийоне, Дидро, Бальзаке, Жане Жаке Руссо. И мы лучше многих знали, как пахнет лес после дождя, как выглядят озера лунной ночью, когда олени приходят на водопой, как жили предки до изобретения машин и до появления массовой культуры, знали все, о чем история и природа рассказывают долгими летними вечерами, или осенью, или, еще лучше, зимой, перед камином, где горят огромные поленья, – одним словом, все то, что мы находили то в одной книжке, то в другой, читая по ночам, когда не спалось, или в дождливый день. Чтение было развлечением, поводом сладко помечтать, повспоминать, то беря книгу в руки, то откладывая ее. Но раньше таинственный мир книг оставался для нас закрытым. Сцены из «Полиевкта» Корнеля и «Афалии» Расина, стихи Ламартина, картины из произведений Фенелона, письма Вольтера, пасторали Жорж Санд мало что нам говорили. Ничто в них не являлось частью нашей жизни, ничто не говорило о нас самих. Мы учили наизусть то, что требовалось знать наизусть, но очень редко эти тягостные упражнения прерывались словом, чувством, рассуждением или описанием, способными хоть на минуту заставить нас закрыть глаза и пережить, наконец, такое озарение, когда боль и радость сливаются воедино.
За несколько месяцев, за несколько недель г-н Жан-Кристоф Конт заставил нас полюбить книги. Он научил нас выбирать и понимать их, искать то, что нам нравится, объяснять самим себе, что и почему не нравится. Он начал с того, что сократил дистанцию между нами и книгами, между нами и их авторами, между нами и их идеями. Он не заставлял нас восхищаться всем величественным материком французской литературы от «Песни о Роланде» до Пеги. Мы получили право брать только то, что нам нравилось. Отбрасывали в сторону «Горация» Корнеля и занимались «Сидом». Задолго до Робера Бразильяка Жан-Кристоф представлял нам его в виде героя плаща и шпаги, молодого, красивого, отважного, немного сумасшедшего, довольно опасного, немного рыцаря-феодала, немного бандита с большой дороги, опьяненного любовью и страстью к приключениям, возможно, являющегося, как заметил с улыбкой учитель, «одним из ваших предков», а Жак поднимал руку и отвечал, что это действительно так, поскольку по линии матери одной из прабабок мы являемся потомками Каррионов, которые происходят от Биваров. Мы несколько пренебрегали приключениями Телемаха и набрасывались на гораздо более увлекательные приключения юного Жюльена Сореля. Мы вышли, наконец, за пределы замков и впервые в жизни зашагали по большим дорогам, отправлялись в незнакомые страны, стали заходить в лавочки, в тайные собрания, в хижины и тюрьмы. Читая вольтеровского «Задича» и романы Бальзака, мы знакомились с детективным романом, узнавали о противостоянии наших предков и парламента из «Мемуаров» Сен-Симона, читали про повсеместный подъем буржуазии и про революцию у Мишле и Гюго. «Мишле? – тихо шептал дедушка, – Мишле!..» А через книги Золя к нам приходила догадка о существовании неизвестного нам общественного класса, само название которого казалось порожденным какой-то адской мифологией, о рабочем классе и о промышленном пролетариате.
Мы буквально утонули в книгах и провели три или четыре года в терзаниях и восторгах запойного чтения. Как вы понимаете, всемирная литература не выдала нам за три, шесть или восемь месяцев все свои секреты. Но мы очень скоро научились читать текст и судить о нем. Не скажу, что мы уже тогда могли безоговорочно решать, хорош он или плох, но мы стали понимать, нравился он нам или нет. Это важный этап, причем не только в чтении, – знать, что тебе нравится. Господин Жан-Кристоф Конт мог быть доволен своей командой читателей-неофитов, которых он извлек из небытия и которые на период с осени до весны уезжали в Париж, на улицу Варенн, а два или три раза за лето возвращались в Плесси-ле-Водрёй. В наши вены проник своеобразный яд. Нам необходим был этот наркотик. Каждая книга, каждый писатель отсылал нас к другим книгам и писателям. Вокруг нас возник воображаемый мир: нечто вроде гигантской головоломки, существовавшей лишь на бумаге, и по парадоксальному везению или невезению, по мере того, как мы продвигались вперед, обнаруживалось, что не хватает все больше и больше элементов игры. Мы были обречены на бесконечный поиск отрывков нашего сновидения. По истечении нескольких месяцев, а может, года или даже немного больше Жан-Кристоф решил не ограничиваться писателями прошлого. Он приносил нам время от времени на воскресенье, или на рождественские праздники, или же на время болезни только что изданные книжки, от одного вида которых у нас начинало учащенно биться сердце. Мало было бы сказать, что мы искали в них неизвестных нам решений. Мы не знали даже, какие проблемы надо решать. И каждый раз, видя желтую или зеленую обложку книжки издательства Грассэ или белую обложку с черными и красными полосками потрясающего издательства Галлимар, мы думали, что в ней скрываются проблемы, которые мы еще не сумели для себя сформулировать, а может, и их решения. Но не решений мы хотели, не в них нуждались: у нас за спиной были века решений. Нам нужны были острые современные проблемы. Однажды Жан-Кристоф представил нам артиллериста с перевязанной головой, который зафиксировал свои мечты не только во времени, как другие поэты, но и в пространстве, как художник или скульптор. А на следующий день один молодой гениальный еврей вернул нас, как это ни странно, в более привычный для нас мир. Малозначительные истории про полученные либо недополученные поцелуи, про буржуазную жизнь в провинции и про обеды в Париже с участием наших кузенов Шевинье и Монтескью должны были впоследствии стать для нас – догадывались ли мы тогда об этом? – одной из наших библий. Помню, у Жака в ту пору был то ли грипп, то ли скарлатина. Он схватил книгу и прочел первые строки из нее: «Давно уже я привык укладываться рано. Иной раз, едва лишь гасла свеча, глаза мои закрывались так быстро, что я не успевал сказать себе: „Я засыпаю“. А через полчаса просыпался от мысли, что пора спать; мне казалось, что книга все еще у меня в руках и мне нужно положить ее и потушить свет…»[3]3
Перевод Н. М. Любимова.
[Закрыть]. Лишь много позже мы узнали, что Марсель Пруст долго жил на бульваре Османн, в одном из домов дедушки.
Так в нашу жизнь вошли Рембо и Аполлинер, Лотреамон и Андре Жид. Мы обнаружили, что мир многолик, что разные его образы отрицают друг друга и что он представляет собой не что иное, как серию взаимных взглядов, которые последовательно накладываются один на другой. Каждая новая книга опровергала то, что мы только что прочли в предыдущей, и предлагала нам новые пути к истине и красоте, куда мы тотчас же и устремлялись. Такое чередование бездн отчаяния и безумных надежд потрясало наши неокрепшие души. При этом мы не отбросили прежние ценности клана. Мы читали Морраса и Шатобриана одновременно с книгами Альфреда Жарри и сюрреалистов, которые будоражили нас. Кстати, примерно в то время некоторые из них ужинали в доме на улице Варенн, о чем мы и не подозревали. Все это крутилось в наших головах, никак, естественно, не связываясь в стройную систему, чего мы, собственно, и не хотели, бросая нас из несказанного счастья в глубочайшее уныние. Иногда в летнюю пору, ошалев от чтения, мы откладывали прочь все книги и не открывали их недели по две, чтобы перевести дух и просто пожить. А потом возвращались к своему привычному пороку. Вокруг нас все рушилось от безжалостных ударов, наносимых словами, фразами, запятыми, точками, волшебными именами, существительными, глаголами и изысканными прилагательными. Голова шла кругом. От книг, от мира, каким мы его видели в книгах, у нас кружилась голова.
Между нами, учениками Жан-Кристофа Конта, знавшими друг друга с младенчества, завязывалась новая и сильная дружба, крепнущая на вечерах у Германтов и Вердюренов, на балах у д'Оржелей, в путешествиях в компании с Урианом и Лафкадио, в пальмовых рощах Алжира и в грезах о костюмированных балах где-то в Солони. Когда я сегодня вспоминаю о годах юности, меня поражают два-три момента, о которых хочу коротко рассказать. Выскажу для начала предположение, что шансов для того, чтобы четверо подростков вдруг одновременно заболевали любовью к чтению, было довольно мало. Если посмотреть внимательнее, то и мотивы, подтолкнувшие нас на эту стезю, были очень разными, Ну, разумеется, прежде всего среди нас были Реми-Мишо. А Реми-Мишо всегда, то есть на протяжении сотни лет, как уточнял дедушка, тянулись к учебе, к книгам, к поединкам идей, предпочитая их, добавлял дедушка, поединкам на шпагах. Могут признать и это, поскольку, увы или же к счастью, во мне нет ни капли их крови, и то, что все Реми-Мишо были очень умными. Тетушка Габриэль имела какие угодно недостатки, но в то же время боги наделили ее и способностями, унаследованными, надо полагать, от члена Конвента и государственного деятеля, от послов и предпринимателей: любопытство, неудовлетворенность, потребность идти вперед и все дальше, желание делать не то, что все, и по возможности лучше всех. Все это перешло к ее детям, так что Жан-Кристоф Конт трудился на подготовленной почве.
Можно было бы, пожалуй, найти те же самые черты, правда, проявившиеся совершенно иначе, и у Филиппа, второго из сыновей тети Габриэль, которому было девятнадцать или двадцать лет, когда нам было пятнадцать-шестнадцать, и который с нами не занимался. Какие загадочные обстоятельства повлияли на подобную метаморфозу? С таким же ненасытным усердием, с каким все Реми-Мишо до него стремились получать дипломатические миссии, министерские портфели, директорские посты в советах акционерных обществ и с каким двое младших сыновей принялись читать книги, Филипп коллекционировал женщин. Филиппу были ни к чему Гораций, Овидий, «Федра», романтические страсти и бодлеровская любовь. К литературе он относился с удвоенным презрением нашего клана потомственных военных и материнского клана администраторов и коммерсантов. Он не из книг узнавал о жизни, как это делали мы днем с Жан-Кристофом Контом, а потом ночью в постели при свете ламп. Он жил. Я втайне восхищался им. Это был удивительно обаятельный бездельник. Если бы нам очень хотелось применить к нему столь дорогие нам законы, то мы, может быть, обнаружили бы в нем сходство с дядюшкой из Аргентины, очень любившим девушек и их приданое. Однако Филипп, при всем его невероятном легкомыслии, не разбрасывался. Деньгами он интересовался лишь в той мере, в какой любил их тратить. Интересовался же по-настоящему он лишь женщинами, их сводившими его с ума улыбками, их волосами, руками, зубами, телесами. Обо всем этом он мог говорить часами. Любовь к женщинам, как и атеизм, не совсем запрещалась нашим семейным кодексом. Среди наших предков были известные распутники, и по женской линии мы происходили от знаменитого маршала Ришелье, деда того самого герцога Ришелье, вслед за которым несколько членов нашей семьи уехали в Россию и перед которым одна из княгинь, я не помню уж какая, захлопнула дверь, не желая впускать его в дом. «Нет, сударь, – плача, шептала она герцогу, который стучался в ее дверь, – нет, оставьте меня, видеть вас больше не желаю». – «Ах, мадам, – стонал тот, – если бы вы знали, чем я стучу». Но затем на протяжении нескольких поколений, быть может, в знак траура после смерти короля в семье стало модным придерживаться самых строгих нравов. Филипп же с помощью служанок, актрисочек, подруг матери, продавщиц цветов и профессиональных куртизанок послал к черту все приличия и все прошлое. Он развлекался. Проводил ночи напролет среди цыган и разбитых бутылок. Зрелище завораживающее и зловещее одновременно. Глядя на него, я понимал, сколько сил и времени требуют страсти. Всю свою энергию он тратил только на одно. Проводил все свои дни в поисках женщин, в ухаживании за ними, в расставании с ними, в утешении их. Если бы хоть четверть энергии, растрачиваемой таким образом, он уделил бы военному делу, живописи или, например, нефтедобыче, то наверняка стал бы опасным соперником Гудериана и Роммеля или же Жана Фотрие и Николя де Сталя или же Гюльбенкяна и Онассиса. Так нет же. Он выбрал себе в качестве примеров для подражания Лозена, Казанову и Рамона Новарро.
Клод, самый младший в их семье, который был моим ровесником и который был мне ближе других, имел дополнительную причину увлечься чтением и попасть в сети, расставленные г-ном Контом. Он был очень красив, но с детства отличался от других: левая рука у него развивалась как-то не совсем нормально. Мы привыкли к этому и не обращали на это внимания. А вот посторонние люди обращали. Клод это чувствовал и постоянно помнил об этом. Семьи не склонны делиться своими секретами, а наша – тем более, и я так никогда и не узнал, было ли его увечье родовой травмой, явилось ли оно результатом несчастного случая, следствием болезни или же он, сын одной из представительниц семьи Реми-Мишо, оказался жертвой многочисленных браков в прошлом между двоюродными братьями и сестрами. Я так никогда и не узнал, что он сам об этом думает. Задать этот вопрос я ему не решился. Во всяком случае, он страдал от этого недостатка, почти не мешавшего ему, но отделявшего его от других. Он нуждался в каком-нибудь реванше. И вот книги, эдакая страна грез, стали для него утешением, дали ему возможность забыть о своей беде.
И еще одному своему ученику Жан-Кристоф Конт помог преодолеть некоторые барьеры. Сына г-на Дебуа звали Мишель. Клянусь, мы любили его как брата. Но все же Мишель Дебуа был сыном управляющего замком. В столь иерархическом обществе, как наше, эта разница в положении была очень ощутима. В чем она проявлялась? Каким образом? Например, во время прогулок верхом, за ужином с настоятелем Мушу, в гостиных замка, где каждое утро в десять часов и по вечерам, в шесть, имела место удивительная церемония, в которой было что-то от доклада и что-то от церковной службы и куда управляющий являлся в перчатках и в шляпе, в церкви, где мы сидели в обтянутых красным бархатом креслах, а семья Дебуа – на стульях с соломенными сиденьями, во время церковных процессий, когда мы шли впереди, а они сзади, но прежде всего – в умах. Все это соотносилось с определенной мифологией, выглядело надуманным, но что может быть реальнее того, что мы воображаем? Сегодняшнее равенство тоже отчасти соотносится с мифологией. Я чуть выше сказал, что члены нашей семьи были чрезвычайно вежливы и доброжелательны, настолько, что, глядя на царящие сегодня нравы, даже нельзя себе представить, что такое действительно было. И я настаиваю на том, что сказал. Наше отношение к семье Дебуа было самым простым, предельно вежливым и глубоко сердечным. Но каждый знал, что нас разделяет пропасть. Про сегодняшние времена можно сказать, что хамство царит между равными. У нас же вежливость, искренняя симпатия и дружба отделяли нижестоящих от вышестоящих. Были нижестоящие и вышестоящие, и каждый это знал, признавал и соглашался с этим. Дружелюбие и воспитанность царили в отношениях между хозяевами и слугами, которых тогда еще не называли лицемерно служащими или обслуживающим персоналом. Такие отношения были такой же составной частью всей системы, как и сама иерархия, которую они и подправляли, и выражали.
Я думаю, что Мишель Дебуа был самым умным из нас. И у него было перед нами, двумя братьями и их кузеном, бесценное преимущество в виде дистанции, которую требовалось преодолеть, и отставания, которое надо было ликвидировать. Ниже я расскажу, как он это сделал. Возможно, внимательный наблюдатель мог бы заметить уже тогда, когда наши занятия в Плесси-ле-Водрёе еще только начинались, – хотя, может быть, это мне сейчас так кажется, поскольку я знаю, что произошло в дальнейшем, – что Мишель предоставил другим увлекаться поэзией и романами, а сам жадно набросился на книги Монтескье и Сен-Симона – не нашего, семейного, а другого, – на сочинения Огюста Конта и Эмиля Дюркгейма, на труды экономистов, на только начинавшие тогда появляться работы по социологии.
Как-то раз в один из зимних дней, когда мы с Клодом читали в классной комнате на улице Варенн, почти такой же красивой и просторной, как наш учебный зал в Плесси-ле-Водрёе, читали, если я не ошибаюсь, «Золотую голову» или «Полуденный раздел» Клоделя, в комнату с выражением мрачного энтузиазма на лице вошел Мишель, держа в руках книгу, известную нам до того только по названию, – «Капитал» Карла Маркса. Однако не спешите с выводами. Марксистом впоследствии суждено было назвать себя не ему, а другому из нас. Почему? По изначальной предрасположенности. По воле случая. По вине г-на Конта? В силу сложившихся убеждений? По какому-то велению крови или под нажимом обстоятельств той эпохи?
Я рассказал о Жаке, Клоде, Мишеле Дебуа и даже о повесе Филиппе. А теперь я должен опять обратиться ненадолго к собственной персоне. Мне кажется, что я с самого начала стал играть интереснейшую и скромнейшую роль свидетеля, одну и ту же на протяжении всей моей жизни, теперь уже довольно длинной и, возможно, подошедшей к концу. Вспоминая, как мы впятером сидели в Плесси-ле-Водрёе или на улице Варенн между испещренной цифрами классной доской и прогибающимися под тяжестью отобранных для нас г-ном Контом книг полками, я осознаю, что моей судьбой было назначено – причем я не жалею об этом – все это видеть и слышать. По-видимому, я знал достаточно, чтобы следить за успехами Жака и Клода, и даже Мишеля, самого старшего из нас, и три-четыре года спустя ставшего студентом, с успехом изучавшего политическую экономию и затем одновременно с Жаком сдававшего конкурсный экзамен, один из самых трудных во Франции, в финансовую инспекцию, куда его приняли, а Жака нет. Я хорошо знал окружавших меня людей и восхищался ими. Клод писал стихи, которые казались мне такими же замечательными, как те, что выходили из-под пера Пеги или Аполлинера и которые мне удалось два или три года тому назад опубликовать. Жак писал роман и по вечерам темпераментно делился с нами своими планами и рассказывал нам про главных героев, возникавших в результате чудовищного скрещивания Клоделя и Радиге. Мишель объяснял нам теории экономистов Сисмонди и Парето, а сам приступал к изучению Кейнса, а мы с Клодом погружались в чтение Жироду, Мальро, Монтерлана и Арагона. Я был всего лишь зеркалом нашей группы. Отражал в крошечном масштабе одну из постоянных традиций семьи: жить в обществе и служить коллективу. При этом я добавлял и нечто от себя, нечто, унаследованное мной от отца: радостное изумление от созерцания мироздания и дружелюбное отношение ко вселенной. Я говорил себе, что стану свидетелем великих событий, которые изменят ход истории. Мы были молоды и думали не о себе, а об истории. Не о нашей, которая была повернута в прошлое. Мы думали об истории, которая творилась у нас на глазах, об истории будущего. Где-то у Мальро я прочел, что в двадцать лет он отличался от своих учителей присутствием истории. Вот и нам тоже стукнуло по двадцать, и мы тоже были гениальны, как все в этом возрасте. Мы растеряли свои воспоминания, обменяв их на воспоминания других людей, казавшихся нам крупнее нас, и на изумленное созерцание происходящего.
Дедушка мой не замедлил понять, что книги в состоянии довершить то, что начали революция, отмена права первородства, обязательная военная служба и всеобщее образование. И что все это может привести к пресловутой смерти Бога, слухи о которой уже докатились и до наших краев. В каком-то смысле появление г-на Конта и учебного класса в Плесси-ле-Водрёе означало пробуждение семьи. А в другом смысле стало чем-то вроде звона колокола, зазвонившего отходную. Традиции ничего не выигрывают от слишком въедливого их объяснения. Напротив, от этого они рискуют утратить свою строгость и упрямую узколобость, составляющих часть их красоты. Мир, который мы открыли из мансардных окон наших высоко расположенных учебных классов, был намного шире семейного горизонта. Мы стали лучше понимать жизнь, время, в котором живем, всех других людей и их потребности. Да, именно мы понимали. Тогда как величие семьи на протяжении многих веков зиждилось не на понимании, а на умении подчиняться, а главное – на умении командовать, на умении действовать, совершать долгие марши в каком-то одном направлении, не задавая лишних вопросов. Дедушка был уверен, что вопросы расслабляют человека. Из поколения в поколение мы избегали вопросов. И всегда всеми фибрами души вопросам без ответа предпочитали ответы без вопросов.
Книги шли войной на наши старые верования и привычки. Они взаимно разрушали друг друга и разрушали нас самих. Они говорили о ничтожности либо о глупости того, что было для нас дороже всего: порядка, неподвижности, тишины, слепой веры. Книги оказались боевыми машинами, призванными разрушить нашу, не имеющую словесного выражения систему. Они говорили, говорили, и это были тараны критики, осадные башни ярости, мины сатиры и подкопы юмора. Они опустошали наши исконные древние земли, наши молчаливые церкви, наши дворцы и музеи, наши замки и монастыри. К списку врагов нашей семьи, где уже были Галилей и Дарвин, Карл Маркс и доктор Фрейд, пришлось добавить Гуттенберга: он заставил говорить саму тишину. Сожалея о прошлом, мы думали прежде всего о тишине. Как бы мы ни зажимали руками уши, голова все равно шла кругом от шума, царящего в мире из-за книг, из-за газет, из-за моторов, из-за машин, забравшихся даже на небо, из-за беспроволочного телеграфа, как мы называли радио, из-за кинематографа, а потом еще и телевидения. Мы превратились в каких-то старых животных, преследуемых шумом. К грохоту мира, куда-то проваливающегося, присоединился шум мира нарождающегося и грозящего нас раздавить. Наши противники утверждали, что мы глухи к надвигающемуся приливу науки и прогресса. И мы хотели бы стать глухими. Нам говорили, что мы слепы, что мы не видим изменений, происходящих вокруг нас в этом состарившемся мире. И мы хотели бы стать слепыми. Глухими и слепыми. Глухими, чтобы не слышать, и слепыми, чтобы больше не читать. Дед мой предсказывал, что придет день, когда культура потребует от нас стать глухими, а ум – прекратить чтение. Я лишь недавно вспомнил об этом шутливом предсказании, вспомнил в связи с рекламой, которую ругали левые, и в связи с порнографией, которую разоблачали правые, и в связи с тем неимоверным шумом, который производят сталкивающиеся между собой разные течения массовой культуры. Вот почему дед включил Гуттенберга в зелено-черный список преступников, деяния которых направлены против мира, поскольку, как он говорил, зеленый цвет символизирует неоправдавшиеся надежды.
Но главное, чему учили нас книги, была одна простая вещь: то, что мы в мире не одни. Наше величие и наша бедность имели один и тот же источник. Наша доведенная до предела любовь к семье означала только одно: что мы лучше других. Вот почему мы недолюбливали разные там речи, доклады, дискуссии, диссертации, все виды выражения и все разновидности спора. К конкурсам и экзаменам мы относились с недоверием: мы их сдали раз и навсегда, причем скорее на полях сражений, чем в читальных залах, сдали и получили высшие оценки. Так что нечего было возвращаться к этому вопросу с проектами установления вечного мира и идиотскими планами построения воздушных замков. Порядок в мире покоился на нас и обустраивался вокруг нас. В определенной мере можно сказать, что в мире существовали только мы, о чем призваны были свидетельствовать и наши браки, и наши места за столом, и наше положение в генеалогическом Готском альманахе. Остальные в счет не шли. Они существовали лишь для нас, чтобы нас обслуживать и выполнять наши желания. Мы были своего рода Робинзонами Крузо, но сногсшибательно элегантными, попавшими с незапамятных времен на необитаемый остров Плесси-ле-Водрёй, где нас окружали преданные Пятницы и где нам угрожали только бури.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?