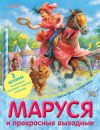Читать книгу "Лев"
Жозеф Кессель
Лев
Часть первая
I
Может быть, она дотронулась до моих век, желая увидеть, что за ними скрывается? Точно не могу сказать. У меня было такое ощущение в момент пробуждения, словно мне по лицу провели легкой шершавой кисточкой, но когда я совсем проснулся, то она уже спокойно сидела на уровне подушки и очень внимательно, даже пристально глядела на меня.
Ростом она была не больше кокосового ореха. И цветом она тоже была вся ореховая. Покрытая короткой шерсткой от пальцев ног до макушки, она казалась плюшевой. И только на мордочке была черная атласная полумаска со сверкающими сквозь прорези капельками-глазами.
Только-только начало светать, но света походной лампы, которую я от усталости забыл погасить, хватало, чтобы отчетливо видеть на фоне побеленных известкой стен эту полуреальную провозвестницу зари.
Несколькими часами позже ее присутствие показалось бы мне естественным. Ее племя обитало на высоких деревьях вокруг хижины: на одной-единственной ветке могли играть целые семейства. Однако я прибыл сюда лишь накануне вечером, измученный, когда уже стемнело. Потому-то и взирал, затаив дыхание, на крошечную обезьянку, пристроившуюся так близко от моего лица.
Не шевелилась и она. И даже капельки в разрезах черной атласной полумаски тоже оставались неподвижными.
Взгляд ее был лишен страха, недоверия, равно как и любопытства. Я являлся всего лишь объектов серьезного, беспристрастного изучения.
Потом плюшевая головка величиной с кулачок лежащего в колыбельке младенца наклонилась влево. Мудрые глаза погрустнели, сделались жалостливыми. Жалость эта касалась меня.
Можно было подумать, что, желая мне добра они хотят дать мне какой-то совет. Какой?
Должно быть, я невольно пошевелился. Дымчато-коричневый клубочек с золотистым отливом долетел, едва касаясь предметов, до окна и растворился в утреннем тумане.
Моя одежда для бруссы – так называются африканские кустарниковые заросли – лежала на полу возле раскладной кровати, рядом с лампой, куда я бросил ее, ложась спать.
Я оделся и вышел на веранду.
Я припоминал, что накануне отметил про себя, несмотря на темноту, что хижину с трех сторон окружали густые колючие кустарники, а впереди простиралась, уходя куда-то в таинственную тьму, огромная поляна. Но сейчас все это было закрыто туманом. Единственным ориентиром вздымалась прямо напротив меня, на краю неба, гигантская, увенчанная вечными снегами плоская вершина Килиманджаро.
Мое внимание привлек похожий на звук раскатившихся игральных костей легчайший шум, и я взглянул на сколоченное из нетесаных досок крыльцо, ведущее на веранду. По нему медленно, уверенно поднималась газель.
Газель, самая настоящая, но такая крошечная, что ее уши не достигали моих колен, рожки походили на сосновые иголки, а копытца были с ноготок. Это чудесное создание остановилось, лишь вплотную приблизившись ко мне, и подняло мордочку вверх. Стараясь двигаться как можно осторожнее, я пригнулся и протянул руку к точеной, самой изящной на свете головке. Маленькая газель не шевелилась. Я касался ее ноздрей, гладил их.
Она позволяла себя ласкать, глядя мне прямо в глаза. И в несказанной нежности ее взгляда я обнаружил то же самое чувство, что и в поразившее меня своей печалью и мудростью взгляде маленькой обезьянки. Но и на этот раз я все еще не понимал.
Как бы желая извиниться за то, что она не умеет говорить, газель лизнула мне пальцы. Потом она тихонько высвободила свою мордочку. И снова ее копытца извлекли из досок крыльца звук, похожий на шум катящихся игральных костей. Она исчезла.
Я снова остался один.
Однако за эти несколько мгновений невероятно короткая тропическая заря уже превратилась в настоящий восход.
Из глубины теней брызнул и залил все вокруг свет, дивный, роскошный, горделивый. Все сияло, искрилось, пылало.
Снега Килиманджаро, пронзенные алыми стрелами.
Масса тумана, которую вспарывали, разрушали, всасывали, рассеивали солнечные лучи, превращая его в пар, дымку, завитки, спирали, ленты, блестки, в напоминающие алмазную пыль бесчисленные капельки.
Трава, обычно сухая, жесткая, желтая, в этот момент стала мягкой и сияющей от росы…
На обступавших мою хижину деревьях, верхушки которых казались только что отлакированными, пели птицы и тараторили без умолку обезьяны.
А клубы тумана и пара перед верандой рассеивались один за другим, освобождая все более обширное и таинственное зеленеющее пространство, в глубине которого плавали новые облака, которые тоже в свою очередь рассеивались.
Земля раздвигала один занавес за другим, открывая свою сцену для представления дню и всему свету.
Наконец на другой стороне поляны, где еще висел кое-где неосязаемый пушок, блеснула вода.
Озеро? Пруд? Болото? Ни то, ни другое, а некое подпитываемое, скорее всего, небольшими подземными источниками водное пространство, которое, не имея сил разлиться дальше, трепетало в переливчатом равновесии среди высоких трав, камышей и густого кустарника.
А около воды были звери. Много раз видел и издали вдоль дорог у троп – Киву, Танганьика Уганда, Кения – во время моих только что заверь шившихся странствий по Восточной Африке. Но то были лишь неотчетливые, тут же пропадающие видения: стада, рассеивающиеся от звука автомобиля, стремительные, испуганные, тающие в воздухе силуэты.
Когда мне ненароком удавалось в течение какого-то времени наблюдать за тем или иным диким животным, это происходило издали или тайком и как бы нечестно. Я всегда созерцал с жадностью восторгом, завистью и отчаянием те формы, которые принимала в сухой, поросшей кустарником полустепи их вольная, чистая жизнь. Мне казалось, что я, наконец, обрел рай, увиденный лишь в мечтах или знакомый по давним, не сохранившимся даже в памяти временам. Я оказался на пороге этого рая. И был не в состоянии его переступить.
От встречи к встрече, от одного несбывшегося желания к другому, у меня зрела потребность – должно быть наивная, но все более настоятельная – быть принятым в том невинном и свежем, как в первые дни творения, мире.
И вот перед возвращением в Европу я решил заехать в один из так называемых «королевских парков» Кении, в один из тех заповедников, где чрезвычайно строгие законы охраняют самые разнообразные формы жизни диких зверей.
И вот они были передо мной.
Причем не застывшие в настороженных позах, недоверчивые и от страха сбившиеся в стада, стаи, вереницы и косяки, в зависимости от вида, подвида, семейства, а перемешавшиеся как попало в лоне несказанной безопасности на время водопоя, в согласии с бруссой, утренней зарей и друг с другом.
С того расстояния, где я находился, нельзя было разглядеть всех нюансов их движений или гармонию мастей, но оно позволяло мне обнаружить, что животных здесь сотни и сотни, что в непосредственной близости находились самые различные породы и что в эти мгновения своей жизни они никого не боялись и никуда не торопились.
Газели, антилопы, жирафы, гну, зебры, носороги, буйволы, слоны – все животные праздно пережидались или останавливались лишь затем, чтобы напиться, либо просто когда придется.
Солнце, пока еще ласковое, освещало сбоку расположившиеся уступами возле вершины Килиманджаро снежные поля. Утренний ветерок играл последними облаками. Слегка прикрытые остатками тумана водопои и пастбища, вплотную заполненные мордами и ноздрями, темными, золотистыми, полосатыми боками, прямыми, острыми, изогнутыми или массивными рогами, хоботами и бивнями, образовывали какой-то фантастический ковер, повешенный на великую африканскую гору.
Когда и как я спустился с веранды и пошел, я не знаю. Я больше не принадлежал себе. Я чувствовал исходящий от животных зов, меня влекла к себе благодать, предшествовавшая эре человека.
Я шел по окаймлявшей поляну тропинке вдоль занавеса, образованного деревьями и кустами. По мере моего приближения волшебная картина не рассеивалась и не утрачивала своего очарования, а, напротив, становилась еще богаче, обретая рельефность.
Каждый новый шаг позволял мне лучше оценить разнообразие семейств, их изящество либо силу. Я различал масти антилоп, грозные лбы буйволов, гранитную основательность слонов.
Все они продолжали жевать траву, принюхиваться к воде, бродить от кочки к кочке, от лужи к луже. И я тоже продолжал идти. А они были по-прежнему у меня перед глазами, в своем согласии, в своем царстве, с каждым мгновением все более реальные, все более доступные.
Я дошел до того места, где колючий кустарник кончался. Теперь нужно было только выйти из-за него, ступить на влажную, блестящую от росы почву, чтобы испытать дружбу диких зверей на их заповедной территории.
Ничто больше не могло мне помешать. Инстинкт самосохранения и благоразумие уступили место какому-то неясному и могучему инстинкту, подталкивавшему меня к иному миру.
И вот, наконец, я мог удовлетворить это желание.
Но именно в это мгновение меня остановило какое-то внутреннее предостережение. Кто-то, находящийся совсем рядом со мной, противился осуществлению моего намерения. Причем это было не животное. Я уже принадлежал их лагерю, их миру Существо, присутствие которого я ощутил – непонятно каким органом чувств, – принадлежало к человеческой породе.
И тут я услышал фразу на английском языке:
– Дальше вам не следует идти.
Не больше двух-трех шагов отделяли меня от хрупкого силуэта, который я обнаружил в тени покрытого колючками гигантского дерева. Он не пытался спрятаться. Однако, неподвижный и облаченный в какой-то тускло-серый комбинезон, он казался частью ствола, к которому прислонялся.
Передо мной стоял мальчик лет десяти, без головного убора. Челка черных волос, подстриженных под горшок, закрывала лоб. Лицо было круглое, очень загорелое, с очень гладкой кожей. Шея – длинная и нежная. Немигающий взгляд больших карих глаз, казалось, не замечавших меня, был устремлен на животных.
Из-за этого взгляда у меня возникло весьма неприятное ощущение, поскольку свидетелем моего ребячества оказался ребенок.
Я тихо спросил:
– А что, туда нельзя ходить? Это запрещено?
Стриженная под горшок голова утвердительно кивнула, но глаза мальчика были по-прежнему прикованы к животным.
Я спросил еще:
– Это точно?
– Уж мне-то это лучше всех известно, – ответил мальчик. – Мой отец – администратор этого королевского заповедника.
– Все понял, – сказал я. – А сыну он поручил следить, чтобы все было в порядке.
Большие карие глаза наконец посмотрели на меня. И на загорелом личике впервые появилось выражение, соответствующее возрасту моего собеседника.
– Вы ошибаетесь, я вовсе не мальчик, – произнес ребенок в сером комбинезоне. – Я девочка, и зовут меня Патриция.
II
Патриция не впервые удивляла таким образом посетителей. Об этом свидетельствовало торжествующе-лукавое выражение ее лица.
Вероятно, для пущей убедительности в это же время в улыбке, во взгляде, в изгибе шеи вдруг затрепетал столь же наивный, как и вечный инстинкт обольщения, придавший детскому силуэту его истинную сущность.
Должно быть, мне был необходим шок подобного рода, чтобы обрести вновь чувство реальности: рядом стояла маленькая девочка, одна-одинешенька, в диких африканских зарослях, в нескольких шагах от диких животных. Я спросил:
– И тебе разрешают так далеко уходить, да еще так рано?
Патриция не ответила. Теперь ее лицо, вновь неподвижное и серьезное, снова могло сойти за мальчишеское. Она погрузилась в созерцание диких стад, словно я вообще перестал существовать.
Между тем свет теперь лился из высоких фонтанов зари обильными вибрирующими потоками. Толпы животных, сгрудившиеся вокруг испещренной солнечными бликами воды, стали более плотными, более подлинными.
И мной снова овладело желание, которое привело меня сюда. Чтобы какая-то маленькая девочка помешала мне в самый последний момент! Я сделал шаг по направлению к поляне.
Патриция, не поворачивая головы, сказала:
– Не ходите туда.
– Ты сообщишь отцу, и он отлучит меня от заповедника? – поинтересовался я.
– Я не доносчица, – ответила Патриция.
В ее глазах горел вызов. Вся детская честь отразилась в ее взгляде.
– Тогда что, ты боишься за меня?
– Вы уже достаточно большой, чтобы заботиться о себе самому, – возразила Патриция. – А если с вами что случится, то мне все равно.
Как такое гладкое, такое свежее личико могло претерпевать такие поразительные изменения? Вдруг выражать такое бесчувствие, даже жестокость? Этой малышке было совершенно безразлично, что со мной могли сделать копыта, бивни и рога животных. Она бесстрастно наблюдала бы, как они топчут меня, вспарывают мне живот.
– А тогда, – спросил я, – тогда почему же ты говоришь, что…
– Не так уж трудно понять, – ответила Патриция.
Моя непонятливость начинала ее раздражать. В ее больших темных глазах мелькнули искры.
– Вы же видите, – продолжала она, – какие животные сейчас спокойные и как им хорошо друг с другом. Это у них самое прекрасное время дня.
То ли ранний час был тому причиной? Или пейзаж? Но только в этой девчушке чувствовалась какая-то необычная сила. Иногда казалось, что она обладает такой уверенностью и таким знанием истины, которые не имеют ничего общего ни с количеством прожитых лет, ни с благоприобретенными привычками разума. Она находилась как бы вне, как бы далеко за пределами человеческой обыденности.
– Я же не собираюсь нарушать покой животных, – сказал я ей. – Только немножко пожить вместе с ними, пожить, как они.
Патриция посмотрела на меня испытующим, подозрительным взглядом.
– Вы и в самом деле любите их? – спросила она.
– Мне так кажется.
Большие темные глаза замерли и долго всматривались в меня. Потом на невероятно чувствительном лице Патриции появилась улыбка и осветила все ее черты.
– Мне тоже так кажется.
Мне трудно объяснить, почему эта улыбка и этот ответ доставили мне такую радость. Я спросил:
– Ну, тогда я могу подойти?
– Нет, – ответила Патриция.
И этот отказ подтвердило мягкое, но категоричное движение подстриженной под горшок головки на длинной, нежной шее.
– Почему?
Патриция помедлила, прежде чем ответить. Она молча, задумчиво продолжала меня разглядывать. И в ее взгляде было много дружбы. Но это была дружба особого рода. Безмятежная, строгая, меланхолическая, сострадательная, не имеющая возможности помочь.
Где-то я уже видел это странное выражение. Где? Я вспомнил крохотную обезьянку и миниатюрную газель, посетивших меня в хижине. В глубине больших темных глаз Патриции я обнаружил ту же таинственную печаль, что и во взгляде животных. Но девочка могла в отличие от них говорить.
– Вы животным не нужны, – сказала наконец Патриция. – При вас они будут чувствовать себя неспокойно, не так привольно, не смогут резвиться, как им хочется и как они привыкли.
– Но я ведь их люблю, – сказал я, – и ты это знаешь.
– Все равно, – возразила Патриция, – вы не подходите животным. Тут нужно узнать, а вы не знаете… вы не можете.
Она поискала слова, чтобы лучше выразить свою мысль, слегка пожала своими тонкими плечами и добавила:
– Вы пришли слишком издалека и сейчас слишком уже поздно.
Патриция сильнее прижалась к стволу высокого дерева. Из-за своего одноцветного серого одеяния она казалась его частью.
Свет все больше и больше пронизывал отдельные кусты и заросли, которые на глазах превращались в легкие золотистые сеточки. И из всех этих пристанищ выходили все новые и новые семьи диких животных и направлялись к воде и траве. Чтобы не мешать тем, кто оказался на месте раньше, они рассеивались по краям поляны. Были среди них такие, которые подходили к самому растительному занавесу, за которым стояли мы с Патрицией. Однако теперь я знал, что даже они для меня столь же запретны и недоступны, как если бы они паслись на тех самых полях вечных снегов, которые покрывали Килиманджаро на краю неба, утреннего света и мира.
– Слишком издалека… слишком поздно… – сказала девочка.
Против этой ее уверенности я был бессилен, потому что, когда она произносила эти слова, глаза у нее были такие же нежные, как у маленькой газели, и такие же мудрые, как у маленькой обезьянки.
Внезапно я почувствовал, как ручка Патриции дотронулась до моей руки и от неожиданности вздрогнул, потому что она приблизилась ко мне так незаметно, что не встрепенулась и не предупредила меня об этом движении ни одна былинка. Верхушка ее волос находилась на уровне моего локтя и рядом с моим телом она выглядела совсем крохотной и щупленькой. А между тем в поцарапанных шершавых пальчиках, взявших меня за запястье, чувствовалось желание защищать, утешать. И Патриция сказала мне, словно ребенку, которого хотят вознаградить за мучительное для него послушание:
– Может быть, потом мы с вами сходим в другое место. Там вы будете довольны, обещаю вам.
Тут только я обратил внимание на странную манеру Патриции разговаривать. До этого ее личность и ее поведение держали мое сознание в состоянии некой ошеломленности. А теперь я заметил, что девочка произносит слова так, как это делают люди, не позволяющие себе быть услышанными, когда они разговаривают между собой: узники, часовые, трапперы. В голосе ее не было ни вибраций, ни резонанса, ни тембра, и он звучал нейтрально, подспудно, как бы даже беззвучно. И я почувствовал, что неосознанно подражаю Патриции и разговариваю так же экономно.
– Теперь мне понятно, почему даже самые дикие животные – твои друзья.
Касающиеся моей руки детские пальцы радостно вздрогнули. Рука Патриции была теперь всего лишь рукой маленькой счастливой девочки. А поднятое ко мне лицо, ясное и счастливое, с большими темными глазами, вдруг посветлевшими и засиявшими, выражало лишь блаженство ребенка, который услышал самую ценную для него похвалу.
– А вы знаете, – сказала Патриция (несмотря на ее воодушевление, добавившее розового цвета ее загорелым щекам, голос девочки оставался глубине и заговорщическим), – вы знаете, отец мой уверяет, что я даже лучше лажу с животными, чем он сам. А уж это-то кое-что значит: мой отец провел среди них всю свою жизнь. Он знает их всех. Которые живут в Кении и в Уганде, в Танганьике и в Родезии. Но он говорит, что у меня – это другое Да, другое.
Патриция качнула головой, и челка ее коротко подстриженных волос немного приподнялась, открыв верхнюю часть лба, более нежную и более светлую. Взгляд девочки упал на мою руку, державшую ее ладошку с обломанными ногтями и землистой каемкой под ними.
– Вы ведь не из охотников, – сказала Патриция.
– Совершенно точно, – ответил я. – А откуда тебе это известно?
Патриция беззвучно засмеялась.
– Здесь, – сказала она, – ничего не скроешь.
– Но все-таки интересно, – сказал я. – Я пока еще ни с кем не разговаривал, никто меня пока еще не видел.
– Никто? – возразила Патриция. – А Таукоу, служащий, который регистрирует приезжих и который записал вас вчера вечером в свою книгу? А Матча, бой, который нес ваши чемоданы? А Эйвори, подметальщик, который убирает в хижине?
– Эти негры не могут ничего знать о том, чем я занимаюсь.
В чертах Патриции опять, как тогда, когда она сообщила мне, что она не мальчик, а девочка, появилось выражение детского лукавства.
– А ваш шофер? – спросила она. – Вы забыли про своего шофера?
– Как, Бого?
– Он ведь хорошо вас знает, – сказала она. – Разве он не возит вас уже два месяца по всем странам в машине, которую вы наняли в Найроби?
– Много он рассказать вам не мог, – сказал я. – Более замкнутого человека, более скупого на слова просто невозможно себе представить.
– Может быть, и так, если говорить с ним по-английски.
– Ты хочешь сказать, что…
– Разумеется. Я говорю на кикуйю нисколько не хуже, чем он, – объяснила Патриция, – потоку что моя первая служанка, когда я была совсем маленькой, была из племени кикуйю. А еще я знаю суахили, потому что здесь его понимают все местные, к какому бы племени они ни принадлежали. И язык вакамба, потому что следопыт, которому отец всегда отдавал предпочтение, был вакамба. И язык масаи, потому что за масаи сохраняется право проходить через заповедник и жить в нем.
Патриция продолжала улыбаться, но теперь в этой улыбке были не только ирония и чувство превосходства. В ней вновь отразились спокойная уверенность в том, что она может общаться с любыми, даже самыми примитивными существами, согласно законам их собственного мира.
– Здешние негры мне все рассказывают, – продолжала Патриция. – Я даже больше, чем отец, в курсе их дел. Он знает только суахили, да и то произносит слова, как белый. И потом, он суровый: такая уж у него работа. А я никогда не ябедничаю. И всем клеркам, охранникам и слугам это прекрасно известно. Поэтому они мне и рассказывают. Таукоу, который записывает приезжих, сказал мне, что у вас французский паспорт и что вы живете в Париже. Бой, который нес ваш чемодан, сказал, что он у вас очень тяжелый из-за книг. А тот бой, который убирается в хижине, сказал мне: «Этот белый был такой усталый, что даже не стал перед сном ничего есть и от воды, которую я хотел согреть ему для ванны, отказался».
– Я бы и сейчас еще спал, – сказал я, – если бы меня не разбудил спозаранку один посетитель. Хотя он тоже, наверное, тебе все уже доложил.
– Ах, да! Николас и Цимбелина, – сказала Патриция.
В ее взгляде появилась нежность, не лишенная, однако, некоторой презрительности. Она добавила:
– Они принадлежат мне. Вот только они позволяют себя гладить всем, кто приходит, как какая-нибудь собака или кошка.
– О! – сказал я. – Правда?
Но Патриция и не догадывалась, как она меня расстроила, низведя моих двух таинственных вестников зари до уровня заурядных и подобострастных четвероногих.
– Там – другое дело, – сказала девочка.
Она показала рукой на животных, собравшихся на пастбище и вокруг водоемов, над которыми нависала огромная, обремененная снегами и облаками гора. Ладонь Патриции дрожала и даже в голосе ее намеренно приглушенном и обесцвеченном, появился если и не жар, то, во всяком случае, какой-то задор.
– Те животные ничьи, – продолжала Патриция. – Они не приучены повиноваться. Даже когда они вас принимают, они остаются свободными. Чтобы играть с ними, вы должны знать ветер, солнце, пастбища, вкус трав, источники воды. А еще угадывать их настроение. А еще остерегаться, когда у них свадьба, когда маленькие детеныши. Нужно молчать, играть, бегать, дышать, как они.
– Это отец научил тебя всему этому? – спросил я.
– Отец не знает и половины того, что знаю я, – ответила Патриция. – У него нет времени. И он слишком старый. Я сама всему научилась, сама.
Патриция неожиданно подняла на меня глаза, и я обнаружил на ее маленьком, загорелом, упрямом и гордом лице, казалось бы, совсем несвойственное ему выражение, выражение какой-то почти смиренной нерешительности.
– А скажите… это правда… вам правда еще не надоело… то, что я все время говорю о зверях? – спросила Патриция.
Увидев мое недоумение, она быстро добавила:
– Моя мама утверждает, что взрослым не до моих историй.
– Да я готов слушать их целый день! – ответил я.
– Правда? Правда?
От возбуждения Патриции мне сделалось как-то даже нехорошо. Она судорожно сжимала мою руку. Пальцы ее горели огнем. Зазубрины обломанныx ногтей впивались мне в кожу. Такая бурная радость, подумалось мне, это не только удовольствие от того, что похвалили ее детское увлечение. Все это признаки того, что ребенок переживает, не находя выхода глубокой внутренней потребности. Неужели ей уже сейчас приходится расплачиваться одиночеством за свои грезы и свои таланты.
Девочка стала рассказывать. И хотя голос ее оставался приглушенным и без модуляций – или, скорее, именно поэтому, – он звучал как естественное эхо окружавшей нас природы.
Он как бы держал мысль на весу, придавая устойчивость ее работе и тщетным попыткам разгадать единственную заслуживающую внимания загадку – загадку творения и сотворенного существа. Он завораживал, заглушая тревогу и волнение, словно высокие травы или дикий тростник, когда беззвучнейшие дуновения ветерка извлекают из них чарующий шепот, всегда один и тот же и всегда новый.
Этот голос звучал не для того, чтобы обеспечивать недалекое, суетное общение людей. Он обладал способностью перекинуть мостик от их убожества, от их злополучия, от их внутренней тюрьмы к царству истины, свободы и непорочности, которое являло миру это африканское утро.
В каких странствиях по Королевскому заповеднику, в каких бдениях посреди колючих зарослей обретала Патриция тот опыт, которым сейчас делилась со мной, какой тут нужно было обладать неутомимой зоркостью и таинственной задушевностью? Эти вот запретные для всех стада стали ее обществом. Она различала у них племена, кланы, отдельных персонажей. Она обладала привилегией посещать некоторых из них, имела навыки в общении с ними, у нее были там свои враги, свои фавориты.
Оказывается, буйвол, перекатывавшийся перед нами в жидкой тине, отличался ужасным характером. А вот преклонных лет слон со сломанными бивнями любил играть ничуть не меньше, чем самый юный в стаде. Тогда как у его темно-серой, почти черной махины-самки, той, что в этот самый момент хоботом подталкивала своих малышей к воде, чистоплотность превратилась чуть ли не в манию.
Среди антилоп импала – Патриция обратила мое внимание на золотистых, с черной стрелой на боку, самых грациозных из всех антилоп, – некоторые принимали ее как свою, без всякой опаски. А среди миниатюрных со штопорообразными рожками бушбоков, таких храбрых, несмотря на свою хрупкость, лучшими ее друзьями были самые отчаянные забияки.
В стаде зебр, по ее словам, была одна, которая прямо у нее на глазах спаслась от лесного пожара. Ее можно было легко узнать по подпалинам, словно веснушки рассеянным между черными полосами.
Патриция наблюдала однажды за поединком носорогов, и огромный самец, неподвижно стоявший сейчас в нескольких шагах от нас с устремленным в небо рогом, похожий на какую-то доисторическую каменную глыбу, вышел тогда из схватки победителем! Однако на спине у него остался длинный, глубокий, ужасный шрам, обнажавшийся, когда с его спины внезапно вихрем срывалась стайка белых цапель, постоянных спутниц животного.
Была своя хроника событий и у жирафов, и у крупных горбатых гну, у детенышей и у взрослых – из поколения в поколение. Игры, единоборства, миграции, свадьбы.
Вспоминая эти рассказы, я обнаруживаю, что помимо своей воли подчиняю их какому-то методу, вношу в них последовательность, стремлюсь упорядочить их. Патриция же говорила сразу обо всем. Шаблоны логики не присутствовали в ее речах. Она отдавалась на волю элементарных, мгновенно возникавших ассоциаций, внимала голосу своих чувств и инстинкта. Она следовала примеру простых и прекрасных существ, находившихся у нас перед глазами, которые живут, не зная человеческой тоски, потому что им незнакомо суетное искушение измерять текущее время, потому что они появляются на свет, здравствуют и умирают, не испытывая потребности спросить, зачем это нужно.
Вот так, словно вглядываясь во внезапно пронизанный лучами солнца подлесок, открывал я для себя скрытые глубины жизни животных.
Я видел ночные пристанища, откуда рассвет позвал каждое из этих племен к водопою, и пространства, по которым они должны были рассеяться после передышки. А равнины, холмы, лесные чащи, кустарники, саванны, через которые я проехал накануне, превращались для меня в участки обитания, убежища, жилища, родину того или иного вида, той или иной семьи.
Вон там прыгали импалы, а там пощипывали траву буйволы. Там резвились, то и дело срываясь в галоп, зебры, а там играли в свои игры слоны.
Внезапно у меня возникла мысль о том, что у всего этого зверья отсутствует один клан, вероятно, самый живописный.
– А хищники? – спросил я Патрицию.
Вопрос ничуть не удивил ее. Можно было подумать, что она ждала его, причем как раз в тот момент, когда я задал его.
Тут я почувствовал, что у нас установилось такое взаимопонимание, когда разница в возрасте не имеет значения. Глубокая искренняя заинтересованность и тяготение к одной цели сделали так, что, благодаря диким животным, ребенок и мужчина, давно вышедший из детского возраста, почувствовали себя вдруг ровней и единомышленниками.
Девочка закрыла глаза. Улыбка, обращенная лишь к ней самой, подобная тем, что мы видим на сияющих лицах очень маленьких детей, скупая, едва обозначенная, а в то же время наполненная каким-то таинственным счастьем, озарила словно изнутри лицо Патриции. Потом веки ее поднялись и она поделилась со мной частью своей улыбки. Это было подобно обещанию, подобно заключению очень важного союза.
– Я поведу вас туда, куда нужно, – сказала Патриция.
– Когда?
– Не надо торопиться, – тихо ответила девочка. – Со всеми животными нужно иметь большой запас терпения. Необходимо время.
– Все дело в том… Как раз время…
Я не договорил. Патриция вдруг резко и бесцеремонно отдернула свою ладошку, доверчивое присутствие которой я ощущал в своей руке. Между ее большими, темными глазами, внезапно утратившими всякое выражение, появилась похожая на преждевременную морщину складка.
– Вы ведь хотите побыстрее уехать отсюда, да? – спросила Патриция.
Она глядела на меня так, что я не решился сразу дать ей однозначный ответ.
– Я пока еще окончательно не решил… – сказал я.
– А вот и неправда, – возразила Патриция. – И все вы уже решили. Вы же предупредили в регистратуре, что уезжаете из заповедника завтра.
Складка между бровями обозначилась еще резче.
– А я-то совсем забыла, – добавила она.
Она плотно сжала губы, но ей никак не удавалось унять их легкое дрожание. Видеть это было мучительно.
– Извините меня, я столько времени у вас отняла, – добавила еще Патриция.
Она отвернулась к бессловесным животным. А я неловко пробормотал:
– Но ведь, если я даже и уеду, то мы теперь с тобой друзья?
– У меня нет друзей, – возразила она. – И вы тоже такой же, как остальные.
Остальные… Проезжие, любопытствующие, равнодушные. Жители больших далеких городов, которые, не выходя из машины, похищали мгновение дикой жизни и тут же уезжали.
Мне показалось, что я прямо вижу, как одиночество мертвой водой смыкается над головой девочки.
– У меня нет друзей, – повторила Патриция. Она повернулась и бесшумно, не хрустнув ни единой сухой былинкой, вышла из-под зонтика колючих деревьев на поляну. Голова ее была немного втянута в плечи, а плечи выдвинуты вперед.
Затем тоненький серый силуэт, увенчанный шариком черных волос, вошел в дрожащий живой ковер, образованный пасущимися у подножия Килиманджаро дикими животными.