Текст книги "Пушкин. Русский журнал о книгах №01/2008"
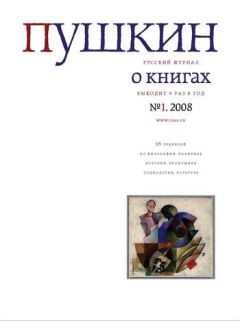
Автор книги: Журнал
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
В «Образовании Древнерусского государства» не было ничего принципиально нового. Но изменилась политическая ситуация – и 25 декабря в «Правде» 1951 г. была опубликована статья некоего П. Иванова, где критиковалось преувеличение роли Хазарского каганата в истории Киевской Руси.[111]111
П. Иванов. Об одной ошибочной концепции // Правда. 25.12.1951.
[Закрыть] Далее последовали работы Н. Я. Мерперта и Б. А. Рыбакова с критикой «хазарской теории» в трудах Мавродина.[112]112
Б. А. Рыбаков. К вопросу о роли Хазарского каганата в истории Руси // Советская археология. Вып. XVIII. М., 1953.
[Закрыть] Но каждое действие, как известно, рождает адекватное ему противодействие, и не удивительно, что возникшее вскоре хазароведение как исследовательское направление некритично восприняло и стало развивать все предположения Мавродина и Артамонова, касавшиеся «хазарского периода» в истории славян Восточной Европы.
Само изучение вопроса о хазарской дани на научном уровне стало возможным сравнительно недавно, после накопления знаний в области источниковедения и археологии, которые позволяют критически исследовать текст летописи. И здесь влияние Мавродина остается существенным, несмотря на пройденные десятилетия. К настоящему времени данная тематика включает следующие основные вопросы: 1) хронология подчинения славянских племен хазарам; 2) степень и вектор влияния Хазарии на соци ально-экономическое и политическое развитие подвластных славян[113]113
Истории вопроса в отечественной науке полностью посвящена монография: Э. Д. Бащенко. «Хазарская проблема» в отечественной историографии XVIII-XX вв. СПб., 2006.
[Закрыть] – где решение второй проблемы невозможно без ответа на первый вопрос. В его решении основным в историографии остается направление, начатое Мавродиным и детально разработанное Артамоновым. Эта гипотеза сейчас поддерживается и развивается большинством современных исследователей.
Мысль о том, что зависимость славян от хазар должна быть долгой, подогревается наличием «хазарских следов» в древнерусской культуре. Их обнаруживается немного, но принципиальное значение имеет употребление титула каган по отношению к правителям Руси в древнерусских источниках,[114]114
Термин каган употреблялся в ряде письменных источников применительно к Владимиру Святославичу, Ярославу Мудрому, Святославу Ярославичу (Идейно-философское наследие Илариона Киевского / Публ. Т. А, Сумниковой. М., 1986 Ч. 1. С. 171; С. А. Высоцкий. Древнерусские граффити Софии Киевской XI-XIV вв. Киев, 1966. Вып. 1. С. 49–52); в устной поэтической традиции («Слово о полку Игореве») каганом назывался Олег Святославич (Слово о плъку Игореве, Игоря, сына Святъславля, внука Ольгова // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 1. СПб., 1995. С. 14).
[Закрыть] поскольку коррелируется с кругом источников первой половины IX–XII вв. о русах с хаканом во главе, объединяющим западноевропейские и арабо-персидские известия.[115]115
Annates Bertiniani: Annates de Saint-Bertin. Paris, 1964. P. 30–31; Е. С. Галкина. Семантика титула «хакан русов» у арабо-персидских географов IX–XII вв. // Восток (Oriens), 2007. № 6.
[Закрыть] Возникновение титула хакана как претензии на независимость от Хазарии в современной исторической науке практически не оспаривается,[116]116
Историографию вопроса см.: И. Г. Коновалова. О возможных источниках заимствования титула «каган» в Древней Руси// Славяне и их соседи. Славяне и кочевой мир. Вып. 10. М., 2001. С. 108–111.
[Закрыть] хотя объективных оснований для подобных суждений мало.
Но самое главное, из наметок Мавродина по поводу роли норманном и хазар в становлении Руси, которые не имели самостоятельного значения для авторского видения Древнерусского государства, фактически вырос современный норманизм, которым Восточная Европа поделена на сферы влияния норманнов и хазар. Идеи Мавродина, будь они в свое время обсуждены в рамках нормальной научной дискуссии, скорее всего стали бы частью историографии. Но вызвав попытки борьбы с научной идеей на политическом уровне привели как всегда к прямо противоположному результату – молодые историки и археологи приобщались к ней как тайному знанию и подняли ее до уровня символа противостояния советскому официозу. С годами новая норманнская теория, как и все идеологемы, закоснела и стала одним из кирпичиков в монструозном здании мифологии русской истории.
Встречать картину по одежке
Ольга Эделъман

Раиса Кирсанова. Павел Андреевич Федотов. Комментарий к живописному тексту. М.: НЛО, 2006. 160 с.
История костюма – в чем Р. М. Кирсанова ведущий в нашей стране специалист[117]117
См. например ставшее классическим ее исследование: Кирсанова P. M. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм – вещь и образ в русской литературе XIX века. М., 1989 (переизд.: М., 2006).
[Закрыть] – существует как правило сама по себе, отдельно от основного русла исторических, историко-филологических, историко-культурных штудий. Исследователи истории одежды находят сведения по крохам и привыкли работать с разнообразными источниками: помимо дошедших до нас музейных образцов костюма и специальных, одежды и моды касающихся текстов (модные журналы), это и ремарки в мемуарных и литературных произведениях, поясняющие бытование одежды и способы обращения с ней, и, конечно, живопись. Для истории костюма выход за дисциплинарные рамки является естественным условием работы. Однако добытые таким образом сведения и наблюдения в значительной мере остаются в пределах этого изысканного ответвления (хочется сказать: будуара) наук о прошлом и редко используются специалистами других сфер. Историки и филологи заглядывают в труды по истории костюма, как правило, лишь когда требуется прокомментировать какое-нибудь ныне забытое слово, касающееся одежды. Так что пресловутый междисциплинарный подход действует здесь, как полупроводник электричества, лишь в одном направлении.
И вот новая книга Р. М. Кирсановой демонстрирует на редкость удачный и увлекательный пример того, какие возможности, на самом-то деле, дает знание истории одежды и быта для понимания прошлого и расшифровки нюансов, когда-то очевидных. Происходит действительное приращение смысла и углубление знания.
Взгляд на картины П. А. Федотова глазами историка костюма позволил расшифровать представленные на них сценки так, как должны были их понимать современники. Дело в тех очевидных современникам визуальных бытовых и повседневных подробностях, которые по прошествии времени перестали «прочитываться» зрителем и даже профессиональным знатоком истории и искусства той эпохи. Теперь, чтобы вернуть этим деталям когда-то бросавшееся в глаза значение, потребовались изощренные комментарии специалиста, много лет изучавшего все эти очаровательные стародавние модные пустяки: ткани, фасоны, веера, лорнетки, парикмахерские ухищрения.

Лариса Наумова. Яблоки на закате (Ева), 2004
«Сватовство майора». В целом всем все понятно и было описано еще в школьном учебнике: майор, стало быть – дворянин, сватается к купеческой дочке, по этому поводу в доме переполох. Невеста изображает смятение и чувствительность, майор крутит ус и знает себе цену. Само собой, свадьбе быть. Понятно, что ему нужны ее деньги, ей – дворянское достоинство, но разве меркантильный фон помеха счастью, а не его основание? Р. М. Кирсанова ведет нас от детали к детали. Майору предшествует сваха, одетая по-мещански. Значит, он целенаправленно ищет невесту именно в купеческом сословии. Ибо, оказывается, свахи имели специализацию, и те, что «работали» по дворянским домам, одевались тоже по-дворянски, на европейский манер. Эта сваха – купеческая. Варианты хорошо воспитанных дочек из беднеющих барских домов майора не интересуют. Следовательно, он в чрезвычайно стесненных обстоятельствах, поправить которые надеется только «женитьбой на приданом». Предполагаемая невеста в пышном декольтированном белом платье. Помню, в детстве я, как наверное большинство девочек, более всего в этой картине ценила как раз платье, рассматривала детали: вот как в старину одевались. Но, – говорит Р. М. Кирсанова, – как раз так не одевались. На улице день, а платье вечернее, вырядиться в него днем – нонсенс, нелепое чрезмерное усердие. Более того, девица роняет нарядный носовой платок, – тогда как к вечернему платью полагался веер, платочком обмахивались именно мещаночки и купеческие дочки. То есть наша героиня носить свое платье не умеет, не обучена. Мать ее одета тоже вроде бы в богатое платье на дворянский манер, но с тем же несоответствием аксессуаров. Отец и вовсе в мещанском платье, причем плохо сшитом. Такое, как уверяет нас автор, шили задешево для франтоватых кучеров и прочей публики, слегка претендовавшей на столичный стиль. Обстановка комнаты несуразная: не столовая, не гостиная, не пойми что, мебель разномастная, ведерко с шампанским водрузили на стул, вместо полагающегося ему специального столика. Мало того, Кирсанова заглянула и в тарелки ожидаемого застолья. И обнаружила, что кухарка только кулебяку испекла, остальное – стандартный набор закусок из трактира. О чем все это (и еще кое-какие подробности, за которыми читателю лучше заглянуть в саму книгу) – о чем все это говорит? О том, что купеческое семейство въехало в этот дом недавно, обстановку еще не приобрели, все привыкли к жизни на старый манер, несуразных нюансов не чувствуют. Видимо, разбогател купец совсем недавно. Более того, Р. М. Кирсанова видит и показывает нам мелкие признаки того, что финансовое положение отца семейства шатко. Если он разорится, семья его из гильдейского разряда вылетит в обычное мещанское сословие со всеми вытекающими социальными обстоятельствами. Сейчас у него деньги есть, но единственная возможность обеспечить дочери более-менее прочное будущее – выдать ее за дворянина, потому что дворянство, в отличие от гильдейских привилегий, неотъемлемо.

Лариса Наумова. Влюбленные в коробках, 2001
Так P. M. Кирсанова, толкуя о кружевных носовых платках и столиках под шампанское, вдруг указывает на драматическую перспективу федотовского фарса. Майор получит приданое, но не получит богатого тестя, а в придачу жену, в которой скоро начнет видеть неотесанную дуру. И никакого счастья у них не получится.
Так же, из анекдота в драму, развертывает Р. М. Кирсанова сюжет картины «Разборчивая невеста». Здесь мы, напротив, в доме солидного чиновника, давно уж преуспевшего – гостиная обставлена лет за двадцать до того, по устаревшей уже моде (симметричная расстановка мебели, характерные сюжеты картин). Немолодая девица одета в дорогое и модное платье, но причесана, как это часто с дамами случается, по моде своей первой юности, на это указывают старательно вылепленные при помощи помады тонкие завитки волос на висках. На столике подле нее – ни книг, ни рукоделия, а карты и носовой платок. Она раскладывала пасьянс (гадала по пасьянсу, скорее всего) и, наверное, плакала. Она вообще часто плачет, потому и платок под рукой. На ее поясе крупные, мужского образца часы – дамские были бы миниатюрнее и изящнее. Видимо, – остроумно заключает автор, – у героини уже плоховато зрение, а надевать очки она из кокетства не желает. Часы и пасьянс свидетельствуют, что ждала она кавалера в нервах и нетерпении. Одежда родителей ее указывает на утреннее время (отец в рубашке, воротничке, с орденом, но еще в халате вместо сюртука и читает утреннюю газету). Жених – немолод, нехорош лицом и горбат, но одет с иголочки, по последней моде и чрезвычайно щеголевато. Он не служит, поскольку не в мундире, и может себе позволить поздний утренний визит, а прибыл несомненно в экипаже – обувь у него новехонькая и чистенькая. Ясно, какие-то средства он имеет. Он в спешке бросил цилиндр, лицо его освещено волнением и надеждой. Она приняла букет и также явно оживлена. На каминной полке в вазочке – точно такой же букет, засушенный. Когда-то она, значит, пережила любовную историю, несчастную, раз помолвка не привела к свадьбе. И эта пара поженится, – эти не из денежного расчета, а от отчаяния, в стремлении ухватиться за последний шанс.
Так, от детали к детали, Р. М. Кирсанова заставляет говорить насыщенные фактурой федотовские полотна. Ее небольшая книжка – увлекательный и на редкость ценный путеводитель по реалиям середины XIX века, на которых столь много в русской истории и культуре завязано. И пример того, какими средствами можно заставить предметы говорить.
Неравный бой Дины Хапаевой с собственными фантазмами
Александр Антощенко

Д. Хапаева. Готическое общество: морфология кошмара. Изд-е 2-е. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 152 с.
КАК БАЦИЛЛЫ всесильной в Средневековье чумы, скрывающиеся до поры до времени в окружающей обстановке, привычной человеку, принципы готической эстетики стали вдруг проявляться в современном обществе, дремлющие интеллектуалы которого забыли, что «сон разума порождает чудовищ».
Такова основная мысль Дины Хапаевой, «социолога» и «историка», мужественно направившей свой интеллектуальный потенциал на борьбу с опасным вторжением. А чтобы развеять всякие сомнения в грозной силе этой опасности она обращается к ее истокам и предлагает теоретическое обоснование процессу возникновения «готического общества». Оказывается, генезис «готического общества» связан с готическим романом, принципы построения которого возвышаются «исследовательницей» до уровня эстетической системы, фиксирующей ментальность обыденного человека, подверженного кошмарам, и сопоставимой по влиятельности с философией века Просвещения.
Правда, ее знания о готическом романе почерпнуты лишь из одного произведения, написанного в стиле готической эстетики – романа «Мельмот-Скиталец» Чарльза Метьюрина. Зато как небрежно-величественно представлено Д. Хапаевой сделанное на основе его краткого пересказа «открытие» о «темпоральности кошмара», запечатленной в этом романе и проявляющейся вновь, столетия спустя, в «шутках» физиков о «кротовых норах» и утверждениях о возможности создать машину времени. И хотя «исследовательница» честно признается, что ничего не понимает в физических формулах, она убеждена, что виновата во всем субъективация времени, свидетельствующая о глубоком кризисе его восприятия, переживаемом обществом, и ведущая к хаосу.
Очевидно, субъективное восприятие времени так долго дремало в сознании «исследовательницы», что, проснувшись, захватило ее целиком, не оставив места для «объективного времени». Отсюда и ее страхи «ирреальной реальности», утверждаемой даже физиками, как считает Д. Хапаева. Хочется все же ее успокоить: физики все еще по наивности верят не в конвенциональную, а в референциальную концепцию истинности и отличают гипотезы от знания, проверенного экспериментальным путем; а состояние систем, характеризуемое как «хаос», подвергается ими теоретическому осмыслению и аналитическому описанию посредством нарратива в научных понятиях, далеких от «готического общества». Хотя они едва ли верят, как Д. Хапаева, в кумулятивный идеал познания. Не стоит опасаться автору и за читателей, переживающих якобы бум «субъективного времени», ибо, скажем: как бы ни были быстротечны сладостные мгновенья свиданий влюбленных, о размеренном ходе «объективного времени» им напомнит последняя сбежавшая электричка, все еще подчиняющаяся ему и следующая по расписанию, как и многое другое в этой жизни. Так что все же придется идти «по шпалам», а не «куда глаза глядят».
Хаотичное нагромождение признаков, которые приводятся «исследовательницей» для характеристики своего главного открытия – «готического общества», определяется довольно своеобразной (по-видимому, социологической?) теорией. Успешность развития общества обусловлена своевременностью и скоростью рождения понятий-демиургов. Накануне Великой французской революции рождаемость понятий, которые «властно формировали политическую и социальную действительность», была хорошей, да и появлялись они на свет хотя и несколько поспешно, но всегда кстати. Ныне же наступило время интеллектуального бесплодия, что грозит нормальному развитию общества, которое изменяется как хочет, а не как ему должно быть предписано интеллектуалами, не поспевающими за ходом событий. Правда, объяснить механизм оформления действительности понятиями не помогает Д. Хапаевой даже ссылка на обосновываемую Н. Колосовым логику имен нарицательных и собственных, регулирующую применение понятий. «О том, как происходит превращение имен нарицательных в имена собственные под влиянием собственного времени, пока можно только гадать», – признается «исследовательница». Поэтому читатель волен увидеть в ее прорицаниях о кризисе восприятия времени не более чем результаты гадания на кофейной гуще, которые лишний раз указывают на то, сколь глубоко она сама неосознанно прониклась идеями готической эстетики, превратив последнюю по канонам постмодернистского релятивизма в этику и сделав реальностью собственного сочинения. Неудивительно поэтому, что многочисленные приводимые в публикации примеры проявления черт «готического общества» воспринимаются как бессмысленно сваленные в кучу, упорядочить которую автор не в силах не только посредством непродуманных теоретических постулатов, но и при помощи формы повествования. Доверительное обращение к читателю, стремление превратить его при помощи лексической инклюзивности (столь частые в тексте «нам», «нас» и т. п. применительно к самому широкому и неопределенному кругу лиц) в человека, разделяющего взгляды автора, постоянно диссонирует с однозначным утверждением собственной позиции, поддерживать которую читатель не обязан в силу ее недоказанности.
ИСТОРИЯ
Вновь ИстМат и вновь за него неловко
Игорь Дубровский

Перри Андерсон. Переходы от античности к феодализму. М.: Территория будущего, 2007. 288 с.
Что нового и ценного дает нашему читателю перевод книги Перри Андерсона «Переходы от античности к феодализму»? Я не знаю, что на это ответить.
Любой текст, с которым мы не согласимся по существу, может иметь свои достоинства в виде собранного материала, постановки вопросов, способа их рассмотрения и т. д. О книге Андерсона примерно так и пишут. Ее идей в прямом смысле никто не разделяет и не отстаивает. В глазах западных историков она предстает «непревзойденной по замыслу и охвату», «смелой попыткой создания большого нарратива». Западному человеку может показаться новой и любопытной сама попытка дать связную картину нескольких эпох европейской истории и увидеть общественно-историческое движение как некий объяснимый процесс. «Переходы от античности к феодализму» остаются памятником историографической гигантомании. Для наших западных коллег в этой книге есть нечто волнующее и беспрецедентное. У человека в России другой опыт и прежде всего другое историческое образование. В отличие от западных университетов, историческое образование в нашей стране мыслится как сплошное полотно общих курсов по истории древнего мира, Средних веков и т. д. и строится на основе учебников. «Большие нарративы», которые хороши только «замыслом и охватом», нам давно и основательно набили оскомину.
Андерсон не работает с историческими источниками. Его рассмотрение основывается на литературе – книгах и статьях других исследователей. Автор претендует на то, что может обобщить большой и разный историографический опыт. Вместо объема мы получаем плоскость, где все встает на свои места и уже не двигается со своих мест. Как это достижимо практически, как сделать обоснованный выбор между разными историческими интерпретациями? Для Андерсона таким оселком служит его историческая концепция. Он называет ее марксистской. Автор имеет в виду представление, согласно которому человечество проходит в своей истории определенные стадии. Разные общества не просто устраивают свою жизнь по-разному, но реализуют в себе некие последовательные возможности общественной и хозяйственной жизни, именуемые общественно-экономическими формациями. В книге Андерсона представлены два больших исторических периода – история древнего мира и Средние века. Они трактуются как время господства рабовладельческой и феодальной формаций.
Представление об общественно-экономических формациях как этапах истории человечества, а не просто разных формах жизни, требует вполне определенных доказательств. Таким доказательством должно быть утверждение о пределах развития, данных в одной формации. Формации должны быть охарактеризованы как реализованные и исчерпанные возможности. Без такого отрицательного критерия все разговоры о формациях как этапах исторического пути мало что стоят.
Андерсон стремится обосновать утверждение о том, что античные и средневековые общества заметно отличаются по уровню технологического развития. По замечанию Андерсона, античность не знала сложных механизмов, идущих на смену ручному труду и увеличивающих производительность. Из описаний Плиния Старшего мы точно знаем, что сельскохозяйственные машины изобретались. Такова, например, галльская жнейка, что-то вроде примитивного комбайна на конной тяге. Но такие механизмы и хитроумные приспособления не получали широкого распространения. Согласно автору, то же можно сказать по поводу мельниц. Андерсон воспроизводит мнение, что водяные мельницы, известные в древности, распространились только в Средние века. В плане энерговооруженности греко-римская античность, следовательно, почти целиком полагалась на мускульную силу людей и животных. Почему важные изобретения в античности не находили спроса и не внедрялись в широкое производство? Ответом на этот вопрос и служит мысль об общественно-экономических формациях. Препятствием на пути поступательного экономического развития были некие социальные условия. Определяющим социальным фактом марксистская мысль называет господствующее отношение между трудящимися и «эксплуататорами». Характерной фигурой в античности был раб, целиком принадлежащий рабовладельцу. В Средние века место раба занял крестьянин, обязанный уплачивать сеньориальную ренту. Средневековые крестьяне и их сеньоры, пишет Андерсон, были или могли себя считать хозяевами процесса производства и быть заинтересованными в новых технологиях и хозяйственном росте. Рабы, в любом случае не выигрывавшие и не проигрывавшие ничего, должны были работать из-под палки. Если античность была временем технологического застоя, то Средние века привели к заметным изменениям в древних традициях земледелия. Рост обрабатываемых площадей в Европе около и после юоо года Андерсон считает иллюстраций динамизма средневековой экономики, не имеющего аналогов в древности.
Все эти утверждения – выжимка из историографии. Буквально все они могут быть оспорены. Здесь надо оговориться. Из недавней истории своей страны мы знаем, что общественные условия могут блокировать или серьезно тормозить технический прогресс, быть помехой для динамичного развития. Нет слов, как это интересно и существенно. Решение таких жгучих общественных вопросов скорее всего и есть предназначение историка. Но все вопросы в исторической работе решаются методом наблюдения. Иначе ответы рискуют оказаться «выдуманными из головы».
ПОЧЕМУ ВАЖНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ В АНТИЧНОСТИ НЕ НАХОДИЛИ СПРОСА И НЕ ВНЕДРЯЛИСЬ В ШИРОКОЕ ПРОИЗВОДСТВО?
Перри Андерсон кругом не прав. В первый век существования Римской империи многие римские авторы обрушиваются на латифундии, которые ассоциируются у них с толпами закованных рабов и плохой обработкой земли и ее запустением. Вопреки мнению Андерсона, сегодня мы точно знаем, что такие рабовладельческие латифундии не были распространенной формой организации рабовладельческого хозяйства, да и просуществовали недолго. Инвективы против латифундий – глава из истории политической борьбы в древнем Риме, а не зарисовки быта. Более типичным исследователи называют поместье среднего размера – рабовладельческую виллу, где труд рабов был организован с умом и построен не на кандалах и палках, а на системе поощрений хорошим работникам. Прямых данных о сравнительной производственной отдаче труда рабов и мелких свободных земледельцев у нас нет. Специалисты по римской экономике считают, что речь идет о сопоставимых величинах.[118]118
Штаерман Е. М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978. гл. III.
[Закрыть] Андерсон стремится представить античных рабов даровой рабочей силой, которую в изобилии давали войны и победы римского оружия. Это якобы влекло рабовладельцев к отказу от хлопотного и затратного пути технического развития производства. Наши историки приходят к другим выводам. Они говорят, что «прирожденный раб был гораздо более типичной фигурой, чем проданный в рабство».[119]119
Штаерман Е. М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. М., 1964, с 55: Утченко С. Л., Штаерман Е. М. О некоторых вопросах истории рабства // Вестник древней истории, 1960, № 4.
[Закрыть] Покупные рабы, тем более квалифицированные работники, как правило, стоили слишком дорого. Не щадить их труд было неразумно. Одна римская эпиграмма прославляла водяные мельницы за то, что они облегчают труд рабынь, которым положено молоть муку. То, что широкое распространение водяных мельниц на Западе относится только ко времени «феодализма», некогда утверждал Марк Блок. Андерсон опирается на его аргументы и делает это зря. Тут снова можно повторить, что теперь мы имеем другие сведения. В наши дни археологи раскопали солидное число римских и раннесредневековых водяных мельниц. Вопрос о распространении водяных мельниц в Римской империи можно считать закрытым. Они там были.[120]120
Из последних обзоров сделанного в этой области см.: Р. Racine. Le paysage des moulins en Europe Occidentale au moyen âge // Nuova rivista storica, 2006, fasc. II, p. 409–446. На всякий случай можно напомнить читателю, что ветряные мельницы получили распространение позднее, Дон Кихот принимал их за чудовища не только по причине расстроенного ума, но и потому что в Ламанче XVI века они еще были чем-то невиданным.
[Закрыть] Та самая галльская жнейка, по поводу которой историки так долго вздыхали, давала выигрыш в производительности, но при этом заметно увеличивала потери зерна. Если лишних земель для обработки нет, то лучше жать вручную. Доказательством технической отсталости римского сельского хозяйства по сравнению со Средними веками долгое время считалась история хомута. Андерсон повторяет старое утверждение, что в древности упряжь тяглых животных сдавливала им горло и не позволяла работать в полную силу. Перри Андерсон объясняет это в том смысле, что роль рабочего скота в античности исполняли рабы. Сегодня доказано, что это мнение основано на ошибочной реконструкции древней упряжи.[121]121
М.-С. Amouretti. L'attelage dans l'antiquité: le prestige d'une erreur scientifique // Annates ESC, 1991. № 1, p. 219–232.
[Закрыть]

Лариса Наумова. Девушка с красными петухами, 2004
Послевоенная историография, за которой идет Андерсон, считала своей важной задачей открытие динамики развития средневековой экономики. Прежде всего это касалось главной производственной сферы Средних веков – сельского хозяйства. Такие исследователи, как Дюби, Слихер ван Бат и другие, в 1960-е годы сформулировали концепцию роста сельскохозяйственного производства. Ее приверженцы стремились аргументировать мысль о постепенном росте урожайности на основе усовершенствования земледельческой техники. Одно время эта концепция в нашей стране и за рубежом получила широкое признание, но затем подверглась разрушительной критике.[122]122
Подробнее об этом см, Ю. Л. Бессмертный. Современная западноевропейская историография о развитии производительных сил в средневековом земледелии. М., 1981; А. Д. Люблинская, Французские крестьяне в XVI-XVIII веках Л., 1978.
[Закрыть] Эта строгая критика справедливо указывала на два момента. Наши данные об урожайности в Средние века, во-первых, носят отрывочный и противоречивый характер. Когда в Новое время таких данных по отдельным регионам становится заметно больше, то выясняется, что урожайность отнюдь не имеет тенденции к росту. Напротив, из-за засоления почв во многих местах она систематически падает. Второй, более существенный упрек касается самого понимания традиционного аграрного быта. Идея роста производительности труда на основе технического прогресса применительно к средневековому земледелию является анахронизмом.
Здесь лучше сказать подробнее. Агрикультура – прежде всего наука о том, как сохранить ускользающее плодородие, найти замену тем элементам почвы, которых она лишилась с последним урожаем. Пахота, позволявшая возвращать в почву потерянный азот, являлась первым и главным способом ее рефертилизации. Ту же цель преследовали системы ротации, чередования посевов культурных растений, а также периодический отдых земли – оставление ее под паром. Все эти меры имели смысл и давали отдачу, но не могли изменить химию почв существенно. В ситуации недостатка удобрений плодородие приближалось к естественному.
Приверженцы современных экологических движений полемически противопоставляют потребительское и разрушительное отношение к природе, свойственное современным обществам, неким оптимальным отношениям между человеком и природой, которые, по их мнению, существовали в прошлом, например, в Средние века. Это по меньшей мере опрометчивое обобщение. Но если мы будем иметь в виду и оценивать конкретные практики, например, способы ведения сельского хозяйства в Средневековье и в наши дни, то, пожалуй, увидим некоторые весьма примечательные отличия. Традиционная агрикультура ориентирована на поддержание естественного плодородия почв. Лучшие или даже все удобрения до конца Средневековья направляются на поддержание плодородия заведомо плохих земель. С точки зрения современной агрономии, это нонсенс. Но в Средние века поступали именно так. Земледелец учился использовать конкретную природную ситуацию, руководствуясь идеей сохранения того, что есть. Такая хозяйственная философия отражает строй крестьянской экономики, стремящейся к самовоспроизведению на одном уровне, но кроме того, видимо, отражает характер восприятия природы и своей трудовой деятельности применительно к ней, какое-то осмысление самой возможности получения от нее благ. Средневековые календари, изображающие двенадцать месяцев года в картинах сельского быта, рассказывают о том, каким могло видеться сельское хозяйство. В иконографии календарей мы встречаем в общем ограниченный набор сцен. Это подрезка лозы, сбор, давка винограда, сев, жатва, обмолот хлебов, откорм желудями и забой свиней. Зато почти нет картин тягостных подготовительных операций, как-то: пахоты, удобрения почв, расчистки нови. Агрикультура изображается как род собирательства, словно бы плоды земли родятся сами собой.[123]123
На это обращает внимание Ж. Коме: G. Comet., Le paysan et son outil, essai d'histoire technique des céréales (France, VIIIe – XVe siècles). Roma, 1992.
[Закрыть] Крестьяне просто берут от природы хлеб, сено, виноград, мясо, овечью шерсть. Идея рождающей природы, кажется, заслоняет идею труда и производства как сознательного и целенаправленного преобразования среды.
С древнейших времен орудия труда земледельцев остаются примитивными и неизменными. В Средние века не было придумано ни одного нового. Недаром в сочинениях о земледелии они не описываются.
Одно время историки видели прогресс земледелия в переходе от сохи к плугу. Сегодня эта мысль, повторенная Андерсоном, считается спорной. Выбор того или иного инструмента был обусловлен прежде всего естественными условиями. Для обработки легких, сухих, каменистых почв Средиземноморья, которые могут быть легко разрушены глубокой вспашкой, лучше подходит соха, более простое и древнее орудие, корябающее землю и симметрично отбрасывающее ее по обе стороны борозды. Такая пахота лучше всего предохраняет некоторые виды почв от выветривания. Переворачивающий почвенный слой благодаря специальному приспособлению, отвалу, плуг годился для тяжелых и переувлажненных почв, которые характерны для северной части Европы. В одном хозяйстве подчас имелись разные пахотные орудия для разных почв и разной вспашки. Распространение плуга связано с введением в хозяйственный оборот тех земель, которые сохой было не взять. Соха и плуг не являются двумя последовательными этапами в эволюции одного орудия. Это разные инструменты, используемые для производства разных операций.
Я вспоминаю одну добротную книгу о земледелии средневекового Ирана. Ее автор сначала подробно описывает необыкновенно сложную систему местной ирригации. Иранские водосборные каналы – каризы, или по-арабски «канаты» – проложены под землей на глубине в десятки метров и идут на десятки километров. О размахе этих древних гидротехнических сооружений говорит тот факт, что уровень ирригации иранского земледелия, существовавший накануне гибельного монгольского нашествия в XIII веке, не восстановлен до сих пор. Но, оказывается, еще труднее объяснить другое. Почему при этом не развиваются пахотные орудия? «Контраст между примитивностью и неподвижностью орудий пахоты, с одной стороны, – пишет автор, – и развитыми приемами агротехники иранского земледельца и сравнительно сложными типами ирригационных сооружений, особенно подземных, с другой стороны, кажется поразительным».[124]124
И. П. Петрушевский. Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII-XIV веков. М., Л., 1960.
[Закрыть]
ИДЕЯ РОЖДАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ, КАЖЕТСЯ, ЗАСЛОНЯЕТ ИДЕЮ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВА КАК СОЗНАТЕЛЬНОГО И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СРЕДЫ
Ответ лучше поискать в своих предубеждениях. От экономики древности и Средних веков нас отделяет промышленная революция XIX века. Начиная с эпохи промышленной революции развитие техники, влекущее за собой рост производительности труда, становится мотором экономического роста. К истории земледелия доиндустриальной эпохи с такими мерками подходить не стоит.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































