Текст книги "Лики дьявола"
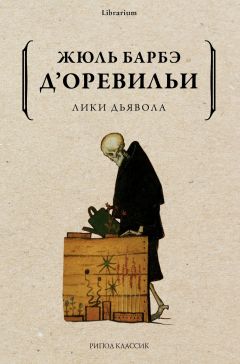
Автор книги: Жюль д'Оревильи
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Вы – испанка? – спросил Трессиньи, узнавая в ней один из наиболее прекрасных типов этой расы.
– Да, – отвечала она.
Быть испанкой в то время что-нибудь да значило. Этот товар был нарасхват. Романы той эпохи, театр Клары Газуль, стихотворения Альфреда де Мюссе, танцы Мариано Кампруби и Долорес Серрал заставляли особенно высоко ценить женщин с оранжевым цветом лица и гранатовым румянцем; женщины, называвшие себя испанками, не всегда были ими, но они этим хвастались. Эта женщина, однако, дорожила своим качеством испанки не более, чем всякою другою вещью, которою старалась бы блеснуть.
– Идешь ли ты со мною? – спросила она, обращаясь к Трессиньи в упор, по-французски и на «ты», как сказала бы последняя женщина из Rue des Poulies, также существовавшей в то время. Помните ли вы ее? Помойная яма!
Ее тон, слегка охрипший голос, преждевременная фамильярность, ее «ты», божественное в устах любящей женщины и превращающееся в кровное оскорбление в устах твари, для которой вы не более как прохожий, – все это могло отрезвить Трессиньи, внушив ему отвращение к ней, но он был в руках дьявола. Любопытство, смешанное с желанием, которое он ощутил при виде этой женщины, бывшей для него лишь великолепным телом, плотно затянутым в шелк, заставляло бы его проглотить не только яблоко Евы, но и всех жаб в болоте!
– Черт возьми! – сказал он. – Иду ли я? Как будто она может еще в этом сомневаться!
Они стояли в конце переулка, выходившего на Rue des Mathurins; они вошли в нее. Посреди огромных камней и неоконченных построек возвышался одинокий дом, без соседей, узкий, отвратительный, угрюмый, весь дрожавший и видевший, по всей вероятности, много пороков и преступлений во всех этажах своих старых пошатнувшихся стен; быть может, для того, чтобы увидеть еще больше, он и был оставлен там, вырисовываясь черным пятном на темном уже небе.
Высокий и слепой, ибо ни одно его окно (а окна – глаза домов) не было освещено, он словно останавливал вас среди ночи! В этом ужасном доме была классическая полуоткрытая входная дверь всех неопрятных домов и в конце низкого коридора лестница, первые ступени которой освещались сверху слабым и грязным светом… Женщина вошла в узкий коридор и сразу заполнила его широтою своих плеч и роскошною, дрожавшею пышностью своих юбок; привычным к таким восхождениям шагом она легко поднялась по витой лестнице, напоминавшей собою улитку и внешним своим видом, и своею липкостью… Необычно для этих грязных домов было то, что чем дальше, тем ярче освещалась отвратительная лестница: то не был уже тусклый свет вонючей лампы, ползавший по стенам первого этажа; во втором этаже он лился широко и ослепительно. Два бронзовых, прикрепленных к стене канделябра со свечами пышно освещали обычную с виду дверь с прибитой на ней карточкой, на которой эти женщины выставляют обычно свое имя в тех случаях, когда у них есть какая-либо репутация или красота. Изумленный роскошью, столь неподобающей в этом месте, Трессиньи обратил больше внимания на величественные по стилю факелы, отлитые могучею рукою артиста, нежели на карточку и имя женщины, которое ему не было нужно, так как он шел за нею. Глядя на то, как она поворачивала ключ в замке этой странной и залитой светом двери, он припомнил сюрпризы маленьких домиков эпохи Людовика XV. «Эта женщина, – подумал он, – наверное, начиталась романов или мемуаров той эпохи, и ей пришла в голову фантазия устроить хорошенькое жилище, полное сладострастного кокетства, в таком месте, где никак нельзя его подозревать…» Но то, что он увидел, когда дверь отворилась, удвоило его удивление, хотя и в обратную сторону.
То было действительно не более как тривиальное и беспорядочное жилище уличной женщины… Платья, в беспорядке разбросанные по всей мебели, и широкая кровать с бесстыдными зеркалами в глубине и вверху алькова ясно говорили о том, где находится посетитель… Стоявшие на камине флаконы, даже не закрытые перед отправлением в вечернюю кампанию, смешивали вместе различные ароматы в теплой атмосфере комнаты, где энергии мужчин суждено было растворяться при третьем дыхании… Два зажженных канделябра в том же стиле, как и дверные, горели по обе стороны камина. Повсюду поверх ковра были раскиданы звериные шкуры. Все было предусмотрено. Наконец, в открытой двери виднелась из-за портьер таинственная уборная – ризница этих жриц.
Все эти подробности, однако, Трессиньи увидел лишь позже. В первую минуту он видел только женщину, к которой пришел. Зная, где он находится, он не стеснялся. Сев на диван, он без церемоний привлек к себе женщину, освободившуюся от шали и шляпы и бросившую их на кресло. Охватив ее талию, словно заключив ее между своими сжатыми руками, он смотрел на нее снизу вверх, как пьяница, поднимающий на свет стакан вина, который он собирается выпить. Его уличные впечатления не обманули его. Для знатока женщин, для пресыщенного, но сильного человека, она была в самом деле великолепна. Сходство, так удивившее его в подвижном сумраке улицы, удержалось и теперь при ярком и ровном освещении. Только у женщины, которую она ему напоминала, не было в лице, черты которого казались тождественными с этими чертами, этого выражения решительной, почти страшной гордости; дьявол, веселый покровитель всякой анархии, отказал в нем герцогине и дал его – для чего? – уличной женщине. Когда она сняла шляпу, то, черноволосая, в желтом платье, с широкими плечами и еще более широкими бедрами, она напоминала «Юдифь» Берне; но тело ее казалось еще более созданным для любви, а выражение лица было еще более жестким. Эта мрачная жесткость происходила, быть может, от складки, которая пролегла между ее прекрасными бровями, протянулась до висков, как приходилось это видеть Трессиньи у некоторых азиатских женщин в Турции; постоянно сдвигала она брови с озабоченным видом, так что они почти сливались. Поразительный контраст! Тело этой женщины было как тело всех женщин ее профессии; но лицо было совсем особое. Тело куртизанки, говорившее так красноречиво: бери! – чаша любви с округлыми боками, манившая прикоснуться к ней руками и губами, – было увенчано лицом, которое гордостью своего выражения могло остановить всякое желание и заставить застыть в почтении самое жгучее сладострастие… К счастью для нее, угодливая улыбка куртизанки, которою она умела осквернять идеально презрительный изгиб рта, вскоре привлекала к ней тех, кого на первых порах отпугивала жесткая гордость ее лица. На улице она всем улыбалась этой заискивающей улыбкой, бесстыдно игравшей на ее нарумяненных губах; но теперь, когда она стояла перед Трессиньи, она была серьезна и лицо ее дышало такою непримиримостью, что ей недоставало только кривого кинжала для того, чтобы денди Трессиньи мог искренне вообразить себя Олоферном.
Он взял ее безоружные руки и стал любоваться их царственной красотой. Она молчаливо дозволяла разглядывать себя всю и в свою очередь сама смотрела на него – не с пустым или алчным любопытством, обычным для таких женщин, которые, разглядывая человека, взвешивают его, как подозрительную монету… Очевидно, ее занимала иная мысль, кроме мысли о выгоде, которую она получит, или о наслаждении, которое доставит. Широкие крылья ее носа, столь же выразительные, как и глаза, из которых, как и из глаз, страсть должна была извергать пламя, дышали последнею решимостью, словно решимостью на преступление. «Если бы неумолимое выражение этого лица было случайно неукротимостью любви и чувств, какое счастье для нее и для меня в наше время истощения», – подумал Трессиньи, раньше, чем удовлетворить свою прихоть, рассматривавший ее, как английскую лошадь… Опытный и строгий критик в делах женской красоты, покупавший красивейших девушек на рынках Адрианополя и знавший цену телу, обладавшему такой окраской и упругостью, бросил в виде платы за два часа пригоршню луидоров в голубой хрустальный бокал, стоявший вблизи на кронштейне; по всей вероятности, в него никогда не попадало столько золота.
– Ах! Значит, я тебе нравлюсь? – воскликнула женщина, смелая и готовая на все под влиянием сделанного им жеста или, быть может, выведенная из терпения этим разглядыванием, в котором любопытство перевешивало желание, что в ее глазах было тратою времени или оскорблением. – Позволь мне снять все это, – сказала она, словно платье ее тяготило и расстегивая две пуговицы своего корсажа…
Она вырвалась из его объятий и удалилась в уборную. Будничная деталь! Берегла ли она свое платье? Платье – профессиональный атрибут таких женщин… Трессиньи, при виде ее лица мечтавший о ненасытности Мессалины, сразу упал в плоскую банальность. Он снова почувствовал себя в гостях у публичной женщины, невзирая на выражение ее лица, так противоречившее судьбе той, которая им обладала. «Ба! – подумал он. – Поэтично только поверхностное знакомство с этими женщинами, и надо брать поэзию там, где она есть».
И он решил взять эту поэзию там, где она найдется; но встретил ее и там, где, конечно, не ожидал ее найти. До сих пор, следуя за этой женщиной, он повиновался лишь непреодолимому любопытству и капризу, в котором не было ничего возвышенного; но когда женщина, так быстро их ему внушившая, вышла из уборной, куда она отправилась сбросить с себя вечерний наряд; когда она вернулась к нему в костюме (который, собственно, едва ли заслуживал это название), в костюме гладиаторши, готовой вступить в битву, он был как громом поражен ее красотою; опытный взгляд его, взгляд скульптора, которым обладают знатоки женщин, не сумел угадать всей этой красоты на улице, в колебаниях ее одежд и походки. Молния, упавшая на него в эту дверь, не поразила бы его сильнее… Она не была вполне нага; но это было хуже! Она была гораздо более непристойна, чем если бы была откровенно нага. Мрамор наг и нагота целомудренна. Нагота даже отвага целомудрия. Но эта женщина, преступная и нецеломудренная, готовая сама зажечься, как живой факел Нерона, чтобы лучше воспламенить чувства мужчины, ремесло которой внушило ей, без сомнения, самую низкую испорченность, слила воедино коварную прозрачность тканей и откровенность тела с дурным вкусом ужасающего разврата, ибо – кто не знает? – в разврате дурной вкус – сила… Деталями своего вызывающего туалета она напомнила Трессиньи ту трудноописуемую статуэтку, перед которой он иногда останавливался, когда она была выставлена у всех продавцов бронзы в Париже, на цоколе которой стояло одно только таинственное имя: «Madame Husson»[6]6
«Мадам Юссон» (фр.).
[Закрыть]. Непристойная и опасная мечта! Здесь эта мечта была превращена в действительность. Перед этой дразнящей реальностью, перед этой абсолютной красотой, но без присущей ей холодности, Трессиньи, приехавший из Турции, уподобился бы самому пресыщенному из пашей, если бы вернулся вновь к своим чувствам христианина или даже анахорета. Равным образом, когда эта женщина, привыкшая уже к вызываемым ею волнениям, бесстрашно подошла к нему, поднеся почти к уровню его губ сладкую роскошь своего бюста движением куртизанки, соблазняющей святого на картине Поля Веронеза, Роберт де Трессиньи, далеко не бывший святым, ощутил голод… Он обхватил руками эту грубую соблазнительницу с пылкостью, которую она разделяла, так как почти одновременно бросилась к нему. Бросалась ли она так же во все объятия, открытые перед нею? Как ни была она искусна в своем ремесле куртизанки, в этот вечер она отличалась таким яростным, неистовым пылом, который трудно было объяснить даже упоением исключительных или больных чувств. Была ли она еще вначале своей ужасной уличной карьеры, возбуждавшей в ней этот пыл? Но поистине то было нечто дикое и жестокое; казалось, что в каждой ласке она хотела расстаться со своею жизнью или отнять жизнь у другого. В то время ее парижские товарки, не находившие достаточно солидным красивое прозвище «лоретка», данное им литературою и увековеченное Гаварни, называли себя по-восточному «пантерами». И следует сказать, что ни одна из них не сумела бы лучше оправдать этого прозвища… В этот вечер она обнаружила гибкость, умение прыгать, обвиваться, царапаться и кусаться, присущее только пантере. Трессиньи убедился в том, что ни одна из женщин, которых он знал раньше, не могла дать ему тех ощущений, которыми подарило его это создание, опьяненное собственным телом и заражавшее его этим опьянением, а между тем он ли не любил… он – де Трессиньи? К стыду ли или к славе человеческой природы, следует, однако, заметить, что в том, что мы, быть может, с чересчур большим презрением называем наслаждением, есть бездны столь же глубокие, как и в любви. В такие ли пропасти ввергла его эта женщина, как море бросает в свои бездны сильного пловца? Она далеко превзошла все его преступные воспоминания, а также и мечты, созданные его воображением, мощным и в то же время испорченным. Он позабыл все: и кто она была, и то, зачем он пришел, и дом, и квартиру, при входе в которую его охватила почти тошнота. Она буквально вытянула из него душу и переселила ее в свое тело… Она сумела опьянить до беспамятства его чувства, едва поддававшиеся опьянению. Она осыпала его такими ласками, что была минута, когда у этого скептика и атеиста любви возникла безумная мысль о чувстве, внезапно зажегшемся в этой женщине, торговавшей телом. Да, Роберт де Трессиньи, столь же холодный, как и его патрон Роберт Ловелас, подумал, что внушил по меньшей мере минутный каприз этой проститутке, рисковавшей сгореть и погибнуть, если бы она была такою с остальными. Этот сильный человек отдался минутной иллюзии, как глупец… Но его тщеславие, возбужденное ею в пылу наслаждения, жгучего, как любовь, было внезапно между двумя ласками проникнуто трепетом сомнения… Какой-то голос крикнул ему из глубины его существа: «Не тебя она любит в тебе!» В ту минуту, когда она всего более походила на пантеру и всего теснее была слита с ним, он увидел, что она – далеко от него и вся погружена в созерцание браслета, на котором Трессиньи заметил портрет мужчины. Несколько слов, сказанных ею на испанском языке, которых Трессиньи не понял, сливаясь с ее криками вакханки, были обращены, как ему показалось, к этому портрету. Мысль, что он находится здесь вместо другого, – факт, к несчастью, столь обычный в наших презренных нравах, при разгоряченном и извращенном состоянии нашего воображения, замена невозможного в сердцах, охваченных страстью, не могущих обладать предметом своего желания и бросающихся на внешность, – овладела вдруг его умом и оледенила душу яростью. В одну из таких минут нелепой ревности и оскорбленного тщеславия, когда человек не в силах владеть собою, Трессиньи грубо схватил ее за руку с целью рассмотреть браслет, на который она глядела со страстью, относившейся к другому, когда все в этой женщине должно было принадлежать ему.
– Покажи мне портрет! – сказал он тоном еще более грубым, чем было его движение.
Она поняла, но сказала смиренно:
– Ты не можешь ревновать такую, как я. – И к удивлению Трессиньи, она произнесла, относя его к себе, оскорбительное бранное слово. – Ты хочешь его видеть, – прибавила она. – Хорошо же! Смотри!
И она поднесла к его лицу свою дивную руку, еще влажную от опьянявшего их наслаждения.
То было изображение некрасивого, хилого мужчины с оливковым цветом лица, с черно-желтыми глазами, с мрачным, но благородным видом бандита или испанского гранда. Скорее, впрочем, то был испанский гранд, так как на шее у него висела цепь Золотого Руна.
– Где ты взяла это? – сказал Трессиньи, подумав про себя: «Сейчас она расскажет мне сказку, опишет своего первого соблазнителя, – старую историю, которую все они рассказывают».
– Взяла? – повторяла она с возмущением. – Никто иной, как он сам, por Dios[7]7
Ей-богу (исп.).
[Закрыть], дал мне эту вещь!
– Кто он? Твой любовник, конечно? – спросил Трессиньи. – Ты его, по всей вероятности, обманула. Он тебя выгнал, и ты попала на улицу.
– Он мне не любовник, – сказала она холодно, с бесчувствием бронзы при этом оскорбительном предположении.
– Быть может, он в настоящую минуту не твой любовник, – сказал Трессиньи. – Но ты его любишь до сих пор: я угадал это по твоим глазам.
Она горько усмехнулась.
– Ах! Так ты ничего не понимаешь ни в любви, ни в ненависти! – воскликнула она. – Любить этого человека? Я его ненавижу! Это мой муж!
– Твой муж?
– Да, мой муж, – повторила она, – знатнейший вельможа Испании, трижды герцог, четырежды маркиз, пять раз граф, несколько раз гранд, кавалер ордена Золотого Руна. Я – герцогиня д’Аркос де Сиерра-Леоне.
Трессиньи, пораженный этими словами, ни на минуту не усомнился, однако, в их истине. Он был уверен, что эта женщина не лгала. Он только что узнал ее. Сходство, так поразившее его в ней на улице, оправдалось.
Он встречал ее, и не так уж давно! То было в Сен-Жан-де-Люз, где он проводил купальный сезон. Как раз в том году высшее испанское общество назначило себе свидание на берегу Франции, в маленьком городке, отстоявшем так близко от Испании, что, живя там, можно было воображать себя в Испании; испанцы, наиболее влюбленные в свой полуостров, могут приезжать туда на отдых, не считая, что совершают неверность по отношению к своей родине. Герцогиня Сиерра-Леоне провела лето в этом местечке, столь близком Испании по характеру, по нравам, по типу и физиономии, по историческим воспоминаниям; именно там была отпразднована свадьба Людовика XIV, французского короля, который, сказать мимоходом, наиболее походил на испанского, и там именно приютилось после своего крушения потускневшее счастье принцессы де Юрсен. Герцогиня Сиерра-Леоне, по слухам, проводила там медовый месяц своего брака с величайшим и могущественнейшим грандом Испании. Когда Трессиньи приехал в это гнездо пастухов, одарившее мир самыми страшными морскими разбойниками, герцогиня жила там с роскошью, невиданною со времени Людовика XIV; в этой стране среди женщин, не имевших соперниц по красоте, со станами греческих корзиноносиц, с бледно-зелеными глазами цвета морских водорослей, герцогиня затмевала всех своею красотою. Привлеченный этою красавицей и обладая состоянием и происхождением, открывавшими ему доступ во все сферы, Роберт де Трессиньи попытался было добраться до нее, но кружок испанского дворянства, над которым царила герцогиня, весьма тесный и замкнутый в том году, не открывал своих дверей перед французами, проводившими сезон в Сен-Жан-де-Люз. Герцогиня, которую он видел только издали на дюнах или в церкви, уехала раньше, чем он успел с нею познакомиться; поэтому она осталась в его памяти как метеор, особенно яркий вследствие того, что он исчез для него безвозвратно. Трессиньи объехал Грецию и часть Азии; но ни одно из редких созданий этих стран, где красота занимает такое место, что без нее не представляют себе рая, не могло изгладить из его памяти прочно запечатлевшегося яркого образа герцогини.
И вот сегодня, по воле странного и необъяснимого случая, герцогиня, которою он так недолго любовался и которая затем исчезла, входила вновь в его жизнь одним из самых невероятных путей! Она занималась самым низким ремеслом: он ее покупал. Она принадлежала ему. Она была проституткой, и притом самого низшего разбора, ибо даже в падении есть известная иерархия… Великолепная герцогиня Сиерра-Леоне, о которой он мечтал и которую, быть может, любил (мечта так близка к любви в наших душах), была теперь не более как… возможно ли?.. дочерью парижских мостовых!!! Она кинулась в его объятия, как, по всей вероятности, кидалась накануне в объятия другого, такого же первого встречного, как и он, и как кинется в объятия третьего завтра или, кто знает, быть может, через час! Ах! Это отвратительное открытие ледяным молотом стучало ему в грудь и в голову. Мужчина, горевший весь всего несколько минут тому назад, которому в бреду казалось, что пламя поднималось до карнизов комнаты, и который отдавался охватившему его огню, оказался вдруг отрезвленным, оцепенелым, раздавленным. Мысль и уверенность в том, что женщина эта была действительно герцогиня Сиерра-Леоне, не оживила его желаний, угасших с быстротою свечи, которую задули, и не заставила его с большею жадностью припасть устами к тому огню, от которого он пил полными глотками. Открывшись ему, герцогиня убила в себе куртизанку! Перед ним была теперь только герцогиня; но в каком состоянии! Загрязненная, низвергнутая, гибнущая, идущая ко дну женщина, упавшая с большей высоты, чем Левкадийская скала, в море грязи – зловонное и отвратительное, – из которого ее нельзя было вытащить. Он смотрел на нее остановившимся взором; она сидела на краю дивана, прямая и мрачная, преображенная и трагическая; из Мессалины она превратилась в таинственную Агриппину; в нем не было уже желания дотронуться кончиком пальца до этой твари, роскошные формы которой он только что сжимал в своих идолопоклоннических объятиях, стараясь убедиться, что именно это женское тело заставляло его так кипеть, что это не была иллюзия, что он не бредил и не сходил с ума! Герцогиня, поднявшись из-за уличной женщины, уничтожила ее.
– Да, – произнес он голосом, едва выходившим из горла, до такой степени он был уничтожен только что слышанным, – я вам верю (он не говорил ей более «ты»), ибо я вас узнаю. Я видел вас в Сен-Жан-де-Люз три года тому назад.
При упоминании имени этого местечка луч света пробежал по челу, которое в его глазах с минуты невероятного признания окуталось таким ужасным мраком.
– Ах, – сказала она, озаренная светом этого воспоминания, – я жила в упоении жизнью, а теперь…
Луч погас, но она не склонила гордой головы.
– «А теперь»? – спросил Трессиньи, повторивший ее слова, как эхо.
– Теперь, – сказала она, – меня опьяняет только месть… Но я придам ей достаточно глубины, – прибавила она со сосредоточенной силой, – чтобы умереть в этой мести, подобно москитам моей родины, умирающим от переполнения кровью в той самой ране, которую они сделали. – И, читая в лице Трессиньи, она сказала: – Вы не понимаете, но я вам помогу. Вы знаете, кто я, но вы не знаете, что я такое. Хотите знать? Хотите услышать мою повесть? Хотите? – повторяла она с возбужденной настойчивостью. – Мне хотелось бы рассказать ее каждому, входящему сюда! Я желала бы поведать ее всему миру! Я этим загрязнила бы себя еще больше, но я была бы лучше отомщена.
– Расскажите! – попросил Трессиньи, задетый за живое любопытством и интересом, которых он в такой мере никогда не испытывал ни в жизни, ни за романом, ни в театре… Он был убежден в том, что эта женщина расскажет ему такие вещи, о которых ему еще не приходилось слышать. Он уже не думал о ее красоте. Он смотрел на нее, словно готовился присутствовать при вскрытии ее трупа… Сумеет ли она затем оживить этот труп для него?..
– Да, – сказала она, – много раз хотела я рассказать мою жизнь кому-либо из приходящих сюда; но они говорят, что поднимаются сюда не затем, чтобы выслушивать истории. Как только я начинала рассказ, эти звери, насытившись тем, что им было нужно, прерывали меня и уходили! Равнодушные, издевавшиеся надо мною или оскорблявшие меня, они считали меня лгуньей и сумасшедшей. Они мне не верили. Но вы, вы поверите мне. Вы меня видели в Сен-Жан-де-Люз во всем блеске моего счастья, на самой вершине жизни, носящую, как прекрасную диадему, имя Сиерра-Леоне, которое теперь я влачу по грязи на подоле моего платья, как некогда привязывали к хвосту лошади герб обесчещенного рыцаря. Это имя, которое я ненавижу и которое ношу только затем, чтобы грязнить его, принадлежит до сих пор знатнейшему гранду Испании, горделивейшему из всех вельмож, имеющему право не снимать шляпы перед королем, ибо считает себя в десять раз благороднее короля. Что значат наряду с герцогом д’Аркос де Сиерра-Леоне все знатные роды, царившие в Испании: Кастилья, Арагон, Транстамаре, Бурбон?.. Он говорит, что его род древнее. Он – потомок древних готских королей, а через Брунгильду он в родстве с французскими Меровингами. Он гордится тем, что в его жилах не течет иной крови, кроме sangre azul[8]8
Голубая кровь (исп.).
[Закрыть], между тем как в самых древних родах, унизивших себя мезальянсами, ее осталось всего лишь по нескольку капель… Дон Кристоваль д’Аркос, герцог Сиерра-Леоне и otros ducados[9]9
Букв.: другие герцоги (исп.).
[Закрыть], не унизил себя браком со мною. Я принадлежу к старой итальянской фамилии Турре-Кремата; я – последняя из этого рода, который оканчивается мною, и, надо сказать, вполне достойна носить имя Турре-Кремата («сожженная башня»), ибо сгораю на всех огнях ада. Великий инквизитор Торквемада, бывший первым из рода Турре-Кремата, в течение всей своей жизни не наложил на осужденных столько мучений, сколько живет их в этой проклятой груди… Надо вам сказать, что род Турре-Кремата был не менее горд и знатен, чем Сиерра-Леоне. Разделенный на две одинаково славные ветви, он был всемогущ в течение многих веков в Италии и в Испании. В XV веке, при папе Александре VI, Борджиа, опьяненные успехом папы Александра и пожелавшие породниться со всеми королевскими домами Европы, называли себя нашими родственниками; но Турре-Кремата с презрением отвергли эти притязания, и двое из них поплатились за эту дерзкую гордость жизнью. По слухам, они были отравлены Цезарем Борджиа. В моем браке с герцогом Сиерра-Леоне были заинтересованы два рода. Ни с его, ни с моей стороны в союзе нашем не было чувства. Было понятно, что представительница рода Турре-Кремата должна выйти замуж за Сиерра-Леоне. Это было ясно даже мне, выросшей среди ужасного этикета старых домов Испании, каким являлся этикет Эскуриала, среди сурового и гнетущего этикета, который мог бы помешать сердцам биться, если бы сердца не были сильнее этого стального корсета. У меня было одно из таких сердец… Я полюбила дона Эстебана. До встречи с ним мой брак, в котором не было счастья сердца (я даже не знала, что у меня было сердце), являлся мрачною сделкою, какие были обычны в обрядовой и католической Испании и какие встречаются теперь лишь в виде исключения в некоторых семьях высших классов, хранящих традиции старины. Герцог Сиерра-Леоне был чересчур испанец, чтобы не быть хранителем прошлого. Важностью, столь свойственной гордой, молчаливой и мрачной Испании, герцог обладал в чрезмерной степени… Слишком гордый, чтобы жить где-либо помимо своих владений, он обитал в феодальном замке на границе с Португалией и по своим привычкам был еще старее своего феодального замка. Я жила в замке, бок о бок с ним, между духовником и прислужницами, тою пышною, однообразною и печальною жизнью, которая своей скукой могла бы сломить всякую душу слабее моей. Но я была воспитана сообразно моему положению супруги знатного испанского вельможи. Я была религиозна, как всякая женщина моего сословия, и почти так же бесстрастна, как портреты предков, украшавшие вестибюль и залы замка Сиерра-Леоне, в их стальных латах и с их величественными и строгими лицами. Я должна была прибавить лишнее звено в ряду поколений этих безупречных и величественных женщин, добродетель которых охранялась их гордостью, как фонтаны, охраняемые львами. Одиночество, в котором я жила, не тяготило мою душу, спокойную, как горы красного мрамора, окружавшие Сиерра-Леоне. Я не подозревала, что под этим мрамором дремал вулкан. Я находилась еще в преддверии рождения, но я должна была родиться и получить крещение огнем от единого взора мужчины. Дон Эстебан, маркиз Васконселлос, португалец по рождению и двоюродный брат герцога, приехал в Сиерра-Леоне. Любовь, о которой я знала только по некоторым мистическим книгам, вонзилась мне в сердце, как орел, падающий с высоты на ребенка, которого он уносит и который кричит… Я также закричала. Недаром была я испанкой древнего рода. Моя гордость восстала против того, что я почувствовала в присутствии этого страшного Эстебана, получившего надо мною возмутительную власть. Я посоветовала герцогу удалить его под тем или иным предлогом, заставить его как можно скорее уехать из замка… сказала, что замечаю питаемую им ко мне любовь, которая оскорбляет меня, как дерзость. Но дон Кристоваль ответил мне, как отвечал герцог Гиз на предупреждение о том, что Генрих III его убьет: «Он не посмеет!» То было презрение рока, который, исполнясь, отомстил за себя. Эти слова бросили меня в объятия Эстебана…
Она на минуту остановилась; он слушал, как она говорила высоким слогом, которого одного было бы достаточно, чтобы убедить его в том, что она была именно той, за которую себя выдавала: герцогиней Сиерра-Леоне. Публичная женщина в ней в эту минуту совершенно исчезла.
Можно было подумать, что с нее спала маска, из-под которой показалось истинное лицо, истинный человек. Разнузданная поза этого тела сменилась чистою. Продолжая рассказывать, она взяла позади себя шаль, забытую на спинке дивана, и окуталась ею… ее складками прикрыла она «проклятую», по ее выражению, грудь, у которой, однако, проституция не смогла отнять совершенства ее форм и ее девственной упругости. Голос ее утратил хриплость, которою он звучал на улице… Была ли то иллюзия, вызываемая тем, что она говорила, но Трессиньи казалось, что ее голос приобрел более чистый оттенок, что к нему вернулось снова его благородство.
– Не знаю, – продолжала она, – таковы ли другие женщины, как я. Но гордость дона Кристоваля, его презрительное и спокойное «не посмеет!», сказанное о человеке, которого я любила, который в глубине моей души владел мною, как Бог, оскорбила меня за него. «Докажи, что ты осмелишься!» – сказала я ему в тот же вечер, объявив ему о моей любви. О ней ему нечего было говорить. Эстебан боготворил меня с первого дня нашей встречи. Наша любовь совпала, как два пистолетных выстрела, произведенных одновременно и убивающих насмерть. Я выполнила мой долг испанки, предупредив Кристоваля. Я была обязана ему только моею жизнью в качестве его жены, ибо сердце несвободно в своем выборе; а он, разумеется, лишил бы меня жизни, изгнав из замка дона Эстебана, как я о том просила. В безумии моего сердца, сорвавшего с себя оковы, я умерла бы от разлуки с ним, и я обрекала себя этой участи. Но герцог, мой муж, не понял меня: он считал себя неизмеримо выше Васконселлоса, и ему казалось невозможным, чтобы тот поднял на меня свой благоговейный взор: я не хотела простирать дальше мое супружеское геройство и бороться против любви, ставшей моим повелителем… Не буду стараться дать вам точное понятие о моей любви. Вы, быть может, также мне не поверите… Но какое мне, впрочем, дело до того, что вы подумаете! Верьте или не верьте, то была любовь пылкая и целомудренная, романтическая, почти идеальная, мистическая. Правда, что нам не было и двадцати лет и что мы были рождены в стране Бивара, Игнатия Лойолы и святой Терезы. Игнатий, рыцарь Пресвятой Девы, любил Царицу Небес не чище, чем меня любил Васконселлос; я же любила его тою экстатическою любовью, которую питала святая Тереза к своему божественному супругу. Прелюбодеяние? Но разве у нас было в мыслях, что мы могли совершить его? Сердца наши бились в груди так возвышенно и мы жили в атмосфере таких прозрачных и высоких чувств, что были далеки от дурных желаний и чувственности вульгарной любви. Мы парили в безоблачной небесной лазури; только небо над нами было африканское да лазурь была из пламени. Могло ли такое состояние душ длиться долго? Не играли ли мы, сами того не подозревая, в самую опасную игру и не предстояло ли нам в известный миг упасть с этой безгрешной высоты?.. Эстебан был набожен, как священник, как португальский рыцарь времен Альбукерка; я, по всей вероятности, стояла ниже его, но в него и в его любовь у меня была такая вера, которая воспламеняла и поддерживала чистоту моей любви. Он хранил меня в сердце, как мадонну в золотой нише с неугасимой лампадой у ног. Он любил мою душу ради нее самой. Он был из числа тех редких любовников, которые желают видеть любимую женщину великою. Он желал, чтобы я была благородна, самоотверженна в ту эпоху, когда была великою Испания. Он предпочитал бы узнать, что я совершила великий поступок, чем носиться со мною в танце, прижав уста к устам! Если бы ангелы могли любить перед престолом Всевышнего, то они любили бы друг друга, как мы… Мы настолько слились друг с другом, что проводили долгие часы, сидя рука с рукою и глядя в глаза друг другу; все было в наших руках, ибо мы были одни, но мы чувствовали себя настолько счастливыми, что ничего большего не желали. Иногда огромное счастье, заливавшее нас, причиняло нам боль, до того оно было велико, и нам хотелось умереть, но не иначе как вместе и друг за друга, – и в такие минуты мы постигали слова святой Терезы: «Я умираю от невозможности умереть!» – желание конечного существа, изнемогающего от бесконечной любви и стремящегося дать место потоку этой бесконечной любви путем уничтожения тела и смерти. Теперь я – последняя из тварей, но в то время, поверите ли, губы Эстебана ни разу не коснулись моих губ, и поцелуй, напечатленный им на лепестках розы, которые я прижимала к моим губам, заставлял меня лишаться чувств. Из бездны ужаса, куда я добровольно погрузилась, я ежесекундно для большей муки вспоминаю божественные радости чистой любви, в которой мы жили, потерянные, взволнованные и столь бесхитростные в невинности этой любви, что дону Кристовалю не стоило большого труда заметить, как мы боготворили друг друга. Мы парили в небесах. Как мы могли заметить, что он ревновал, и как еще! Единственной ревностью, на которую был способен: ревностью гордеца! Он не мог накрыть нас. Накрывают только тех, кто прячется. Мы не прятались. К чему нам было прятаться? Мы были чисты, как пламя свечи среди белого дня, видное и при свете; сверх того, счастье лилось из нас через край слишком явно, чтобы можно было не заметить его. И герцог его заметил: это великолепие любви уязвило наконец его гордость. Ага! Эстебан осмелился. И я – также! Однажды вечером мы сидели, как всегда, как проводили жизнь с тех пор, как полюбили друг друга, одни, слив в упоении наши взоры; он передо мною, у моих ног, словно у ног Пресвятой Девы, в созерцании столь глубоком, что нам не нужно было никакой ласки. Вдруг вошел герцог в сопровождении двух негров, вывезенных им из испанских колоний, где он долгое время был губернатором. Мы не заметили их в небесном упоении, уносившем и сливавшем наши души; вдруг голова Эстебана тяжело упала ко мне на колени. Его удушили. Негры набросили ему на шею ужасное лассо, которое накидывают в Мексике на диких буйволов. Это свершилось с быстротою молнии! Но молния эта меня не убила. Я не лишилась сознания, не вскрикнула… Ни одна слезинка не выкатилась у меня из глаз. Я онемела, окаменела от ужаса, которому не было имени и из которого я вышла, только почувствовав, что меня разрывают на куски. Мне показалось, что рассекли мою грудь и вырвали из нее сердце. Увы! Его вырывали из бездыханного тела Эстебана, лежавшего у моих ног, удавленного, с рассеченной грудью, в которой, как в мешке, рылись руками эти чудовища! Я почувствовала (сила моей любви превратила меня в него самого) то же, что ощутил бы Эстебан, если бы был жив. Я ощутила ту боль, которой не чувствовал его труп, и это вывело меня из ужаса, в котором я застыла. Я бросилась к ним. «Теперь моя очередь!» – крикнула я. Я хотела умереть той же смертью и подставляла голову под ту же проклятую петлю. Они собирались было на меня ее накинуть. «Нельзя касаться королевы!» – сказал гордый герцог, считавший себя выше короля, и заставил их отступить, хлеща их охотничьей плетью. «Нет! Вы будете жить, сударыня, – сказал он, обращаясь ко мне, – но с тем, чтобы вечно вспоминать то, что вы увидите…» Он свистнул. Появились две огромные охотничьи собаки. «Бросьте им сердце изменника!» – сказал герцог. О, при этих словах не знаю, что сталось со мною. «А, если так, то мсти же искуснее! – крикнула я ему. – Съесть его сердце нужно заставить меня!»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?









![Книга Тайна пляшущего дьявола [Тайна танцующего дьявола] автора Уильям Арден](/books_files/covers/thumbs_100/tayna-plyashuschego-dyavola-tayna-tancuyuschego-dyavola-16549.jpg)






























