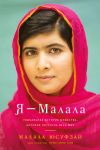Текст книги "Дайте ей взлететь. История счастливого отца"

Автор книги: Зиауддин Юсуфзай
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Отец
Осень в доме
Когда я был еще малышом и только-только учился писать свое имя бамбуковой ручкой, обмакивая ее в чернила из угольной батарейки, мама как-то разбудила меня затемно, в радостном возбуждении прошептав на ухо: «Зиауддин, просыпайся!» Сестры, с которыми я делил комнату в нашем глинобитном домике, еще сладко спали.
– Бейбей? – пробормотал я. Так у нас называли маму.
– Зиауддин, вставай, – велела она. – Мы отправляемся в путешествие.
Я заметил, что она уже надела свой плотный серый парунаи.
– Вместе с Мудрым Кака? – сонным голосом спросил я, имея в виду отца. И повторил еще раз:
– С Мудрым Кака?
– Нет, – ответила мама, – не с Мудрым Кака. У отца сегодня уроки в школе, как обычно, и еще он должен молиться. С нами поедет Фазли Хаким, его двоюродный брат. Мы отправимся на гору Шалмано. Ты должен быть сильным, потому что до вершины придется долго идти, но, когда мы поднимемся туда, сбудется твоя мечта.
Сам я вроде бы ни о чем особо не мечтал, но знал, что отец и мать строят большие планы на мой счет. А еще знал, что больше им надеяться не на кого. Поэтому, раз Бейбей и Мудрый Кака решили, что мне надо подняться на гору, я готов был туда идти.
Каждое утро вокруг нашего домика в Баркане, деревушке, затерянной в округе Шангла на севере Пакистана, собирались петухи, а в миле от него, на поле, нетерпеливо мычали две буйволицы, дожидаясь, пока мой брат придет их кормить. Его главной задачей в жизни было следить, чтобы они ели и тучнели, ведь только так он мог поддержать нашу семью и отца. Брату доставляло удовольствие ухаживать за скотиной и продолжать вести ту же простую жизнь, что и отец, часто повторявший: «Мужчина счастлив, когда жена рожает ему сыновей, а буйволица – телушек». Для моей бедной матери это было плохо, очень плохо. В крошечном глинобитном домике из двух комнат нас ютилось девятеро. Позднее брат женился и перебрался вместе с женой в пристройку, которую добавили к дому сзади. Буйволицы, которых он держал, не всегда приносили телушек. Отец скрупулезно отмечал каждый приплод в специальной тетради, которую держал на той же полке, где стояли его дневники и журналы.
Моя мать родила ему семерых детей, но драгоценных мальчиков из них было всего двое. Первым родился мой брат, а потом я. Между нами на свет появилось три дочки, и еще две – после меня. Их звали Хамида Бано, Наджма Биби, Бахти Маал, Гул Райна и Назим Ахтар. Я перечисляю здесь их всех, потому что в детстве ни разу не видел их имена написанными на бумаге. О них говорили только применительно к мужчинам: дочери моего отца, сестры Зиауддина и Саида Рамзана. Их никогда не упоминали отдельно. То же самое касалось и моей матери: она была женой Роула Амина, матерью Зиауддина и Саида Рамзана.
Тот факт, что в нашей семье преобладали женщины, становился еще более наглядным в сравнении с обитателями соседнего дома, где рождались одни мальчики.
Там жили наши двоюродные братья – семья моего дяди, – в домике точь-в-точь как наш, с глинобитной крышей. На ней у нас было что-то вроде игровой площадки, которая называлась чам, где все дети – и мальчики, и девочки – с громкими криками носились туда-сюда, прыгали и играли в лапту. Наши подружки в Баркане, беспечные и счастливые, были еще в том возрасте, когда не могли навлечь на себя стыд или бесчестие. Иногда они, разыгравшись, заворачивались до самых глаз в платки матерей или старших сестер, пряча под ними свои маленькие носики и нежные щечки, желая в точности походить на взрослых, которых они любили и с которых брали пример. Через пару лет, когда моим приятельницам исполнялось двенадцать-тринадцать, они начинали носить платки сами, уже постоянно. Взросление обязывало их блюсти свою честь, поэтому они пропадали с детских площадок на крышах и с деревенских улочек, по которым когда-то носились от дома к дому, и сидели взаперти в четырех стенах. Перебравшись сверху вниз, мои бывшие подружки – и младшие сестры тоже – слышали топот детских ног по крышам у себя над головой, напоминавший им о былой свободе. Мы с мальчишками продолжали резвиться и играть в лапту. А девочки, одна за другой, исчезали, словно падающие звезды, но ни у кого это не вызывало вопросов. Они сидели внизу, под нами, готовили еду и перешептывались между собой, а через пару лет выходили замуж и рожали детей, а если нет, то тряслись от страха, гадая, кого им предназначат в мужья.
Моя мать очень заботилась о стенах нашего домика. Раз в год она обмазывала его изнутри свежей глиной, разглаживая и выравнивая ее с такой гордостью и тщанием, словно украшала стены роскошного особняка. Но ее забота о жилище, где укрывались она и мои сестры, не мешала радостным новостям из дядиного дома просачиваться внутрь. Каждый раз, когда у них рождался следующий мальчик и все женщины деревни являлись поздравить мою тетку, разочарование отца, произведшего на свет столько дочерей, становилось все горше.
– Почему у них в доме всегда весна, а у нас осень? – вопрошал он.
Мы, пуштуны, воинственный народ. Сыновья означают, что у мужчины есть армия. Стычки, обычно на словах, и конфликты случаются у нас часто. Если отец ссорится со своими братьями, ссорятся и их дети. Если дядья воюют между собой, то и двоюродные братья тоже. Нас, двоих мальчиков, для армии было мало. Мои сестры в счет не шли. Если что-то и могло испортить отцу настроение, так это зависть.
– Ты никогда в жизни не будешь счастлив, – как-то раз сказала ему мать, пока все мы, потрясенные, смотрели на них, раскрыв рты. – Окажись ты хоть в раю, все равно будешь говорить, что у соседей рай лучше!
Мой отец постоянно сокрушался насчет удачливости брата. Много лет спустя, когда я уже отделился от него – и территориально, и духовно, – он сказал:
– Почему у моего племянника есть машина? Почему ее нет у моих сыновей? Почему мои мальчики так меня подвели?
Машины к тому времени имелись уже у многих жителей деревни, но до того он никому из-за них не завидовал. Я, будучи достаточно взрослым, ответил:
– Мудрец Кака, порадуйся! Тебе не придется больше ходить домой пешком. Когда племянник увидит тебя на дороге, он должен будет остановиться и тебя подвезти. Ты не будешь больше ходить пешком, потому что, как старшего, тебя будут возить.
Я старался показать отцу, что удачливость племянников на руку и ему тоже. Однако для него это было слабым утешением. Он не хотел ездить в их машине.
Я просто ненавидел эту зависть, терпеть ее не мог! В том числе и за то, как она уничтожала в семье доверие и любовь. Но моя боль не шла ни в какое сравнение с несправедливостью в отношении моих сестер.
Я всегда занимал привилегированное положение в семье. С самых ранних лет и мать, и отец считали меня особенным, ребенком, способным повысить их социальный статус и оправдать ожидания, которые никогда не возлагались ни на одну из моих сестер и даже на старшего брата. Они говорили потом, что видели во мне искру, нечто, сулившее более удачливую жизнь и, конечно, переход на другую социальную ступень. Лестницей туда служило образование. Конечно, поищи родители эту искру у моих сестер, она бы точно обнаружилась, но они не искали.
Я понимаю, что они имели в виду, говоря об искре у ребенка, потому что видел то же самое в Малале, даже когда она была еще совсем крошкой. Это качество, которое делает ребенка другим, что-то вроде внутренней силы. Такие дети словно подталкивают вас, позволяют вам поддерживать их стремление вверх. Почему родители возлагали все надежды на меня, а не на моего брата? Наверное, потому, что он готов был довольствоваться нашей тогдашней жизнью. Каждый вечер отец выкладывал на стол три зернышка миндаля.
– Зиауддин, иди съешь орехи!
Они предназначались для моего мозга. Я ел орехи с радостью. Еще одна привилегия.
Во время редких выездов из Барканы мать показывала мне красивые бунгало, которые по сравнению с нашей глинобитной хижиной казались настоящими дворцами.
– Кто там живет, Бейбей? – спрашивал я, ведя маму за собой. Малыш, ростом ей до пояса, выступал в роли сопровождающего – только так, а не наоборот. И моя мама говорила, идя со мной по улице:
– Зиауддин, здесь живут образованные люди. Если будешь прилежно учиться, станешь тоже жить тут.
Мы не были землевладельцами или бизнесменами. Мои родители понимали, что путь к лучшей жизни лежит для меня через образование. У нас не было денег. Не было связей. Не было дела. Учеба являлась для меня единственным шансом.
По утрам мой отец, брат и я получали по порции сливок с молока. Вечером нам доставались самые аппетитные части цыпленка. Мать часто готовила отцу его любимый омлет, который сдабривала мелко порубленными огурцами и помидорами, собранными в огороде. Она смешивала яйца со сливками, снятыми с молока. Когда мы усаживались есть, матери и сестер не было за столом. Они ужинали в другой комнате. Сандалии моих сестер, чиненые-перечиненые, грозили вот-вот развалиться, а я всегда ходил в новых, и их тугие кожаные ремешки надежно облегали мне ноги.
Только раз я слышал, как кто-то из сестер возмутился такой несправедливости. Наджма Биби, одна из старших, сказала матери:
– Если ты так любишь мальчиков, зачем родила нас?
А мать ответила:
– Я в этом не виновата. Это не я решаю.
Мне показалось тогда, что мать разозлилась, а на лице у сестры появилась растерянность.
Отец был «мауляна», духовным наставником у нас в деревне, и пять раз в день предводительствовал при чтении молитв в маленькой мечети, тоже глинобитной, в отличие от главной, высокой, в которую я позднее перешел. Кроме того, он учил мальчишек в соседней деревне.
Относительно невысокий статус религиозного служки усугублял его непредсказуемый характер, к которому добавлялось вечное беспокойство о деньгах. Хотя роль духовного наставника и ставила его вне кастовой системы, облекая некоторым авторитетом, она одновременно являлась своего рода клеймом, о котором все знали, хоть и не говорили вслух, – отец выполнял эту работу, потому что нуждался в деньгах.
Мауляна получает жалованье от общины, которой служит, за исполняемые обязанности. Моему отцу не обязательно было работать мауляна, хоть он и обладал необходимой квалификацией. Он преподавал богословие в государственной школе, но читал молитвы ради дополнительного заработка.
Страх навлечь на себя отцовский гнев омрачал мою любовь к нему. Он кричал на нас по самым незначительным поводам вроде сбежавшего цыпленка или просыпанного зерна, и его вспышки были совершенно непредсказуемыми. Но я никогда не ставил под сомнение его любовь ко мне. Он очень меня любил – это я знаю точно. Иногда он сажал меня на колени и нежно качал. Когда я был совсем маленький, волосы у него были черные, но в них уже пробивалась седина, которая впоследствии будет неразрывно ассоциироваться у меня с ним – моим отцом, мауляна, учителем, оратором, в длинном белом одеянии, с белыми волосами и белой бородой, в белой шапочке или в белом тюрбане для пятничной молитвы. Он уделял мне массу времени и сил. Он всегда мне читал и старался обогащать мой ум. Именно он мне внушил неутолимую тягу к знаниям.
Отец славился своей религиозной страстью и красноречием, так что многие жители деревни записывали его молитвы на магнитофон, чтобы потом еще раз послушать дома.
Сейчас, спустя одиннадцать лет после его смерти, я люблю и уважаю моего отца с той же силой, что и тогда, когда сидел у него на коленях или слушал, как он читает мне Икбала и Саади, я, его золотой мальчик, средоточие отцовских мечтаний и надежд. Моя любовь к нему безгранична. Точно так же, как я отправился некогда в долгий путь с моей матерью на вершину горы, отец несколько десятилетий спустя преодолел свой – путь, начавшийся с рождения Малалы и приведший его обратно ко мне, ко всем нам, и завершившийся с его смертью.
«Развяжи узел на моем языке»
Была причина, по которой на гору с матерью и Фазли Хакимом поехал я, а не мои сестры. Единственный раз за всю нашу жизнь она никак не была связана с патриархатом, царившим у нас в доме. У моих сестер имелось громадное преимущество перед моим братом и передо мной. Отец мог как угодно их принижать, но природа кое-чем наградила. У всех пяти девочек речь лилась свободно, в то время как и я, и брат в возрасте четырех лет начали заикаться. Я не знаю, пытались ли родители помочь брату избавиться от заикания. В моем случае они приложили все мыслимые усилия. Как я мог стать богатым доктором, если слова застревали у меня во рту, отказываясь слетать с языка?
Заикание считается частично генетическим, частично психологическим нарушением. У мальчиков оно возникает чаще, чем у девочек. В нашей семье дядья и с отцовской, и с материнской стороны были заиками. Возможно, моих сестер эта участь миновала благодаря женским хромосомам. Возможно, наше с братом заикание было обусловлено генетикой. Но совершенно точно среда его усугубила. Отец обращал на нас внимание – на то, что мы говорили, и, соответственно, на то, чего не могли сказать. На нас, мальчиков, были направлены все взгляды. Никто не слушал девочек с их идеальной речью. Казалось, наше заикание единственное покушалось на патриархальный домашний уклад.
Непредсказуемые смены настроения у отца вносили свою лепту. Я изо всех сил старался произвести на него впечатление, заставить мной гордиться, но расслабиться и держаться спокойно в его присутствии у меня не получалось.
Однако когда слова застревали у меня во рту и я спотыкался и давился, он ни разу не закричал: «Хватит, Зиауддин» или «Да перестань же!». Он меня не ругал. Отец не был жестоким человеком. У него было доброе сердце. Возможно, именно поэтому он решил обратиться за помощью к святому.
Мы с матерью и Фазли Хакимом выехали из Барканы на автобусе. Мама сказала, что мы направляемся в Миан-Калей, крошечную деревушку в горах, чтобы повидаться со святым, который там живет. «Он вылечит твое заикание», – мягко добавила она. В молодости святой много путешествовал по стране, помогал строить мечети и прокладывать перевалы в горах. Он благословлял будущую постройку, а вокруг мужчины били палками в барабаны, подбадривая рабочих.
До Миан-Калей автобус не доходил, поэтому после часа езды, на протяжении которого меня страшно тошнило, мы вылезли на остановке и начали восхождение на гору Шалмано. Солнечные лучи становились все горячее, и, пробираясь между вечнозелеными кустарниками и деревьями со стволами куда толще, чем в тех местах, где мы жили, я быстро устал и запросился домой. Фазли Хаким посадил меня к себе на плечи, и я обхватил его руками за голову, сцепив пальцы на подбородке. Измотанный ранним подъемом, тяжелой поездкой в автобусе и палящим зноем, я то и дело задремывал и валился вперед, так что Фазли Хакиму приходилось усаживать меня заново, чтобы продолжать путь.
– Зиауддин! Зиауддин! Проснись! Расскажи мне что-нибудь. Старайся все время говорить.
Когда мы добрались до вершины, мать зашла в глинобитный домик святого, из которого шел резкий запах баранины с рисом: ее там готовили и раздавали всем посетителям и просто беднякам. Святой человек, известный как Пир-Сагиб, или Леванто-Пир, был очень щедр – это я знал. Еще я знал, что если ты к нему придешь, и он за тебя помолится, твои молитвы и желания дойдут до самого Бога.
Подкрепившись бараниной с рисом, мы с матерью зашли к святому в комнату. В домике имелись разные комнаты для женщин и для мужчин, и я заметил, что у святого было не меньше трех или четырех жен.
Он сел передо мной. Никогда в жизни я не видел человека настолько старого и настолько волосатого. Длинными седыми волосами заросла не только его голова – они торчали буквально отовсюду, в том числе из ушей. В детском изумлении мне показалось, что они спадают по мочкам и струятся вниз, словно водопад. Святой был слеп и длинными тонкими пальцами ощупывал все перед собой, но без особой дотошности. «Зиауддин, глаза его сердца открыты», – прошептала мать мне на ухо.
Мать, наверное, уже рассказала святому или его помощнику о моей проблеме. Он прошептал несколько слов из Корана, а потом дунул на меня. Дальше святой достал из кармана шарик гурр – это что-то вроде затвердевшего сахара, который едят в Пакистане. Вместо того чтобы передать сахар моей матери, как я ожидал, он сунул шарик целиком себе в рот, пососал его пару секунд, а потом поднес ладонь к заросшему подбородку и выплюнул. В ужасе я глядел, как святой протянул шарик, мокрый и скользкий, моей маме. Она отколупнула кусочек и дала мне. Липкий обломок казался мерзким, несмотря на чудеса, которые сулил, но я все-таки взял его, разжевал и проглотил. Шарик мы увезли с собой домой, и каждый вечер процедура повторялась. Хотя он быстро затвердел обратно, мне все равно казалось, что его еще покрывает слюна святого.
Хотелось бы мне сказать, что святой меня исцелил, но в действительности заикание лишь усилилось. Когда я пошел в школу, оно стало настоящим проклятием. Мои сестры и другие девочки вообще не получали образования, поэтому жалобы на заикание с моей стороны могли показаться неблагодарностью, но в школе надо мной издевались. Мальчишки постоянно передразнивали меня.
К заиканию добавлялись и другие несправедливости. Во-первых, мы были небогаты, а во-вторых, мой отец работал мауляна. Пакистан – кастовая страна, и сорок лет назад учителя открыто угождали мальчикам из богатых семей, сыновьям местных предводителей. Меня это сильно расстраивало. Я был сообразительным ребенком и очень старался. Мне нужно было образование.
Мальчишки высмеивали моего отца, и меня это очень задевало. Отец служил местной общине, читая молитвы, но для своего сына он хотел большего. Он вполне мог бы сказать: «Зиауддин, ты станешь мауляна, как я, а для этого достаточно просто выучить ислам в семинарии». Но он этого не сказал. Мой отец был образованным человеком, он сам учился не только в Шангле, но и в Карачи, и в Дели, но тогда он зависел от местных жителей, которых обходил с миской для пожертвований, собирая себе на еду – так поступали все, изучавшие ислам, в его времена. Он хотел для меня современного образования – крайне нехарактерно для нашей среды в тот период, – за что я ему очень признателен. Но делалось это ради единственной цели: чтобы я стал высокооплачиваемым врачом, принеся семье богатство и статус. Вот о чем заботился мой отец.
– Мир – открытая книга, Зиауддин, – говорил он. – На нем и нужно учиться.
Мысль его была ясна: если хочешь, чтобы твоя мечта сбылась, надо получить образование. В общем, стать врачом.
Проблема заключалась в том, что я для этого не годился.
Днем, заслышав азаан (призыв к молитве), я предпочитал бежать в главную деревенскую мечеть, вокруг которой росли деревья и летали пчелы, а прямо в центре бил родник, а не в маленькую мечеть на краю деревни, возле базара, где молившихся возглавлял мой отец. В те времена у нас не было громкоговорителей, разносивших азаан над крышами домов, как сейчас. Когда я был маленьким, мужчины выкрикивали азаан с какой-нибудь лужайки или камня на возвышении.
Несмотря на заикание, я твердо решил стать оратором, как мой отец. Возможно, именно эту решимость мои родители считали искрой, горевшей во мне. Я не собирался мириться со своим приниженным положением. Не собирался мириться с тем, как учителя обхаживали богатеньких мальчишек. Если попытаться сформулировать главное, чему научил меня отец, это будет вот что: он мне помог обратить свои слабые стороны в силу.
Переходя из класса в класс, я раз за разом доказывал, что являюсь одним из самых способных учеников. Учителя не могли этого игнорировать. Богатеи занимали привилегированное положение благодаря семейному статусу, я же завоевывал свое тяжким трудом. Но все равно оставался сыном-заикой своего отца.
После миндаля мне начали давать изюм, который мама на ночь замачивала в молоке. К утру он набухал и истекал соком, становясь ужасно вкусным.
Когда в тринадцать лет я перешел в старшую школу в соседней деревне, где преподавал отец, слова по-прежнему не хотели слетать у меня с языка. Но я объявил отцу, что собираюсь принять участие в турнире по красноречию.
Отец сделал кое-что очень важное: он мне этого не запретил. Даже наоборот. Он меня поддержал. Он поверил в меня и благодаря его поддержке я ощутил свою силу. В пакистанских школах проводится масса состязаний подобного рода и всяких устных дебатов. Отец согласился написать для меня речь.
Я репетировал ее в одиночестве целыми часами и мог ни разу не заикнуться. Но стоило мне начать рассказывать речь перед отцом, как сын-заика появлялся вновь.
Отец демонстрировал громадное терпение. Дома он мог срываться на нас по пустякам, но в большом мире был моим защитником. Он покровительствовал мне.
Стараясь помочь с выступлением, он научил меня молитве из Корана, которую произносит пророк Моисей, тоже заика, как сказано в нашей священной книге: «Господи! Раскрой для меня мою грудь! Облегчи мою миссию! Развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь» (Та Ха 25‒28).
Даже сегодня, когда мое заикание почти полностью под контролем, я всякий раз повторяю эти строки, когда собираюсь заговорить.
Свою первую речь я произнес безупречно, на урду, национальном языке нашей страны. Я не могу сказать, как это произошло, но это было потрясающе. После выступления мой учитель математики, Ахмед Кахн, подошел ко мне и сказал: «Шахин, ты разжег пламя». Шахин означает сокол, и некоторое время отец настаивал на том, чтобы я представлялся именно так. Тот успех сблизил нас с ним. Он утвердил его в давних мечтах на мой счет, а мне придал уверенности. Я стал относиться к себе по-другому: не как к уродливому мальчишке с темной кожей и большим носом, который к тому же еще и заикается, а как к мальчику, победившему на дебатах и преодолевшему свой недостаток. Думаю, уверенность порождает еще большую уверенность.
Состязания проходили по всему региону, и мы часто ездили на них на автобусе. Один раз я уже решил, что у меня нет шансов: всю долгую поездку по ухабистой дороге я снова страдал от жестокой тошноты. Я сидел с белым лицом, обливаясь потом. Остальные участники тоже ехали там, и я видел, как один из них, глядя на меня, усмехнулся.
– Ты, значит, будешь выступать с речью?
Я кивнул.
– Спорим, не будешь, – расхохотался он.
Я понимал, почему он смеялся надо мной. Никто бы не поверил, что этот измученный ребенок сможет выйти на сцену. Но на следующий день я победил в дебатах не только того мальчишку, но и всех остальных – выиграл состязания. Заика оказался отличным оратором. Мой успех стал лучшим ответом на насмешки. Я называю это «позитивным возмездием». Такого принципа я придерживался всю свою жизнь – побеждать противника без ненависти.
Хотел бы я сказать, что мое красноречие на публике положило заиканию конец, но нет. Прошло много лет, прежде чем я начал справляться с ним получше. Это произошло практически случайно, когда я уехал из Шанглы в Сват, чтобы изучать науку и английский язык. Полностью оно не прошло до сих пор, но по мере того, как я взрослел и завоевывал признание у окружающих, я стал уверенней в себе и смог принять его как часть себя. Я познакомился с одним замечательным доктором, физиотерапевтом – сам я врачом так и не стал, – который рассказал мне про Демосфена, греческого оратора, который клал в рот камешки, чтобы совладать с заиканием. Демосфен ходил по берегу моря и произносил свои речи, стараясь перекричать шум прибоя. Я тоже использовал камешки и делал специальные упражнения против заикания. Одновременно я научился подбирать слова, заменяя те, на которых мог споткнуться: например, выбирая между «солнцем» и «луной», я выбирал «луну». Зная, что запнусь на «женщине», я инстинктивно предпочитал «даму». Это ограничивало мое красноречие, и я понимал, что лучшие слова порой от меня ускользают, зато я мог выразить свое мнение. Тяжелый выбор: простое слово, зато быстро, или сложное, но медленней. Так происходит и по сей день.
Когда меня впервые попросили прочесть свое сочинение перед всей аудиторией в университете и я снова почувствовал, как немеет мой язык, лектор предложил:
– Зиауддин, может быть, кто-то прочтет его за тебя?
– Я буду читать сам, – был мой ответ. – Если его прочту не я, это будет уже не мое сочинение.
Лицо лектора казалось пристыженным. Он сам ужаснулся своей оплошности.
– Ты совершенно прав, – сказал он. – Читай!
Я прочел сочинение. Заменять слова было нельзя, поэтому я читал медленно и неловко, но помню, что в тот момент думал: «Да, это я, такой, какой есть».
Годы спустя речь стала моим главным оружием в борьбе с талибами. Я, может, говорил не слишком гладко, зато всегда высказывал правду. В те годы, когда талибы захватили нашу землю и отобрали нашу жизнь, я наслушался красноречия и риторики их командиров, разливавшихся по радио и с трибун на площадях, но за этой гладкостью всегда крылась ложь. Мой собственный голос мог запинаться, но зато я не молчал и всегда говорил правду о том, как талибы собираются погрузить страну во мрак.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!