Текст книги "Остановленный мир"
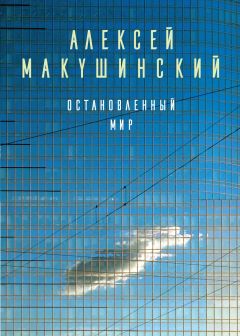
Автор книги: Алексей Макушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Дети
А он и вел себя с нею в те первые годы так, как если бы не она его, но он ее был лет на четырнадцать старше, или даже так, как если бы она была его дочкой, доченькой, которую старался он уберечь от всех невзгод, оградить от всех бед; которую счастлив был порадовать хоть пригоршней черники в таунусских лесах; капризы которой терпел; шалости которой прощал. По крайней мере, он так вел себя с нею днем. По ночам все менялось. По ночам он был любовником и мужчиной – и потом был ребенком, засыпающим в материнских объятиях, был маленьким мальчиком, обретавшим покой и прибежище под сенью ее груди, в складках ее живота. Она достаточно была проницательна, чтобы понять, что эта дневная мужественность и взрослость есть то единственное условие, при котором он мог позволить себе любить женщину столь сильно старше его самого; и в то же время радостно было ей, что она может дать ему ту ночную материнскую нежность, в которой он так очевидно нуждался. Она надеялась в первое время, что еще будет у них общий ребенок, настоящий ребенок. И этот ребенок, она думала, все уравняет, все сгладит, свяжет их, может быть, навсегда. Еще она думала, что это ее последний, даже самый последний шанс, и если у нее не будет ребенка сейчас, то никогда уже не будет; это неотвратимое никогда ей казалось чудовищем, готовым пожрать ее нерожденную дочку, нерожденного, но втайне, как ни смешно, любимого сына; пожрать и ее саму с ее не сбывшимися мечтами. Но ребенка не было, что бы Тина ни делала, к каким бы врачам ни ходила. По совету одного пожилого, добродушно-усатого доктора даже ездила она в Чехию пить в Карловых Варах особенные сернокислые воды, якобы помогающие забеременеть; из каковых Карловых Вар вместе с Виктором, там ее навестившим, отправились они в Прагу и в Праге познакомились с молнийно-кожаной, мальчикоподобной Миленой, как раз создававшей свою галерею, уже увлекавшейся Дртиколом, показывавшей им редчайшие найденные ею снимки эфирных тел и обнаженных красавиц, в драматическом освещении, с трагическими тенями. С Миленой они познакомились, но забеременеть Тине не удалось; года через два стало ясно, что уже, по крайней мере естественным путем, не удастся; а иначе она не хотела; о каких-то чужих яйцеклетках, которыми воспользоваться предлагали ей другие, равнодушно-молодые врачи, думала с отвращением.
Каждый сам себе Будда (еще раз)
Ранней весною 2007 года я с ними увиделся, о чем уже рассказывал, в Мюнхене. Я ждал их у выхода из метро на Odeonsplatz, где в разные годы встречался с разными людьми, персонажами разных книг. Они явились мне в виде влюбленной пары, державшейся за руки; оказались одного роста, когда выплыли на площадь по эскалатору. Виктор уже был в той барбуровской болотной курточке, которую не снимал потом – или снимал только летом – до самого своего исчезновения из моей и Тининой жизни, в кретинской вязаной шапочке с помпончиком, под которой прятал буддистскую синеву. Тина была по-прежнему в черном, замотанная черным шарфом, в черном кожаном, до колен, пижонском пальто с огромными пуговицами. Медно-рыжие, до полных плеч распущенные в тот день волосы все норовила она перекинуть на одну сторону, запуская в них руку, заводя ее за затылок, насмешливым осторожным движением. Со мной держалась она отстраненно, мы ведь и знакомы почти еще не были, да и я не совсем понимал, как мне вести себя с нею. Виктор, которого не видал я с 2004 года, с той незабвенной электрички, на которой мы возвращались из Кронберга, казался окончательно повзрослевшим, просто молодым взрослым мужчиной, очень спортивным, с дотоле незнакомым мне отблеском успеха на лице, сиянием удачи. Заметно было, что он младше ее; еще эта разница не так бросалась в глаза, как впоследствии. Вовсе не предполагал я идти в тот вечер ни к каким тибетцам, ни на какую встречу со скандально-сказочным дзенским учителем, знаменитым своими эротическими похождениями, своей дружбой с сильными мира сего, героями гламура и бизнеса; Виктор, по-мальчишески прищурившись, предложил нам пойти туда вместо традиционной прогулки по Английскому саду. После этого-то похода к тибетцам, в метро, он и сказал мне, что никакого буддизма нет, никакого нет дзена; есть только люди. Какой человек, такой и дзен; вот и все… Золотая статуя Будды в руках у вошедшей в вагон джинсовой девушки никак не отвечала на эти слова, не спорила и не соглашалась с ними; Тина еще досмеивалась, выходя вместе с Виктором из поезда на станции Sendlinger Tor. Они держались по-прежнему за руки; из окна, на отъезжавшей платформе, казались просто молодой и счастливой парой; она читала на щите указание, куда им идти, на какую линию пересаживаться; Виктор, вполоборота, махал рукой то ли мне, то ли Будде.
Тройственная структура
Я жил в Мюнхене, но еще работал в Эйхштетте в ту счастливую пору; мне нужно было в университет на другой или третий день; я предложил им поехать со мной на машине, а там уж сесть в поезд до Франкфурта, тем более что Тина в тех местах не бывала и места эти (справедливо) казались ей вполне экзотическими; да и Виктор, как выяснилось, не бывал там с 2003 года. Забавно было показывать ей этот католический городишко с его бесчисленными церквами, куполами и башнями, его полукруглой, за себя саму, под наблюдением кариатид, загибавшейся площадью, его крепостью на холме. Когда показываешь кому-нибудь место, где живешь или часто бываешь, сам видишь его свежими глазами, чужими глазами. Была середина марта, то есть семестр еще не начался; на трех с половиной улицах, из которых состоит городок, так пустынно было, к Тининому умилению, как если бы вместе со студентами и просто жители разъехались на каникулы. Мне все-таки нужно было просидеть час в кабинете (все в том же, с видом на стоянку и кладбище), в ожидании, не забредет ли ко мне какой-нибудь рьяный студент, мечтающий обсудить свою курсовую работу, прилежная студентка, взыскующая зачета; потом, помнится, пообедали мы в ресторане «Труба» (Trompete), баварском, темном, с деревянными балками под потолком, деревянными длинными столами и скамьями, где я мог наблюдать, как влюбленными глазами наблюдает Виктор за уплетающей шницель Тиной; пообедав, прошли через университетский парк с еще забранными в деревянные коробки статуями, фонтанами, спрятанными под дощатым настилом (бывший парк бывшей резиденции местного епископа, превращенной в резиденцию нынешних университетских начальников), мимо крошечного здания факультета журналистики, шедевра, прямо скажем, современной архитектуры, созданного в конце восьмидесятых годов Карлйозефом (именно так, в одно слово) Шаттнером (которого, странно думать, я иногда встречал в мои эйхштеттские годы гуляющим с женой по лесу, уже очень пожилого – он родился в 1924 году, – и к которому всякий раз порывался, но не решался подойти и сказать, как восхищают меня его постройки, всякий раз думая, что он местная, и не только местная, но почти мировая знаменитость и ему восторги мои не нужны; теперь думаю, что я ошибался и что лишних восторгов вообще не бывает). Это бетонный куб, поставленный архитектором между двумя барочными, XVIII века, крыльями (бывшей оранжереей и бывшим, кажется, домиком епископского садовника); куб, скромно, гордо и тихо стоящий между этими барочными крыльями, преображая их своей бетонностью, своей кубистостью, чистотой и простотой своей геометрии, превращая их из памятников прошлого в части новой и небывалой, рассекающей время конструкции. Мы надолго задержались перед этим зданием, этим кубом, поделенным надвое высокой стальной дверью с высоким стеклянным наддверием, продолжающим линии двери, уходящим под крышу, отражающим облака, так что (говорила Тина, обращая мое – скорее мое, чем Викторово, – внимание на очевидные вещи, о которых до сих пор я не задумывался) возникает структура одновременно тройственная и двойственная, в которой две половинки современного куба отчетливо рифмуются с двумя старинными крыльями, что и создает то ощущение гармонии, которое (она полагает) трудно не испытать, стоя здесь, ничего не снимая. Она ничего не снимала и снимать вовсе не собиралась. Зачем? фотографий всех этих зданий и в Интернете, и в книгах достаточно. Так же внимательно смотрела она и на реку, и на холмы за рекой, и на другое, не менее знаменитое, тоже попавшее во все учебники Шаттнеровское здание, к которому я подвел ее, в которое даже зашли мы (бывший, высокий и узкий, двор, взятый под стеклянную крышу и с помощью галерей, вьющихся лестниц превращенный в борхесианскую библиотеку), и позже, на противоположном краю кампуса, на стеклянно-зеркальное, тоже вполне замечательное здание университетской библиотеки, построенное ни много ни мало Гюнтером Бенишем, создателем, среди прочего, мюнхенского Олимпийского парка, столь мне памятного по совсем другим прогулкам этой же счастливой эпохи, описанным в другой книге, – внимательно, повернутыми к миру глазами смотрела она на все это, ничего, однако и по-прежнему, не фотографируя. Не только не фотографировала она ничего, но и сумку с фотоаппаратом оставила у меня в машине, не потащила с собой на прогулку. Она вовсе не всегда фотографирует, это, уж прости… уж простите, немного наивное представление о фотографах, что фотографы-де все время щелкают своей камерой. У нее бывали фазы и эпохи жизни, когда она всегда таскала фотоаппарат с собой и снимала все подряд, она не отрицает, продолжая улыбаться всепонимающею улыбкой говорила Тина, полной белой рукою откидывая назад свои медно-рыжие волосы, но это только эпохи, только фазы жизни, они тоже заканчиваются.
Решающее мгновение
Лишь экономия средств и, главное, забвение себя самого ведут к простоте выражения, говорил (см. выше) Картье-Брессон, один из Тининых главных героев. Еще говорил он о решающем мгновении (instant décisif), которое должен поймать фотограф (чуть раньше, чуть позже – все будет загублено), о том единственном, магическом мгновении, в которое (и только в которое) он должен нажать на кнопку затвора; из всех высказываний всех фотографов о природе их ремесла, их искусства самое, наверное, знаменитое, так что даже я о нем слышал (с тех пор благодаря Тине мои познания в этой области многократно умножились). Я об этом и пустился, помнится, разглагольствовать (вполне по-Ген-наадиевски). С одной стороны, магическое мгновение, вот это здесь, вот это сейчас, с другой – то, что поднимается над мгновением, вообще, быть может, над временем, значит геометрия, геометрические структуры, прозреваемые фотографом и роднящие фотографию с архитектурой (так я, или примерно так, разглагольствовал), структуры, двойственные или тройственные, которые в своей неизменности, неизбежности, своей неслучайности (с наслаждением разглагольствовал я) намекают, или мы хотим верить, что намекают, на некий смысл, или хотя бы возможность некоего смысла, таящегося за текучей тканью нашей случайной жизни; и нельзя ли сказать (продолжал я свои Ген-наадиевы разглагольствования, Тине явно приятные, привечаемые ее всепонимающей, всепрощающей нежной усмешкой), что это два полюса – мгновение и структура, непрерывно изменчивое и навсегда неизменное, или как бы мы их ни назвали, – что это два полюса, между которыми раскачивается фотография, как, в сущности, и любое искусство, хотя каждое это делает на свой лад и своими собственными, лишь ему одному присущими средствами? Конечно, можно сказать так, и трудно не согласиться с этим, хотя вы сами понимаете и ты сам понимаешь, что это только слова, говорила в ответ мне Тина (с которой мы понемногу переходили в тот день на ты, как это вообще принято в Германии, тем более среди сверстников, если отношения не деловые, а дружеские; до самого исчезновения его я, кстати, так и не перешел на ты с Виктором…) – ты сам понимаешь и вы понимаете, что это только слова и что все слова приблизительны. Вот это я понимаю, еще бы, сказал я. Неприблизительные слова бывают в стихах и в прозе… Для хорошей фотографии нужна еще история, объявила Тина, откидывая назад свои медно-рыжие волосы, затем одергивая пижонское, с огромными пуговицами, черно-кожаное пальто. Нужно мгновение, единственное из тысячи, и нужно то, что за ним, что под ним, геометрическая структура, искать и видеть которую учат нас законы композиции, и помимо всего этого нужна еще некая история, понимаем мы ее или нет. Ее, Тину, так или примерно так говорила она в тот день, глядя на ветлы и Виктора, отвечавшего на ее взгляд своим влюбленным, но все же явно думавшего о другом и о дзенском, – ее особенно привлекают, пожалуй, снимки, которых мы не понимаем или не вполне понимаем, к которым мы можем придумать истории самые разные, снимки, которые могут быть прочитаны так, а могут и совсем по-другому. Историй на свете множество, и все вообще очень странно.
Вкусить уничтоженья
Виктор, имевший способность не обиженно, но просто не слушать, когда что-то не интересовало его (погружаясь, как я теперь понимаю и тогда уже догадывался, в свой коан, в поиски своего подлинного лица, каким оно было от века, до рождения и встречи родителей…) – Виктор, в своей бордовой шапочке, барбуровой курточке, держал, я помню, руки перед собою, как это делают во время кинхина, и ступал, казалось мне, теми осторожными, осмысленными, сознающими себя шагами, какими, по словам разных учителей, всегда и должен ступать дзен-буддист; шел, короче, отсутствуя, или, попробую сказать точнее, присутствуя здесь, но в другом здесь, не в том, в котором мы говорили с Тиной об архитектуре, геометрии, скрытых смыслах и тайных структурах, а в том, где были только мартовские голые ветки деревьев в университетском парке, заколоченные фонтаны, статуи в деревянных коробках, смутное, бледное небо, – только вот это зримое, настоящее, это, значит, магическое – а с дзенской точки зрения они ведь все такие – мгновение, это вечно длящееся, не иссякающее сейчас; мы вышли на ту лужайку, где садился некогда вертолет, где ни вертолета, ни пятен снега на зеленой траве теперь не было, но все те же были холмы за рекой, та же крепость на одном из них, та же серая даль, те же ветлы, полоскавшие ветви в воде, все в том же здесь, все в том же сейчас. Одинокий велосипедист в марсианском шлеме и водолазном костюме проехал мимо нас, сквозь наши слова и молчанье, на тонюсеньких шинах, сам такой тоненький, что вот, казалось, сейчас истончится он до полного исчезновения в этой серости, этом безлюдье; так оно и случилось. Дай вкусить уничтоженья, с миром дремлющим смешай… Виктор опять не узнал цитаты, потребовал объяснений. На этом месте, Алексей Анатольевич, вы всегда цитируете какие-нибудь стихи. Он взмахнул рукою, указывая в сторону (закрытой) столовой; смех стоял в его сумасшедших, осмысленных и счастливых глазах. Я вновь попросил его оставить Анатольевича в покое. В окнах столовой сквозь отраженное небо видны были перевернутые стулья, блестящими металлическими ножками кверху стоявшие на столах. Дай вкусить уничтоженья… Он с тех пор нашел и купил в букинистическом магазине те стихи Руми в переводе Фридриха Рюккерта, сообщил Виктор; те самые, с темным деспотом, умирающим, когда любовь пробуждается; он даже помнит их наизусть; не только строки, которые я тогда записал для него, но все стихотворение целиком. К немалому моему изумлению, прочитал он, нараспев и слегка на ходу покачиваясь, как будто раздумывая, не превратиться ли в дервиша, эти, как мне по-прежнему кажется, восхитительные стихи, сообщающие читателю, что смерть оканчивает страдания жизни, а все-таки жизнь пред смертью трепещет, жизнь видит только темную руку, не видит светлой чаши в этой протянутой к ней руке. Вот так же и сердце трепещет перед любовью – любовь грозит ему гибелью, ведь там, где любовь пробуждается, там умирает я, темный деспот… Виктор, ты читаешь стихи?! – воскликнула Тина с неожиданной насмешкою в голосе. Виктор, под своей бордовою шапочкой, покраснел густым, почти тоже бордовым румянцем. Тина, мне показалось, о своих словах сразу и пожалела. Это была только одна минута; минута, ко всеобщему облегченью, прошла. Дай умереть ему в ночи, и на утренней заре вздохни, наконец, свободно.
Бейсбольная кепка
Мы встретили Гельмута, когда шли к машине, местного полубродягу и полуфилософа Гельмута, который, удивительным образом, не ехал ни на мо-, ни на велосипеде, но шел своим ходом и своими ногами, вполне слоновьими и явно не приученными ходить, шел в тяжелую перевалку, в бейсбольной кепке с бесконечным оранжевым козырьком, с нечесаными серыми космами, вылезавшими из-под кепки, совсем уже толстый, с совсем седою бородкой – бороздкой, – по-прежнему бежавшей от нижней губы к складкам шеи, по всем подбородкам. Время меняет людей, объявил Гельмут, узнавая, похоже, Виктора (а я и не подозревал, что они были знакомы), быстрые, восхищенные взгляды кидая при этом на Тину (вот это женщина! – читалось в его прозрачных, заблестевших и похитревших голубеньких глазках). Как д-дела? – спросил Виктор, улыбаясь ему. Дела, дела… Жизнь, объявил Гельмут, идет своим чередом. Ничего нет нового под солнцем. Солнце светит, и то хорошо. Лишь бы не было войны, все остальное неважно… Не знает ли он о Кристофе что-нибудь? О Кристофе? О каком таком Кристофе? Ах, о Кристофе, бхагаване? Бхагаван исчез, сказал Гельмут. Исчез и неизвестно куда подевался. Растворился в воздухе, объявил Гельмут, вздымая мощные руки, показывая нам тот воздух, в котором бхагаван растворился. Семья его ищет, и отец-автомеханик, и брат-автомеханик, все ищут, объявил Гельмут, не могут найти. А что с него взять? Сумасшедший, Рамакришна, святой человек… До свидания, красавица, сказал Гельмут, снимая с облысевшей, как выяснилось, головы бейсбольную кепку, маша ею в воздухе. Седые космы окружали Гельмутову лысину, как заснеженный лес окружает голую, горную, ненужную альпинистам вершину. Auf Wiedersehen, schöne Frau! Тина ответила ему своим самым всепонимающим, всепрощающим, нежнейшим смешком… Я затем их отвез на вокзал; они ехали, следовательно, по тому же маршруту, по которому сам я ездил когда-то во Франкфурт, в пору моей связи с теперь уже давно и окончательно из моей жизни выпавшей Викой: на местном маленьком поезде до Нюрнберга, оттуда на шипучем экспрессе через Вюрцбург до Франкфурта; но я не знаю, конечно, куда отправились они в тот вечер с вокзала, к Тине, к Виктору или каждый к себе домой.
Тассахара
Им тоже не приходило в голову съехаться и попробовать жить вместе, как в давно погибшем прошлом не съезжалась Тина и с Бертою, но каждый жил очень своей, очень отдельной жизнью. Тина, в те их первые счастливые годы, не очень-то и стремилась понять, чем живет Виктор. А он жил жизнью такой наполненной, какой никогда не жил прежде. Чем тщательнее стирал он пыль с зеркала, тем более убеждался, что ни зеркала нет, ни пыли – одна пустота. А между тем его жизнь была заполнена до краев – работой, дзеном, любовью, путешествиями и спортом. Он сам не знал, как успевает все это. В те годы он начал ездить по делам своей службы, сперва в Россию, где у его банка были филиалы не только в столицах, но и в городах, для Виктора до сих пор недосягаемых, известных лишь по названиям и понаслышке: в Новороссийске, Новосибирске, в Уфе и Сургуте; потом в места и страны, для него уже и вовсе мифологические: в Таиланд (откуда не доехал он до Японии), в Малайзию, в Новую Зеландию, в Индию, наконец в Америку, один и другой раз, причем оба раза на Западный берег, в Сан-Диего и в Сан-Франциско, где в первый же свободный вечер отправился он по Бобовым следам, по следам всех книг, им прочитанных, в знаменитый дзен-буддистский центр, основанный другим Судзуки, Сюнрю Судзуки, а в первые же свободные выходные – в не менее знаменитый монастырь в Тассахаре, основанный им же; посещение (рассказывал мне Виктор), одновременно очаровавшее его и разочаровавшее. Восхитителен был горный ландшафт, сквозь который долго ехал он на взятой напрокат в Сан-Франциско непривычно американской машине с автоматическим управлением – к тому времени уже Виктор выучился водить и на Тинином «Гольфе» ездил едва ли не чаще, чем сама она ездила; классический горный ландшафт с открывающимися за очередным перевалом долинами, каменистыми кряжами, градациями и оттенками синего, мягкой дымкой и прочими прелестями sfumato. В монастыре, куда попал он как раз к началу пятнично-субботне-воскресного курса, посвященного дзену – и поездкам на толстошинных велосипедах по диким дорогам и бездорожью, по сыпучим камням и обвалам, от одной бездны к другой возможности сломать себе шею (в чем Виктор, как человек спортивный, принял, не колеблясь, участие), – в монастыре (как он сам мне рассказывал) все было богаче и больше, чем на нашем баварском хуторе, но в принципе то же и так же (с тем отличием, что сидели здесь, как это принято в школе Сото, не по двадцать пять, а сразу по сорок мучительных минут, и коаны здесь никто не разгадывал). Зато очень много было смешений дзена со всякими другими вещами: с горно-велосипедными приключениями, испытаниями собственной смелости, с тай-чи и ки-гонгом, с каллиграфией, даже и с фотографией. Дзен в том виде, в каком занимался им Боб и ученики Боба, казался по сравнению со всем этим чем-то скромно-консервативным, прямо из книг шестидесятых-семидесятых годов теперь уже прошлого века, но и чем-то более подлинным, простым и чистым. Это-то и хорошо, думал он, возвращаясь в Сан-Франциско по страшной, извивистой, неасфальтированной дороге, поднимаясь на очередной перевал и спускаясь в очередную долину. Ему нужен был дзен сам по себе и как таковой, а не дзен плюс тай-чи, дзен плюс велосипед, дзен плюс фотография (этот плюс уже был и так в его жизни), дзен плюс игра на флейте сякухати…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































