Текст книги "Остановленный мир"
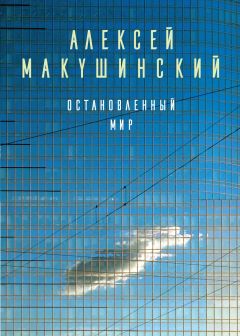
Автор книги: Алексей Макушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Ложи и декорации
И, значит, со времени моих первых дзенских увлечений, со времени Васьки-буддиста, Димы-фотографа должно было пройти – сколько? – четырнадцать или пятнадцать лет (так легко сжимаемых теперь в одно предложение, таких долгих в действительности), и я должен был закончить отнявший у меня девять лет жизни роман (в Эйхштетте, еще раз, в 1994 году), и переехать (в 1996 году) в Регенсбург, и (к 1998 или 1999 году) окончательно отчаяться написать следующий, отчаяться написать вообще что-нибудь, отчаяться вообще во всем – и в писательстве и в жизни, чтобы для самого себя неожиданно, в Вене, куда приехал я просто так, с этого же отчаяния, от отчаяния убегая, в марте 1999 года (как раз в те дни, когда началась бомбардировка Белграда…), в ужасной дешевой гостинице, которую порекомендовал мне кто-то из бережливых немецких приятелей, чтобы вдруг сказать себе, что я пойду по дзенскому пути, будь что будет, всерьез и в самом деле, потому что никакого другого пути не вижу я для себя. Все декорации жизни давно поменялись, другие зрители сидели в глубине других лож, как будто и не было никогда того трамвая, того струения дождя по стеклам, тех девушек, тех коммуналок, того Ген-наадия, обсосанного Соссюра, как будто снился мне некий сон, перестал сниться, выпал из памяти, и я сам, уже почти сорокалетний, с отчаяния, от отчаяния и без всякой цели приехавший в Вену, был какой-то другой я, с другим составом крови и плоти, с другим, уже слоистым, ступенчатым, переборчатым прошлым, с другим, еще и по-прежнему необозримым, но уже начавшим сужаться, сжиматься будущим, с такими потерями в этом прошлом и такими потерями в будущем, уже осязаемом, о которых пятнадцатью годами ранее никто и не думал… другой – и тот же самый я, разумеется, с теми же темами жизни, тем же набором нерешенностей, теми же проблесками пробуждения и теми же провалами в обыденное безмыслие.
Улица Инвалидов
Вена в мой первый туда приезд показалась мне городом вполне отвратительным, подложно-парадным – одним из самых пошлых городов Европы, – городом, который делает вид, что все хорошо, все в порядке и всегда, и раньше было только хорошее, сплошные балы и вальсы, прыжки и ужимки, кавалеры в кружевах и дамы в кабриолетах, ничего другого и не было, ничего не случилось. Война? Не слыхали. Нацизм? Так это ж немцы во всем виноваты, это они нас попутали, наша с краю альпийская хижина, мы такие милые, мы ни при чем. Целую ручки, и до скорой встречи, сударыня. А евреев мы так любим, так любим. То есть мы их ненавидим по-прежнему, но не скажем этого никому, никогда… А я ненавижу эту вашу похабную позолоту, эти ваши казарменные дворцы, эти ваши имперские площади, фатально, как бы вы ни выделывались, напоминающие о плаце, муштре и шпицрутене, о том, что первая колонна marschiert и вторая колонна marschiert, но ни вторая, ни первая не придут никуда, заблудятся в лесу, увязнут в болоте – и поделом, и так им и надо, и любое болото отрадней мне торжественного убожества вашего… Я был, наверно, не прав; просто так несчастен был в эти мартовские дни в этом городе, как редко где и когда бывал в жизни. Знакомых в Вене у меня не было, идти было некуда, туристические места на третий день опостылели. Оставалось только уехать, но почему-то не уезжал я; упорно, словно в надежде на встречу с кем-нибудь, с чем-нибудь, бродил по отвратительным мне проспектам, бульварам, переулкам и улицам с чудовищными названиями вроде Landesgerichtsstraße, Getreidemarkt или Kettenbrückengasse, и только, может быть, в Бельведере, в его поднимающемся на гору парке находил недолгий покой, но потом опять тащился по какой-нибудь бесконечной Invalidenstraße, сам делаясь инвалидом, с трудом и му́кой волоча пудовые ноги, но все же из вечера в вечер возвращаясь – зачем? – в свою мрачную, затрапезную, заброшенную гостиницу, содержавшуюся двумя поляками – одним маленьким поляком и его, похоже, братом или кузеном, иногда замещавшим его за стойкой в прихожей, у основания мрачной лестницы с протертой ковровой дорожкою и очень пыльной, очень, как и я сам, несчастной пальмочкою в пролете (гостиницу, к которой под конец моего пребывания я почувствовал даже что-то вроде симпатии – островок славянской правды в море австрийского ханжества), в этот крошечный прокуренный номер (в Европе еще курили тогда в гостиницах), главное достоинство которого заключалось в том, что, сидя на стуле, деревянном, выгнутом и скрипучем, можно было дотянуться рукою до любого предмета и любого угла, до телевизора, подвешенного под потолком, или до тумбочки, или до затхлого шкафа, так что никакого и смысла не было подниматься с этого стула, разве что ради того, чтобы лечь на в меру продавленную кровать, бессонными ночами, в отличие от вейль-на-рейнской, не одарившую постояльца, одарившую его мрачнейшими вечерами, бессмысленным глядением в потолок. В последний и самый ужасный из этих венских весенних дней, неистово-солнечный и злобно-голубоглазый, когда я поехал зачем-то в Шёнбрунн, эту жалкую в своей примитивной гигантомании пародию на Версаль, и возвратился оттуда в окончательном отчаянии, вдобавок и с мигренью до тех пор не испытанной силы – просто шило (и даже, скорее, штопор) воткнули мне в голову в вершке от виска, воткнули и вворачивали все глубже, – на помянутой кровати лежучи, в помянутый потолок глядючи, для себя самого неожиданно принял я решение пойти по дзенскому, действительно – потому что никакого другого не видел и не мог придумать, – пути; приняв его, пересел на стул – больше пересесть было некуда, – сложил руки в дзенскую мудру, какой она мне помнилась по уже к тому времени прочитанным книгам, принялся считать свои выдохи. Все наши, если не лучшие, то важнейшие наши решения вырастают, я знаю теперь, из отчаяния. Мигрень не прошла, да и на душе не то чтобы полегчало. Не полегчало, но прояснилось. По крайней мере, удалось мне, наконец, отстраниться от моего же отчаяния, откуда-то сверху и сбоку посмотреть на него (как в свое время на речку-вонючку с ее облачками стирального порошка и облаками небесными…), сбоку и сверху – на мои бессмысленные прогулки по чудовищно имперским площадям и отвратительно парадным проспектам, на эту внезапную ненависть к ничем, наверное, не заслужившей ее Вене, на всю мою зашедшую в тупик жизнь, эти последние мучительные годы, эту выжженную пустыню – посмотреть на них сверху, сбоку или, наоборот, с какой-то вдруг обретенной внутренней точки, неподвижной посреди шатания и шума во мне, с этого деревянного, выгнутого, но твердо стоявшего на полу, скрипучего, а все же уверенного в себе стула, на котором сидел я, считая выдохи, и с которого можно было дотянуться до любого предмета в комнате – до стола, и лампы, и телевизора. Включать телевизор мне и в голову не приходило, но что-то переключилось у меня в голове; решение было принято; как только оно было принято, я мог уже и уехать; назавтра без всяких приключений докатился до Регенсбурга; и потом все закрутилось, понеслось очень быстро; очень быстро обнаружилась в том же Регенсбурге дзен-буддистская группа, собиравшаяся в каком-то протестантском учреждении, затем другая, дзенско-католическая, затем просто дзенская, в Мюнхене; и я раздобыл (теперь не помню, где именно) японскую черную круглую подушку для медитаций (набитую особенной белой ватой – капоком), подушку, которая с тех пор мне верно служит (иногда приходится добавлять в нее немного этого белого капока через боковой тайный разрез); и на этой подушке сидел теперь (в дзенском смысле) каждое утро и каждый вечер, считая свои выдохи (от одного до десяти) и стараясь (как учат дзенские книги) не обращать внимания на возникавшие, проходившие у меня в голове мысли, обрывки мыслей, обращенных или не обращенных к кому-то, стараясь не говорить им ни да, ни нет, не бежать за ними, но и не подавлять их – просто, с терпением, которого я до тех пор не предполагал в себе, возвращаясь к счету выдохов, от одного до десяти, от одного до десяти. В дзенско-протестантских, и дзенско-католических, и просто дзенских группах, в которые попадал я теперь, сидели (три раза по двадцать пять минут; иногда, впрочем, и дольше) некие (мне, признаться, совсем не запомнившиеся и, наверное, потому не запомнившиеся, что ни с кем из них я не вступил в разговор, никто даже внимания не обратил на меня; хотя некоторые требовали, чтобы сперва я выслушал их объяснения, как сидеть, как складывать руки, как ноги; но и эти не запомнились тоже…) дядьки и тетки, почти все средних лет и вида безумного более, безумного менее, но и в том, и в другом случае какие-то невыразительные (потому и не запомнившиеся, наверное) или, может быть, так решительно повернутые к чему-то иному, отвернутые друг от друга и от меня, новичка, что даже лица их стирались, смывались, очень скоро стерлись из памяти. Не скажу, что мне это нравилось. Мне это вовсе не нравилось; ни в одну из этих групп и группок я долго не проходил; везде был случайным гостем.
Рай – рядом, закрытая дверь
Во всех этих группах, как и в книгах, которые теперь читал я, говорили мне и рассказывали, что ежедневный дза-дзен – это прекрасно, но что главное – это сессин, недельное (например) удаление-от-мира, целиком (почти целиком) посвященное медитациям. Тут же выяснилось, что сессины проходят повсюду, что записаться на них нетрудно, стоит недорого; дзен-буддистские сессины, выяснилось опять же, проводятся не только в буддистских местах и монастырях, но и во многих монастырях католических, у францисканцев, у бенедиктинцев, у иезуитов, причем один такой (францисканский) монастырь оказался на полпути между Регенсбургом и Эйхштеттом, в деревушке под названием Дитфурт, в долине Альтмюля, так что я, в ту пору едва ли не каждую неделю (во время семестра) ездивший из Регенсбурга в Эйхштетт (где уже начинал преподавать и куда вскорости, в 2001 году, вынужден был возвратиться, получив там уже упомянутую работу на кафедре восточноевропейской истории), иногда в этом (крошечном) Дитфурте останавливался, парковал машину на ратушной площади и шел по узеньким улочкам к монастырю, чтобы посмотреть из-за ограды на плоскую крышу и мелкие, продолговатые окошки дзен-до, зала для медитации, основанного, между прочим, знаменитым в немецких дзенских кругах Гуго Эномия-Лассалем (Enomiya-Lassalle), иезуитским патером, бесконечно долго жившим в Японии, пережившим там Хиросиму, стремившимся (говоря пластмассовым языком) дзенскую «мистику» объединить с христианской. Кроме плоской крыши и мелких окошек ничего видно не было; никакие монахи, ни францисканские, ни буддистские, из монастыря не выходили, так что, например, вступить с кем-нибудь из них в беседу, обменяться парой любезностей и парадоксов, а заодно и расспросить о сессине, как хотелось бы мне, я не мог; вообще, мне помнится, никто не выходил из монастыря и никто в него не входил, хотя было, как оно и всегда бывает, окошечко у входа и рядом с ним звонок, которым можно было вызвать привратника. Я этого так и не сделал. Я обходил вокруг монастырских стен, выходил к ручью, бойко бежавшему с мягких холмов к Альтмюлю, журча и всплескивая под маленьким мостиком, играя на солнце, играя мхом на камнях и на дне, отражая небо, сияние облаков, синеву между ними. Я смотрел на все это с ощущением одновременности несчастья и счастья. Все это было здесь, сейчас, несказанное в своем совершенстве, отвергающее меня. В этом блеске отраженных в воде облаков, и в этих перевернутых черных деревьях с зыблющимися и все же четкими очертаньями веток и веточек, и в этих мягких холмах вдалеке (так манивших, так звавших) – во всем этом был покой, от которого я по-прежнему чувствовал себя непоправимо отторгнутым. Рай всегда рядом, я думал, но двери в него закрыты.
Буддистский хутор
Эти блуждания у монастырских стен блужданиями и остались; мне хотелось буддизма чистого, без католических примесей. Обнаружился буддистский хутор, даже, смешно вспомнить, целых три буддистских хутора в Нижней Баварии, в глухом и сельском углу; из каковых хуторов один был незадолго до того основанный, в традиции Сото, дзен-буддистский монастырь, два других предоставляли разным буддистским направлениям и группам место для уединенных занятий и аскетических подвигов: буддизм тхеравады сменялся буддизмом тибетским; заканчивалась випассана, начинался дзенский сессин. На один из этих хуторов я и отправился (уже следующей, еще и тоже ранней весною); долго ехал по все более пустынным дорогам; съехав на дорогу уже просто проселочную, щебеночную (что в Германии бывает нечасто), обнаружил самодельную умилительную табличку, простую фанерку, указывавшую путь к убежищу и отрешенью от мира; проскочил пару оврагов, резко вниз, резко вверх; когда же, оставив машину на парковке за хутором, на краю последнего оврага, занес вещи в дом и познакомился с держателями заведения, сразу, я помню, почувствовал себя внутри некоего особенного целого, как мы себя чувствуем в театре, в концерте… или в больнице, в любом месте, на более или менее длительное время отделяющем – отдаляющем – нас от нашей привычной жизни; и я не только потому, наверное, так хорошо помню, так ясно вижу теперь этот деревенский дом, судя по толщине стен и узости окон старинный, XVIII, может быть, века (и как бы удивились его первые, да и последующие владельцы, узнай они, во что превратят их скромное обиталище странные люди, населившие землю после мировых, объединивших мир войн и катастроф, тектонических потрясений, все смешавших, все перепутавших на земле) – этот дом, по-деревенски и по-старинному темный, с его прихожей, где на особых приступочках ровным рядком стояли сельские сапоги, и городские ботинки, и, для внутреннего пользования, тапочки, с его бесчисленными порогами, его деревянной, скрипучей, за себя саму загибавшейся лестницей на второй этаж, где в одной из комнат, пустой и совсем не торжественной, проходил так называемый докусан (см. ниже), остальные же, как и комнаты на третьем этаже, на который вела уже откровенно чердачная лестница, были комнаты спальные, на двоих и на одного, с простой, из натурального дерева мебелью, в своей простоте и свежести нимало не напоминавшей мебель гостиничную, комнаты с кроватью и шкафом, в котором плечики были обычные, тоже из дерева, соприродные человечеству, пахло сухими травами, разложенными на полочках в пестрых холщовых пакетиках, и послание от хозяев дома к взыскующему истины постояльцу, приклеенное к изнанке одной из шкафных дверец, просило его, постояльца, соблюдать, по крайней мере во время пребывания своего в доме сем, буддистские принципы ненасилия, даже и поелику возможно распространяя их, эти принципы, на – кого? – насекомых, вот именно: насекомых (с каковыми я в тот первый мартовский сессин не имел дела, зато во второй мой сессин, осенний, уже вынужден был дело иметь, поскольку они, деревенские комары и сельские мухи, мечтали меня покусать, пожужжать мне прямо в ухо и вообще как-нибудь испортить мне настроение, я же не всегда ухитрялся распространить на них буддистские принципы ненасилия); не только потому так ясно вижу я теперь этот дом, что провел там сперва одну, потому другую неделю, весеннюю и осеннюю, но еще и потому, что провел их, эти две недели, в том медитативном молчании, стихании случайных мыслей, в той отрешенной сосредоточенности и сосредоточенной отрешенности, которые только и позволяют нам увидеть, запомнить окружающий нас мир, окружающие нас вещи, коряги и камни, любовно разложенные по всем подоконникам, по краям лестничных ступенек и по книжным полкам в библиотеке, запомнить и поля вокруг дома с многообразными – в мой весенний приезд, – по разным лекалам выведенными пятнами белого или уже ноздревато-темного снега на распаханной черной земле.
Явление Боба
Первым делом надо было записаться на какую-то определенную – такую-то, а не другую – работу; в дзенских монастырях все работают (не расставаясь, или якобы не расставаясь, со своим коаном, или хотя бы со счетом вдохов и выдохов, или, чаще, одних только выдохов; работа, саму, считается тоже упражнением, частью аскезы и религиозного подвига); в настоящих японских монастырях работают, потом узнал я, гораздо больше и тяжелее, чем работали здесь. Но и здесь надо было или овощи на кухне резать, или, скажем, лестницу мыть. Посуду надо было мыть при всех обстоятельствах, неважно, что еще ты делал, что выбрал. Я подумал, что и так буду все время на людях и потому работе общей стоит предпочесть работу в одиночестве, резке овощей – мытье лестницы. На мытье этой лестницы притязали многие, но я был первым, мне повезло… Лишь под вечер, когда съехались и разместились все эти притязавшие или не притязавшие на мытье лестницы свидетели и соучастники моих грядущих аскетических подвигов, мои соратники в медитативной борьбе – человек, пожалуй, пятнадцать, которых, за двумя или тремя замечательными исключениями, я как раз не могу теперь вспомнить, так они были отвернуты от меня и друг от друга, – лишь под вечер, когда все устроились и все разместились, обнаружил я само дзен-до, зал для медитаций, главное место в доме – небольшое, сводчатое, бело– и мелостенное, с совсем уже узенькими окошками и дощатым, тоже скрипучим, как впоследствии выяснилось, беспощадно холодным, полом. В углу были сложены маты, подушки и одеяла, к каковым сейчас же и устремились проникшие в зал дзен-буддисты, каждый (каждая) из которых принялся (принялась) с большой деловитостью оборудовать себе местечко – поближе к окошкам или, наоборот, лицом к безоконной стене; лишь, опять же, под вечер, когда искатели истины расселись на подушках и матах, увидел я главу всего предприятия – Боба Р., американца, столько-то или столько-то, двадцать или двадцать пять лет перед тем прожившего в Японии, ученика и воспитанника легендарных наставников, авторов и героев дзенских книг, не покидавших меня в ту пору, – Боба Р., которому тогда было – сколько же? – лет, наверное, пятьдесят с небольшим, который, к моему удивлению, разочарованию, явился перед адептами и аскетами не в одном их тех дзенских черных или черных с золотом одеяний, которые видел я на фотографиях и теперь надеялся увидеть in natura, но в обычных, коричневых, с плохо отутюженной складкою брюках, нисколько не джинсах, в неопределенно-бежевом свитере грубой и редкой вязки, так что сквозь него видна была клетчатая рубашка, застегнутая на верхнюю пуговицу, как это делают только школьники, отличники, первые ученики. А он и похож был на первого ученика, то есть похож был на подростка в свои тогдашние пятьдесят с небольшим, и не только застегнутая верхняя пуговица, но и прическа была у него какая-то школьная, подростковая, как это иногда бывает у англосаксов, со смешной, болтавшейся впереди прядью светлых, уже начавших седеть волос. Они еще не решили, эти волосы, оставаться ли им волосами молодого блондина или сделаться волосами тоже еще не старого, но уже пожившего на земле человека; седина, пробивавшаяся сквозь их готовую исчезнуть блондинистость, отзывалась в них, смотря по тому, как падал свет, быстрым блеском, мгновенным мерцаньем. Молодыми, светлыми были, до конца оставались глаза. По-немецки говорил он с сильным американским акцентом, иногда задумываясь над словами, как если бы он не уверен был в этих словах – или просто переходя на английский; но даже перейдя на английский, продолжал задумываться над своими словами; не говорил, но думал вслух, при свидетелях; и даже когда повторял уже сказанное (а мне случалось впоследствии слышать от него уже сказанное им раньше), все равно создавалось у меня впечатление, что он впервые нашел слова для своей мысли и даже впервые нашел саму мысль, неожиданно набрел на нее; отчего она переставала быть собственно мыслью, отдельной от него, Боба, но становилась простым и всякий раз новым выражением того самого важного, что было в нем, было им. Он не высказывался, но сказывался в том, что он говорил. И он не торопился никуда, никогда. Он всякий раз ждал в непоколебимом и счастливом молчании, чтобы слова и мысли пришли к нему сами, из той тишины, из которой и приходят слова, из той пустоты, из которой все приходит, в которую все возвращается. Оттого казалось, что он и говорит из этой пустоты, тишины, со всех сторон окружавшей и его слова, и его самого, как окружает она одинокий звук сякухати. И оттого что говорил он – из этой тишины, пустоты, он одновременно был и не был там, где он был (в дзен-до, на подушке, на почетном учительском месте, лицом и сиянием глаз повернутый ко всем остальным). Он безусловно был там, где он был, всей силой дзенского присутствия присутствуя в настоящем (в этом дзен-до, на этой подушке); а все же говорил он издалека и откуда-то, из каких-то, я думал, не доступных его слушателям областей, которые (как мне уже доводилось писать) я невольно представлял себе в виде далеких горных, в синей солнечной дымке друг за другом исчезающих кряжей (с пинией на переднем плане, легкими уверенными штрихами прочерченной в воздухе…); и эти лишь ему одному доступные области, эти снега и вершины, стояли, сияли за ним, делая совсем уже маленьким и чуть-чуть смешным то место, в котором мы все находились: низкий потолок, узкие окна.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































