Текст книги "Остановленный мир"
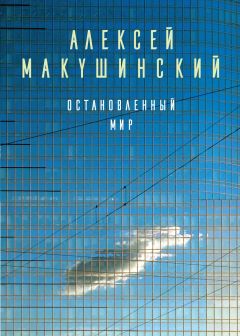
Автор книги: Алексей Макушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Возможность выбора
А меня всегда занимали отказ, уход, умолкание художника, сказал я в ответ; Рембо, уезжающий в Африку; сам не знаю, почему это так влечет меня; я-то, говорил я (уже заплетавшимся от «кьянти» и усталости языком), хотел бы писать до последнего дня своей жизни, умереть с тетрадкой в руках, ручкой в руке. Наверное, потому что это намекает на возможность выбора; вот почему. Отрадно думать, что мы сами выбираем свой путь, говорил я (вспоминая, как обыденно и спокойно произносил это слово Боб, на той, девять лет назад, вечеринке); отрадно думать, говорил я (заплетающимся языком, преувеличивая свое опьяненье), что не кто-то за нас решает, но что мы сами выбираем, сами решаем, по какому пути пойдем, займемся ли фотографией или углубимся в буддизм, будем ли сочинять, к примеру, стихи или прозу или простимся со всем этим, сделаемся йогом, сделаемся даосом. Хотя в глубине души мы знаем, что выбора нет, или не знаем, но чувствуем, или предчувствуем, или догадываемся, или как-то так, и вообще простите меня, это вино, и бессонница, и усталость, и страшные новости, которые мы получили сегодня, и вообще представить себе, что я еще утром бродил возле «Витры» в Вейле-на-Рейне, любуясь конференц-павильоном Тадао Андо, тоже, я думаю, не чуждого буддистской медитации, хотя с уверенностью утверждать не могу, попробую разузнать, говорил я отсутствующей Тине, улыбающейся Милене, и вообще мысли мои путаются, и говорю я под возбудительным влиянием «кьянти», как в электричке некогда, если Тина помнит, болтал под действием джина, выпитого мною на вечеринке у Боба, в богатейском, скучнейшем Кронберге-в-Таунусе, хотя я очень редко пью, уж вы поверьте, говорил я Милене, да и сейчас, признаюсь, чуть-чуть преувеличиваю действие на меня алкоголя, просто чтобы сказать вам то, что мне хочется сказать, что выбора у нас нет, нам только кажется, что мы можем пойти по одной или по другой дороге, исхоженной более или проторенной менее, и, наверное, потому у нас нет никакого выбора, что мы сами же и есть этот выбор и, следовательно, не можем обладать им как чем-то посторонним, чем-то другим и отличающимся от нас самих, как нам всем бы хотелось, и мы сейчас пойдем, мы расплатимся, то есть я расплачусь, а вы не спорьте, прекрасная Милена, просто дайте мне заплатить, вот и все, вот уже и «кьянти» мы допили, точнее я допил, вот уже и «шардоне» ваше кончилось – все кончается, все проходит, arrividerci, caro Luiggi, ciao, ciao, caro Lorenzo.
Эркер, лепнина
Я остался ночевать у Тины; уже никаких сил не было у меня ехать домой, да и слишком много было выпито, чтобы мог я ехать, не рискуя машиной, головой и правами. Я лежал на кожаном низком диване в той большой комнате с эркером, которая служила Тине одновременно гостиной и студией; лежал, глядя на высокий потолок с югендстильной лепниной, бегущей по краям его; лепниной узорчатой, составленной из вьющихся, друг за друга загибающихся стеблей фантастических трав и всякий раз, когда я смотрел на нее, заставлявшей меня вспомнить ту бесконечно более примитивную, нисколько не югендстильную, но сталинско-барочную (барачную), из каких-то блямб, но все же лепнину, на которую я так долго, все мое детство, смотрел засыпая; я уже засыпал, в самом деле, когда Тина из-за полуотворенной (вообще, кажется, не закрывавшейся полностью) двери в спальню начала, в очередной раз (в который раз за последние годы), но с такой обстоятельностью, и с такими подробностями, с какой, с какими еще никогда, рассказывать мне историю своих с Виктором отношений, историю их любви, сближения и разрыва, в общих и даже некоторых частных чертах уже известную мне; голос ее, низкий и скорбный, звучал из-за двери, как иногда звучат по телефону незримые голоса – голоса, за которыми мы, на нашем конце провода, никого и ничего не можем представить себе: ни того, с кем мы говорим, ни, к примеру, той комнаты, из которой он говорит с нами; и хотя я отлично мог представить себе Тину, в соседней комнате и в ночной черной рубашке лежащую на спине на кровати, подложив под голову полную руку, все-таки голос ее звучал из-за полуоткрытой, потому что не закрывавшейся до конца двустворчатой двери как такой телефонный, потусторонний голос, приходящий откуда-то из ниоткуда, с электрическим треском, из невообразимых пространств. Снова, как прошлой ночью, бежали по потолку и стенам отсветы редких фар, проникавшие сквозь опущенные, но не сведенные в сплошную плоскость жалюзи эркера; ровный, розовый отсвет города тоже плыл и перемещался по стенам, по завиткам и стеблям потолочной лепнины; все это – и Тинин абстрактный голос, и разнообразные отсветы, и мои собственные случайные мысли, мысль о том, как я уже хочу заснуть, наконец, – все это сливалось с клочьями и кусками то подступавших ко мне, то вдруг опять отступавших от меня сновидений; все это, вместе с клочьями сновидений (куда-то мы шли вместе с Тиной, по каким-то темным улицам, в поисках то ли Виктора, то ли еще кого-то…), оказывалось одним большим сном или только фрагментом, отрывком одного большого и невероятного сна, который давно я смотрю, не могу насмотреться.
Кустодиевские красавицы
По соображении всех данных, всего того, что мне рассказала Тина в ту ночь, и того, что она мне раньше рассказывала, и того, что мне рассказывал Виктор, и чему я сам был свидетелем, – по соображении всего этого я понимаю теперь, что их роман начался стремительно, развивался бурно, как и должны начинаться, должны развиваться романы. Роман должен быть быстрым, говорила мне в молодости одна дама, многим важным вещам меня научившая. На другой день после их случайного знакомства, после нашей, всех троих, случайной встречи в электричке из Кронберга во Франкфурт, после вечеринки у Боба (той роковой вечеринки, на которой впервые появилась ангелоподобная Барбара) – на другой день после этого случайного знакомства, этой случайной встречи (случайности, однажды начавшись, прекращаться не любят) Виктор, проходя мимо того банка (соседнего с его собственным; во Франкфурте все банки, все башни стоят на одном пятачке), где Тина устраивала свою выставку, увидев плакат с объявлением о вернисаже, в этот банк и башню зашел, еще, по соображении всех данных, ни о каком романе с Тиной не помышляя, но просто из любопытства, после долгого рабочего дня, и, значит, не в джинсах, не в пижонской маечке, как накануне, а в черном костюме, белой рубашке, выделяясь из толпы закончивших рабочий день клерков лишь буддистской синевой черепа и сумасшедшими осмысленными глазами. Тину всегда привлекала обнаженная натура, по преимуществу женская. Не просто женская и не просто обнаженная, но, опять же, по преимуществу ей самой родственная, с ее собственной схожая (и совсем не схожая с той, что влекла и пленяла Франтишека Дртикола, великого чешского фотографа эпохи ар-деко…); выставка, на которую попал Виктор, демонстрировала миру десять или пятнадцать (я точно не знаю сколько, но знаю, что немного; зал был маленький, а фотографии очень большие) очень больших (метр на полтора или полтора метра на два) черно-белых фотографий обнаженных рубенсовских красавиц (или не совсем красавиц, или даже совсем не красавиц, но точно рубенсовских или, скажем, кустодиевских), помещенных в пейзаж или снятых в студии, повернутых к зрителю или смотрящих на далекие облака, лежащих на садовой скамейке или отраженных в полуотворенной зеркальной дверце старого платяного шкафа; Виктор, поднявшись по длинной, как будто сужавшейся лестнице на второй этаж, где был поделенный на две части зал, предоставляемый банком для выставок того и сего (франкфуртские банки дорожат реноме меценатов), оказался в вернисажной толпе, шатавшейся с бокалами шампанского, или апельсинового сока, или (по немецкой привычке наливать разные жидкости в одну емкость) шампанского, смешанного с соком, от одной фотографии к другой, в той бессмысленной экзальтации, в которой обычно пребывает такая толпа, в экстазе лицемерных приветствий и фальшивых объятий, помноженном на тайное возбуждение, испытываемое большинством мужчин и частью женщин при виде Тининых фотографий; сама Тина, в то время сорокалетняя, то есть в сущности еще молодая, красивая от собственного успеха, в черном, по обыкновению, платье с глубоким вырезом, в черных же крупных бусах на полной и белой шее, с медно-рыжими, за ночь выкрашенными (но этого Виктор, скорее всего, не понял), распущенными по плечам волосами и, в свою очередь, с бокалом апельсинового шампанского в крепкой руке, появилась из-за разделявшего зал на две части выступа, еще заканчивая разговор с кем-то, оставшимся сзади в толпе, договаривая, досмеиваясь, домахивая на прощанье левой рукою, к Виктору вполоборота, и когда повернулась к нему всем корпусом, узнавая его, что-то прямо царственное было в этом движении, в этом повороте бюста и головы, а вместе с тем это выглядело так, словно она подавала ему бокал с апельсиновым шампанским, который несла по-прежнему перед собою, так что он, растерявшись, в свою очередь протянул руку к этому бокалу, тут же, еще больше смутившись, ее опустил, на что она, Тина, смутившись тоже, но с ласковой, счастливой усмешкой, со своим, столь ей свойственным, коротким, всепонимающим и потому прощающим все смешком сказала ему, что это ее бокал, но что вон там, на подносе, стоят другие, сколько угодно. Он был снова один в толпе, наедине с ее фотографиями, этими десятью (или все же пятнадцатью) обнаженными (или почти обнаженными) женщинами, совсем не Тинами, но на Тину отчасти похожими, преображенными черно-белою съемкой, неожиданностью и разнообразием ракурсов, игрою света и тени; женщинами, благодаря этой съемке уравненными в правах с ландшафтом и обстановкой, с облаками и ветками деревьев в саду; снятыми с любовью и если, например, улыбающимися, то улыбающимися так, как будто они тоже думают о любви и о счастье. А он никогда не думал, что его могут волновать такие женщины. Весь его не очень, как я понимаю, богатый эротический опыт связан был со случайными сверстницами; сокурсницами; с одной из этих сокурсниц (Мариной по имени) тянулся у него со второго по четвертый курс скучнейший роман; в начале пятого девушка вышла замуж (по соображениям карьерно-коммерческим); Виктор вскорости уехал в Германию; в Эйхштетте жил, продолжаю думать, анахоретом. Ни разу, никогда в жизни, признавался он мне впоследствии, не приходило ему в голову, что такие женщины, с такими формами и так очевидно старше его самого, могут вызвать в нем такое волнение, такое смятение. Он вышел на улицу, где с бокалом в одной (от этих бокалов никуда нам не деться) и сигаретой в другой руке стояли курильщики; вдохнул вечерний воздух с привкусом табачного дыма, выхлопных газов, резко-сладких духов, излучаемых, вместе с табачным дымом, сухой и чем-то недовольною дамой, курившей у самого входа; помедлил; удивляясь себе, пошел опять вверх по лестнице. Заговорить с Тиной ему в тот вечер не удалось: ей было не до него или ему не хватило смелости; возвращаясь домой, проклиная свое заикание, долго стоял он на мосту через Майн, глядя на небоскребы, на воду, огни, отраженные в ней, легкие облака в ночном небе, и прежде чем заснуть, два раза по двадцать пять минут просидел на черной подушке, в осязаемой тишине, стараясь сосредоточиться на своем коане, нащупывая в себе самом что-то другое, ему еще не понятное.
Начало романа
Назавтра он позвонил ей и, очень сильно заикаясь – заикаясь так по-немецки, как обычно заикался по-русски, – сумел сказать, что ее фотографии произвели на него впечатление необыкновенное, что он прямо влюбился в них – формулировка, им заранее найденная, – прямо влюбился в них, в фотографии, и был бы счастлив увидеть еще… еще… тут он сбился… еще какие-нибудь другие, да, фотографии, фотографии, да, другие какие-нибудь, которых еще не… не видел он… и увидеть ее саму, Тину, да, вот, вот так. Она была удивлена. Она ничего подобного от него не ожидала, вообще о нем и не думала. Она сразу поняла, что не в фотографиях тут дело. Ей это польстило и ее позабавило. Как-никак ей было сорок, ему – она не знала сколько, но явно меньше тридцати (ему было двадцать шесть в том году). Он был для нее мальчишка. Все-таки она сперва повернулась к нему своей неприступною стороною. У нее будут еще выставки, сообщила она равнодушным голосом, про себя улыбаясь. Когда? Ну, когда-нибудь… Долго ждать, произнес он в трубку, понимая, что уже все равно, все потеряно. О‘кей, что ж, заходите при случае, kommen Sie mal vorbei (что тоже звучало отнюдь не как приглашение). Они договорились, однако, о встрече, которую два раза переносила она, вовсе не потому, что хотела ее перенести или вообще отменить, наоборот: чем больше она думала о Викторе, тем больше ей хотелось снова увидеть его безумные осмысленные глаза, но потому что так складывались обстоятельства, оба раза ей нужно было ехать на срочную съемку для денег, и уже он, Виктор, не верил, что они вообще встретятся, и, скорее всего, не перезвонил бы ей; на сей раз она сама ему позвонила. Получилось так, что теперь она зовет его к ней зайти. Они это оба почувствовали, да так это, в общем, и было. Поэтому она очень была смущена в тот вечер, когда он дошел до нее; сильнее была смущена, чем если бы не было этих двух несостоявшихся встреч, звонков, извинений, новых попыток найти подходящее обоим время; смущение, которое он мог толковать в свою пользу, или она думала, что он может его так толковать, отчего это смущение только усиливалось. В сущности, он теперь чувствовал себя уверенней, чем она. Он отказался от кофе, сока у нее не было; дело кончилось водой из-под крана. Они оба мне рассказывали потом, что когда он посмотрел фотографии, развешанные по стенам, и фотографии отпечатанные, в больших папках, – фотографии, среди которых тоже немало было обнаженной натуры, Тине близкой и родственной, то есть этих, еще раз, рубенсовских (или, если угодно, кустодиевских) красавиц со всем их изобилием плоти, тайнами этой плоти, преображенной светом и ракурсом, но была и совсем другая натура, другие мотивы, пейзажи – пейзажи, к примеру, индустриальные: заброшенные заводы с провалами черных окон, бетонные, друг за друга загибающиеся развязки автострад под облаками, тоже как будто бетонными, щебеночные карьеры и камнедробильные установки, доменные печи и шатровые копры над шахтами, которые Тина начала снимать еще в пору своей учебы в дюссельдорфской Академии художеств, у Гиллы и Бернда Бехеров (о которых, как не трудно догадаться, Виктор и слыхом не слыхивал) – оба они мне рассказывали, что в тот первый вечер, когда он выпил воды и посмотрел фотографии (на которых и рубенсовские красавицы, и забытые миром газгольдеры восхитили его не совсем одинаково, но в одинаковой степени), довольно долго говорили они обо мне; просто потому, что больше не о ком было им говорить; сидя рядом с нею вот на этом кожаном диване, на котором лежал я после встречи с пражскою галеристкой, Виктор, иногда заикаясь, рассказал ей, в общем, все ему обо мне известное (а известно ему было немногое, и ни моих стихов, только тогда начинавшихся, ни моего в ту пору единственного романа, с его скрытыми дзен-буддистскими мотивами и аллюзиями, он еще не читал); и, значит, я незримо присутствовал, сам того не подозревая, при этом первом их рандеву. Оно могло стать и последним. То есть он просто не знал, как договориться о следующем. Тина, с видом деловой женщины, уже в прихожей, извлекши откуда-то календарь, сообщила Виктору намеренно равнодушным голосом, глядя в его страдальческие, необыкновенные, безумно-осмысленные глаза, что в ближайшие дни она занята, и завтра занята, и послезавтра, и после-после-завтра, но что, вот, в воскресенье у нее будет время поехать куда-нибудь просто так, поснимать что-нибудь, поехать, например и если будет хорошая погода, на Рейн, да, прокатиться вдоль Рейна, и что если он хочет…
Каменоломня
Она не собиралась говорить ничего подобного (из-за полуотворенной двери рассказывала мне Тина) и уж точно не собиралась ни в какое воскресенье ехать просто так кататься вдоль Рейна и даже фотографировать там, на Рейне, что бы то ни было, во всяком случае, в его самой туристической, самой, прости господи, романтической части между Майнцем и Кобленцом (а именно этот отрезок реки, с его замками, его скалами, его винодельческими городками, увиделся ей внутренним зрением, когда произносила она, для себя самой неожиданно, деловым голосом, фальшиво перелистывая календарик, эту фразу в прихожей); оставшись одна и продолжая изумляться себе, подошла к окну гостиной (где только что сидели они вдвоем на кожаном черном диване, и недопитый им стакан с водой из-под крана стоял на журнальном столике, и свет дробился в этой воде) и, глядя на соседний с ее домом зеркальнооконный небоскребик, на бюст Боливара внизу, спросила у Боливара и у себя, что это значит и почему вдруг на Рейн, по Рейну; догадавшись почему, почувствовала, что у нее горят и краснеют щеки; рассмеялась и рассердилась; и когда заехала за ним в Заксенгаузен (через сколько-то дней, на своем пижонском оранжевом «Гольфе» с откидной крышей), и они вернулись по воскресным пустым улицам все в тот же Вестенд, и выехали на висбаденскую автостраду, Тина, следя за дорогой, все продолжала себе самой удивляться и на себя же саму сердиться, и вновь чувствовала, что у нее горят щеки и портится настроение, и не уступающие дорогу другие машины действуют ей на нервы, и какого черта вообще затеяла она все это, какого черта едет на этот Рейн, где со школы, кажется, не бывала, с молодым русским, незнакомым ей и ненужным, и лучше бы все это уже закончилось поскорее. Сперва, от смущения, ни о чем не говорили они; потом говорили о банальном и постороннем, о том, как она, Тина, всегда хотела побывать в Петербурге и какой это, говорят, прекрасный город, и в Москве тоже побывать она бы хотела, а еще больше хотела бы проехать по Транссибирской магистрали – мечта всех немцев, – и неужели он, Виктор, никогда не ездил по Транссибирской магистрали, и даже никогда не бывал в Сибири, не видел Байкала, быть того не может; еще говорили о том, что Виктор машину, увы, не водит, просто никогда не было у него ни машины, ни возможности водить ее, но что теперь он собирается записаться в автомобильную школу и что автомобильная школа есть в соседнем с ним доме, и что, наконец, у него есть деньги на это, хуже со временем… Рейн, между тем, появился, автострада обернулась обыкновенной дорогой – между холмами с одной, рекой и ветлами с другой стороны. Были узенькие необитаемые острова на реке; закончились и они; Рейн открылся им во всей своей мерцающей широте. Но остановиться было негде; машины шли сплошным потоком и в ту, и в другую сторону; и по узенькой дорожке, зажатой между рекой и шоссе, шли и в ту, и в другую сторону спортивные пары, совершавшие свой воскресный променад, и ехали велосипеды, наезжавшие на гуляющих, и даже глядя на них из машины, становилось за них обидно, и непонятно было, какое удовольствие получают все они от прогулки в такой тесноте, таком грохоте, в такой военной, или тюремной, однозначности своего движения (шаг вправо, шаг влево – не побег, но шаг ни влево, ни вправо вообще невозможен…); и хотя Виктор с удовольствием смотрел на реку, мерцание реки и радовался этой поездке в места ему до сих пор не знакомые, на велосипеде недостижимые для него, и еще больше радовался Тининой близости в тесном «Гольфе», взволнован был этой близостью, запахом ее прохладных духов, и глядя на реку, в то же время глядел на нее, сердито следившую за дорогой, и в этом мерцанье воды, мельканье велосипедов, ветел, пирамидальных, высоко в небо взлетающих тополей ее лицо, в профиль, было совсем не таким, каким было во Франкфурте, сердитым, но как-то по-детски сердитым, то есть неожиданно детским, беззащитным лицом, и ему это нравилось, его это трогало, – и все же он не понимал, что происходит и на что она сердится, и потому был еще более смущен и растерян; и в Рюдесгейме, до которого они дотащились, были сплошные праздные толпы, бродившие от одного переполненного ресторана к другому переполненному кафе, и в крошечных магазинчиках продавали местное вино, разрисованные кружки, раскрашенные тарелочки – весь набор туристских банальностей, и так переполнен был узенький городочек, что Тина даже не сумела поставить машину, развернулась и поехала в обратную сторону в надежде, что где-нибудь освободится место для парковки, и развернулась еще раз, но места все не было, и они просто поехали дальше, так и не посидев в кафе и кофе не выпив; и после Рюдесгейма стало посвободнее на дороге, хотя долина реки еще более сузилась; появились первые скалы, первые замки на скалах; появился, исчез напротив Бингена, на впадении в Рейн реки Нае (Nahe) – чуть дальше за этим впадением – знаменитый островок со сторожевою башнею; и в теплом осеннем свете так покойно и мирно желтели виноградники на холмах; их ровные, вверх убегающие гряды казались Виктору, со счастливой улыбкой на них смотревшему, длинными строчками какого-то к нему обращенного послания, простого, стройного, ясного; но еще Тина продолжала сердиться на себя, удивляться себе, и банальность всего этого, этого разговора о Транссибирской магистрали, этого лакированного, туристского, из путеводителя и с открытки перенесенного в действительность Рейна (что есть действительность?) – банальность всего этого, помноженная на школьные воспоминания, оставалась для нее почти оскорбительной; и если бы дорога не была перекрыта и не был указателями обозначен объезд, то, вполне возможно, роман их закончился бы, не начавшись; но дорога, по счастью, была перекрыта, объезд обозначен. Объезд увел их наверх, в горы, в места довольно пустынные, совсем не похожие на долину Рейна, оставшуюся внизу. Когда же свернули они еще куда-то в сторону, чтобы уже совсем оторваться от всяких других машин, то очутились в местах пустыннейших, прямо диких, где только вдали, на холмах, появлялись, затем исчезали красные крыши, белые колокольни безымянных, затерянных в распахнутой пустоте деревень, а затем шли поля, и снова поля, ровной желтизною переливавшиеся на солнце, и зеленеющие холмы, и редкие, в красных пятнах, раскрашенные осенью рощицы, и большие, вихрастые, посредине темные и по краям светящиеся облака, неподвижно стоявшие над этими рощами и полями. За одной из рощиц, с дороги почти невидимая, но Тиной увиденная, обнаружилась каменоломня, к которой, лихо затормозив, подъехала она по щебенке, зашебуршавшей под шинами. Каменоломня казалась заброшенной, хотя внизу, в глубине небольшого оврага, куда спускалась она уступами, виден был рыжий, с квадратными окошками, вагончик для рабочих и рядом с ним большие многогранные камни. Тина сперва фотографировала сверху и без штатива, потом сказала, что ей надо запомнить это место и приехать сюда поснимать спокойно и в одиночестве: она любит такие места, особенные места. Виктор ответил на это, что никуда не торопится. Она на это ответила своим всепонимающим (всепрощающим) коротким смешком, уже на выставке покорившим его. Они стали спускаться по разъезжавшимся под ногами камням. Спускаться было трудно. Он дал ей руку и повел он, бережно, по едва намеченной, по осыпи наискось уходящей тропинке. Едва не упала она на него, соскальзывая с большого плоского камня, попавшегося среди мелких и сыпучих камней. Он удержал ее правой рукой и всем корпусом, в левой руке удерживая штатив. Он почувствовал тяжесть ее тела, и это возбудило его. Находя равновесие, она посмотрела на него удивленным и благодарным взглядом, сдающимся взглядом. Это было все же только мгновение. Он сел на один из камней у заколоченного вагончика, наблюдая за нею. Она устанавливала штатив и крутила колесики камеры с лицом ребенка, получившего, наконец, ту игрушку, к которой он так долго тянулся. Пару раз она обернулась к нему с этим лицом, улыбнулась ему; потом опять сосредоточилась на своей съемке. Он видел в ее жестах, глазах и действиях то отрешенное внимание, которое так хорошо знал по дза-дзену. К дза-дзену он и обратился, к коану. Он начал считать свое дыхание, от одного до десяти, погружаясь в самадхи, а в то же время не переставал наблюдать за нею, даже улыбаться в ответ ей. На ней были те же черные джинсы и тот же черный открытый свитер, как в кронбергской электричке, был не черный, но темно-синий, до колен, плащ, не знакомый ему, который сняла она, как будто он мешал ей фотографировать, положила на ступеньки вагончика. Явно мешали ей волосы, как во время вернисажа, распущенные, и такие же рыжие, с несмытою краскою; она их не собирала в пучок на затылке, но каждый раз, припадая к камере, откидывала назад осторожным и в то же время каким-то насмешливым движением руки, отчего рукав свитера сползал к локтю, обнажая крепкое запястье и собственно руку: круглую, полную, белую. Что-то было трогательное в этом движении. Он почувствовал, что влюбляется в нее, вот сейчас, в этой заброшенной каменоломне; то есть влюбляется в нее саму, не просто в этот тип женщины, к которому испытывал такое для него самого неожиданное влечение, даже почувствовал ту умиленную печаль, которая неотделима, наверное, от влюбленности. Настоящий дзен-буддист сидит всегда, никогда не встает. Он чувствовал все это и удивлялся тому, что чувствовал, а в то же время продолжал решать свой коан, что бы сие ни значило, и мне очень хочется верить, что это был один из моих любимых коанов, который (это я знаю) он решал в то время и в самом деле (но, кажется, лишь два или три года спустя) решил (что бы сие, еще и еще раз, ни значило), тот коан, в котором ученику предлагается показать (но вот именно: как показать?) учителю свое истинное лицо, подлинное лицо, лицо, уже бывшее его лицом до знакомства друг с другом его папы и мамы, даже до рождения этих мамы и папы. Она бросила снимать камни и, спросив у него позволения, стала снимать его, Виктора: сделала один снимок, второй и третий (первый, второй и третий из бесчисленных Викторовых фотографий, сделанных ею за время их близости); ей не просто понравилось, но почти ее, тоже, тронуло, как он легко согласился и как спокойно, не рисуясь и не позируя, сидел под ее объективом, так сидел, расставив ноги и сложив руки в буддистскую мудру, как если бы он был просто частью пейзажа, камнем среди прочих камней, отвечавшим на ее взгляды и смущенно, печально и весело улыбавшимся в ответ ей, но не стремившимся предстать перед нею в каком-то ином образе, облике, как бессознательно стремятся почти все люди и как никогда не стремятся камни, деревья и облака. В совершенной тишине этой заброшенной каменоломни, где слышно было только сухое потрескивание мелких камушков у нее под ногами да изредка далекий шум ветра в раскрашенной, бурой и багряной роще над ними, он смотрел на нее прочищенными коаном глазами, свободный, пусть на миг, от желаний, стремлений и скорби, впуская в себя покой этого остановившегося мгновения, застывшего времени, этих вихрастых, сверкающе-темных, неподвижно-изменчивых облаков над оврагом и рощей, и чем дольше все это длилось, тем сильнее в нее влюблялся, как если бы та любовь и жалость ко всему, что есть на земле и под небом, которые, бывало, так остро и отчетливо испытывал он во время дза-дзена, просто-напросто перешли на нее, Тину, продолжавшую щелкать камерой и менять объективы, или так, может быть, как если бы, разгадывая свой коан, ища и не находя свое подлинное, до встречи и даже до рождения родителей уже бывшее и, значит, не рожденное, от века данное ему лицо, он вдруг разглядел ее лицо, подлинное, данное ей от века, то скрывавшееся за фотокамерой, за волосами, то вновь из-за камеры и волос возникавшее перед ним.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































