Текст книги "Остановленный мир"
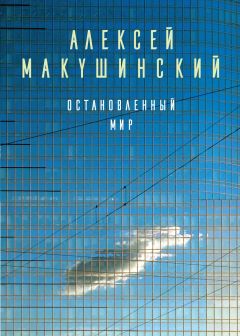
Автор книги: Алексей Макушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Siberia
Он слышал такую историю о японских пленных во время Второй мировой войны, где-то… где-то в Сибири, не совсем уверенно говорил Боб, ища меня глазами, я помню, как будто ожидая от меня подтверждения, что есть такое место на свете – Сибирь, – о японских военнопленных, с которыми, конечно, очень плохо обращались там, в этой Сибири, in this Siberia, которых, например, заставляли таскать какие-то особенно тяжелые бревна, на очень сильном морозе… в Siberia вообще холодно, как все вы знаете… и не просто таскать, но охранники, guards, заставляли их утром перетаскивать бревна с одного места на другое, через дорогу, а вечером тащить обратно; их, значит, мучили не только физически, но и морально, их пытались унизить, убить в них последние остатки достоинства. Ничто ведь так не унижает человека, как тяжелый и при этом бессмысленный физический труд. Одного не знали изобретательные охранники – что среди этих военнопленных был буддистский монах, даже не просто монах, а буддистский учитель, роси. И этот роси сказал им примерно то же, что я вам говорил сегодня, со смущенной улыбкой сообщил Боб, то есть сказал им, что есть относительный и есть абсолютный аспект вещей и событий и что в абсолютном аспекте, с точки зрения нашей Подлинной Природы, или Природы Будды, или Высшего Пути, дао, или как бы мы ни назвали это, наши действия и поступки не являются ни хорошими, ни плохими, ни приятными, ни неприятными, ни осмысленными, ни бессмысленными, но они просто таковы, каковы они есть, они всегда совершенны и правильны в своей таковости (suchness), своей этости (itness). А значит, и таскание бревен с одного места на другое не может ни унизить, ни морально сломить военнопленного, а надо просто таскать эти бревна, ни на что не отвлекаясь, без всякой внутренней оговорки, таскать их в полной сосредоточенности на том, что ты делаешь, на своем здесь-и-сейчас, в медитативном молчании, как если бы это было главное дело всей твоей жизни. А ведь речь для них и шла о жизни и смерти. И как нетрудно догадаться, их довольно скоро избавили от этой работы. Они стали так ее делать, как будто она доставляла им удовольствие, да она и вправду, может быть, доставляла им теперь удовольствие; а доставлять удовольствие японским военнопленным совсем не входило в задачи их сибирских охранников, Siberian guards. Он не знает, было так или нет, говорил Боб, он никогда не был ни в плену, ни на войне, ни в тюрьме, но что он твердо знает и в чем много раз убеждался, так это в том, что даже самая неприятная, тяжелая, грязная, утомительная работа – мытье туалетов или заполнение налоговой декларации, – а второе, как всем нам хорошо известно (к молчаливому восторгу дзенских адептов объявил Боб), гораздо противнее первого, – любая такая работа перестает быть тяжелой, грязной и утомительной, если делать ее, забыв о себе, о своем маленьком я, всегда кричащем: не хочу, не могу, ненавижу, хочу гулять, хочу смотреть телевизор…
Сэнь-цянь и Чжао-чжоу
Сейчас вы зададите мне дзенский вопрос, говорил Боб, окатывая нас сиянием своих глаз (хотя никто не собирался задавать ему и не решился бы задать ему никакого дзенского вопроса), сейчас вы зададите мне классически каверзный дзенский вопрос (продолжал Боб настаивать): где же разница между тем и другим, между относительным и абсолютным, есть ли вообще эта разница? Ведь пустота есть форма и форма есть пустота, говорит «Сутра сердца». Пустота есть форма, форма есть пустота, нирвана есть сансара, и сансара есть нирвана. Нет и не может быть никакого такого абсолютного аспекта вещей, оторванного от их относительного аспекта. Различие в нашем восприятии, в нашем видении, вот и все тут. Когда мы погружены в сансару, в дукху, в беспокойную неудовлетворенность, вовлечены в нее и потеряны в ней, мы видим только относительное, хорошее и плохое, приятное и противное. Но стоит нам хоть чуть-чуть отстраниться и успокоиться, сосчитать до десяти свои выдохи и сосредоточиться на Пустоте, как тут же понимаем мы, что все правильно, что это лишь наше маленькое иллюзорное я страдает и сравнивает, сравнивает, потому и страдает. Одной случайной мысли достаточно, чтобы превратить нас в обыкновенных людей, говорит Шестой патриарх, но и одной просветленной мысли довольно, чтобы из обыкновенного человека сделать Будду. Абсолютный мир не где-то там, за облаками, но это все тот же мир, в котором мы живем, вот это дзен-до, эти подушки, эти болящие ноги, это сейчас. Мы не соглашаемся с этим; мы хотим, чтобы такой абсолютный мир – где-то там – был; чтобы существовало – а мы бы к нему стремились – абсолютное состояние ума, в котором уже нет ничего случайного, никаких посторонних мыслей, только чистое небо самадхи… Это напоминает ему второй коан в «Гекиганроку», по-китайски «Би Янь лу», говорил Боб, очень важный коан, не случайно идет он сразу после первого, того самого, где Бодхидхарма сообщает изумленному императору, что есть лишь открытый простор, ничего святого, и что он сам, Бодхидхарма, не знает, кто он такой. В этом втором коане появляется в первый раз Чжао-чжоу (Дзёсю), всем вам памятный своим знаменитым му! своим нет, не имеет, говорил Боб с неожиданно-иронической, но по-прежнему светлой улыбкой (из которой мог заключить я, что среди молчавших и слушавших немало было таких, кто – уже годами, быть может, – мучился этим му!..); Чжао-чжоу, который много раз появляется и в «Мумонкане», и в «Гекиганроку», и появляясь, часто и охотно цитирует слова Сэнь-цяня о выборе и отказе от выбора. Мы здесь видим уже старого Чжао-чжоу, говорил Боб, показывая рукою куда-то в сторону узкого окошка, как будто предлагая присутствующим увидеть этого старого Чжао-чжоу, появившегося среди нас, возле окошка в углу. Все посмотрели; никого не увидели. Высший путь не труден, обращаясь к собранию монахов, провозглашает учитель, надо лишь от выбора отказаться. А стоит заговорить об этом, так сразу с одной стороны – выбор, с другой – безоблачная ясность. Этот старый монах, говорит о себе Чжао-чжоу, в безоблачной ясности вовсе не пребывает, но вы-то о ней заботитесь, ее храните и бережете, не так ли? На это один из учеников отвечает вопросом: если вы, учитель, в безоблачной ясности не пребываете, то о чем тогда заботитесь? что храните и бережете? – Не знаю и этого, отвечает Чжао-чжоу. – Если не знаете, спрашивает монах, то как можете утверждать, что не пребываете в безоблачной ясности? – Довольно вопросов, говорит Чжао-чжоу, сделай свой поклон и уходи… Боб засмеялся вдруг дробным, добрым, наивным смехом, словно сам впервые услышал этот ответ Чжао-чжоу, о котором не раз, наверное, говорил со своими легендарными японскими учителями. Этот старый монах в безоблачной ясности вовсе не пребывает… Звучит как самоуничижение, а на самом деле наоборот. Я-то понимаю, говорит Чжао-чжоу, что нет никакой безоблачной ясности, отдельной от выбора и страдания, что нет никакого абсолютного состояния ума без всяких случайных мыслей. Я это понимаю; а вы понимаете ли? Или все еще стремитесь к чистому небу без единого облачка? Он провоцирует своих монахов; один из них и поддается на провокацию. Если вы, учитель, в безоблачной ясности не пребываете, то о чем тогда заботитесь? что храните и бережете? То есть о чем вообще речь? Ради чего все это? Зачем вы здесь? и зачем мы все здесь? Это очень правильный, логичный и разумный вопрос. Ну в самом деле, зачем мы все здесь, если не ради безоблачной ясности, свободы и просветления? Что же отвечает ему Чжао-чжоу? Я не знаю, отвечает он. Ничего не знаю, не знаю и этого. Это надо представить себе, говорил Боб. Чжао-чжоу к тому времени уже очень старый, очень знаменитый и уважаемый учитель, окруженный множеством монахов. И он отвечает: не знаю. Это страшный ответ, великолепный ответ. Это не менее страшный ответ, чем половая тряпка, или кипарис во дворе, или удар палкой, как, наверное, ударил бы монаха Линь-цзы. И это ответ Бодхидхармы. Вы все помните, что отвечает Бодхидхарма благочестивому, изумленному императору. Кто это стоит сейчас передо мной? – Я не знаю. Так и Чжао-чжоу отвечает: не знаю. Здесь разговор, в сущности, окончен, сказать уже нечего, здесь с монахом могло бы произойти сатори. Но сатори не происходит, разводя руками и как бы извиняясь за недотепу-монаха сообщил Боб, монах остается в маленьком мирке своих понятий и слов. Если не знаете, то как можете утверждать, что не пребываете в безоблачной ясности? Как вообще вы можете утверждать что бы то ни было? Тут уже Чжао-чжоу видит, что толку на этот раз не добьешься. Вопросы задавать ты мастер, говорит он монаху, а дело-то совсем не в вопросах. Поговорили – и будет. Что ж, и мы скажем: будет, поговорили.
Бирманская поза
Спустя вечность в Вейле-на-Рейне, посреди всех этих воспоминаний, побуждаемый и пробуждаемый ими, я сел, в конце концов, не зажигая света, на уже не бугристой, но, под занавес, скалистой и гористой кровати, на подушку, вовсе не для того предназначенную, в так называемую бирманскую позу; сложил руки в дзен-буддистскую мудру и потом уже до самого утра то ложился, то опять начинал сидеть в дза-дзене, не пытаясь считать свои выдохи, но просто всматриваясь в прошедшее, раз уж оно решило вдруг ко мне возвратиться… Эта бирманская поза (голень одной ноги лежит параллельно другой, пятки смотрят, по возможности, вверх) – самая простая из еще приемлемых с дзенской точки зрения позиций; более продвинутые адепты предпочитают так называемый полулотос (стопа одной ноги лежит на бедре другой); в полном лотосе (с обеими стопами на противоположных бедрах) – королевская дзенская посадка – сидел один Боб; в полном лотосе сидел потом Виктор.
Боль
Боль в ногах – вкус дзен-буддизма, говорил кто-то из великих учителей, не помню кто именно. Ты разглаживаешь руками мат, взбиваешь подушку и принимаешь уже привычное тебе положение; ты ждешь, еще окончательно не застыв, покачиваясь вправо и влево, чтобы ведущий (им каждый день был кто-нибудь другой; никогда не сам Боб) ударил деревянной битой по большой медной миске, стоящей от него справа; вот ударяет он – один раз, второй и третий; и звук этого третьего удара долго-долго, медленно-медленно замирает и вибрирует в воздухе, в сгустившейся, вдруг осязаемой тишине; и теперь ты вправду сидишь, не шевелясь, опустив, но не закрывая глаза; видишь перед собою кусок белой стены, в пупырышках и подтеках; в погожий день видишь квадратное солнечное пятно, повторяющее, затем искажающее, растягивающее форму деревенского узенького окошка; невольно следишь за его перемещениями по стене, по дощатому полу; иногда видишь в этом искаженном квадрате света тень дымка от ароматической палочки, воткнутой в песок возле бронзовой статуи ясноликого Будды (с сомкнутыми в кружочек указательным и большим пальцами правой ладони, поднятой к плечу, повернутой к изнывающим от боли аскетам). Боль приходит – вот она я! – как будто она ждала лишь случая, чтобы показать тебе, кто в твоем теле хозяин; под конец первой двадцатипятиминутки ты и сам уже только ждешь, уже ни о чем другом и думать не можешь, когда же кончится эта пытка, когда смилостивится и ударит ведущий или ведущая (иногда Ирена, зеленоглазая полька, исполняла эту несложную роль) деревянной битой по медной миске и можно будет встать или попробовать встать на онемевшие ноги и пять минут походить в неизменно (с моей непросветленной точки зрения) комическом кинхине по кругу, но эти пять минут быстро заканчиваются, и все снова садятся на свои подушки, ты тоже, и ведущий снова ударяет по миске один раз, другой раз и третий, и звук третьего удара опять вибрирует в воздухе, и ты считаешь свои выдохи, смотришь в стену с подтеками белой краски, и ноги снова немеют и ноют, спина снова болит – а потом перестает вдруг болеть; вдруг замечаешь ты, что не только не ждешь конца, но боишься, не наступит ли он слишком скоро, что хочешь только сидеть и сидеть так, считая свои выдохи, никакой боли не чувствуя, что мог бы всю жизнь просидеть так, в этой неподвижности, этом покое, с этим чувством свободы, и что время опять идет не вперед, но вглубь, по своим, впервые открывающимся тропинкам, что все совершенно, хорошо и прекрасно в своей таковости, своей этости, что ты сам, в своей бирманской позе, совершенен, хорош и прекрасен, что ты сидишь правильно, прямо, между землей и небом, один в вечности, Будда, и когда ведущий ударяет в очередной раз, через двадцать пять бесконечных, но все же слишком скорых минут, своей битой по миске, встаешь с сожалением, со вздохом; и только вставая, вновь чувствуешь, как страшно онемели ноги, как чудовищно ноет спина.
Удар палкой
Иногда Боб ходил по кругу, за спинами у сидящих, с деревянной плоской палкой (киосаку) в руке. Он не бил этой палкой кого и куда ни попадя, как это (читал я) бывает в некоторых (риндзайских) монастырях, но останавливался у тебя за спиной в ожидании, что ты сделаешь традиционный поклон со сложенными перед грудью – ладонь к ладони – руками; если ты делал его (а я всегда делал), тогда, еще подождав, чтобы ты распрямился, он примеривался, легким касанием намечал место, куда бить, и затем наносил резкий, короткий, с быстрым присвистом, удар по левому, затем, вновь примерившись, по правому плечу палкой, примерно там, где заканчивается ключица, чуть ближе к шее, удар, причинявший мгновенную, блаженную боль. Я пробуждался от этой боли. Я не спал, быть может, и раньше. Но все-таки я пробуждался – не ото сна, а от предыдущего бодрствования, теперь казавшегося дремотным и вялым. Таким сильным было это чувство пробуждения, что восторг меня вдруг охватывал. Один в вечности, Будда… Я знал, что дело не в этом восторге, что и он пройдет, как проходят все чувства, все мысли. Они и должны пройти во мне, прейти во мне, как облака по небу, как волны и рябь по воде, как отражения и отблески по поверхности того зеркала, которое оттирал я от пыли. Неважно, есть они или нет; пускай набегают эти волны, пускай тают эти легкие облака; важно не терять связи с тем, что за ними, под ними, с этой чистотой, пустотой, этим зеркалом, небом и океаном. Они проходили, они появлялись вновь. В этом глубоком покое мысли, ко мне приходившие, казались необыкновенными, важными, очень значительными. Каждая была как отдельное, белоснежное, скульптурное облако, во всех завитках и подробностях освещенное солнцем. Они не наплывали друг на друга, не сливались друг с другом. Я повелевал ими, я мог ускорить, замедлить их течение, их движение по небу. Мог отказаться от них от всех, оставить только небо, синеву, чистоту. Опьянение трезвостью, вакханалия ясности… Я был, наконец, свободен. Долго это не длилось. Появлялось одно облачко, другое и третье, каждое само по себе. Наши лучшие мысли приходят к нам не тогда, когда мы их призываем, а совсем наоборот – когда мы их не ждем, не зовем, когда мы говорим им: не приходите, когда пытаемся сосредоточиться на том, что за ними, на океане и зеркале. Вот тогда-то они и приходят к нам, по своей, не по нашей воле, вопреки нам самим. Мы по-настоящему начинаем мыслить, когда мыслить перестаем (думал я; и эта мысль тоже казалась необыкновенной, скульптурно-солнечной, очень важной). Чтобы начать мыслить, надо перестать мыслить (я думал). Мы боимся перестать мыслить, отпустить свои мысли. Мы боимся превратиться в чурбан (думал я – и смеялся; вдруг видел – большой, весь в зарубках от топора, с облезающею корою чурбан, на даче где-нибудь, вечность назад; слышал запах дерева и опилок; видел, как по своим делам, по опилкам бегут куда-то рыжие милые муравьишки). Я вправду бывал очень счастлив: сквозь боль в ногах, на черной подушке. Мы не превратимся в чурбан, если отпустим наши мысли (я думал). Да это и не наши мысли (думал я далее). Это не мы мыслим, но это мыслит наша дукха, наше вечное недовольство, наша тревога, наши заботы, наши несбывшиеся надежды, неисполненные желания, утраченные или еще не совсем утраченные иллюзии, наше плохое или хорошее настроение, наша мигрень, наша боль в ногах, наше несварение желудка, наши мечты о любви, наша усталость, наша печаль и наше отчаяние. Когда все они, наконец, заткнутся, тогда мы сможем заговорить. Тогда наше внутреннее, наше подлинное я выходит на сцену. Значит, обычное я неподлинное? Значит, это лишь темный деспот с его вечно волящей волей? его вечным недовольством и всегдашней тревогой? Но где разница? где проходит граница между одним и другим? как отличить одно от другого? как отделить меня настоящего от темного деспота, пожирающего меня? Может быть, и нет никакого другого меня, кроме этого темного деспота, который умирает на утренней заре, едва лишь любовь пробуждается? Как же нет, вот я, вот я сижу здесь… Вот я сижу здесь, в бирманской позе, между землей и небом, один в мире и вечности, и дело не в моих мыслях, моих вопросах или моих сомнениях, но в том и только в том, что за ними, в этом безоблачном небе, этой сияющей пустоте. Вот она, вот я вновь ее вижу и чувствую, и все опять хорошо, все так в своей таковости, и я бы всю жизнь хотел сидеть на этой подушке, в этом дзен-до, вдыхать сандаловый запах и прислушиваться к шелесту веток за крошечными деревенскими окнами, и где это читал я недавно, что истинный дзен-буддист должен сидеть всегда, что бы он ни делал, куда бы ни шел, чем бы ни занимался? Внутренне и в глубине души он должен сидеть, сидеть и сидеть, не расставаться с дза-дзеном, не выходить из самадхи…
Ирена
Ирена была (и остается) обладательницей очень зеленых, очень славянских, игриво-искренних глаз и зеленой кофточки (или многих кофточек, всегда и неизменно зеленых), которую (одну из которых) в холодном дзен-до надевала поверх дзенски черного джемпера; говорила она с мягким польским акцентом, при этом на классически правильном, даже каком-то гетевско-шиллеровском немецком; с середины восьмидесятых годов жила (и живет) во Франкфурте, служила (теперь не служит) диспетчером на аэродроме (что, как она потом мне рассказывала, оборачивалось в ее случае повторяющимся кошмаром, в котором не в ту сторону посланные ею самолеты сшибались, сгорали в воздухе, обезумевшими обломками падали на опаленную землю…). Когда сессин закончился и стало можно опять говорить, мы, я помню, сидели с ней на диванчике в той небольшой комнате между прихожею и столовой, где перед отъездом полагалось оставлять на столе деньги для Боба в стыдливом конверте, добровольную дань (по-японски и дзенски называемую – очередное магическое совпадение – дана) и где больше не происходило ничего, никогда. Нам хотелось уйти ото всех остальных, от буддистских адептов, сразу же, как только сессин закончился и обет молчания был снят, пустившихся выбалтывать ту энергию, которая накопилась в них за неделю молчанья, сиденья, выплескивать ее, как использованную воду, в ничтожных – о погоде, о расписании поездов, об общих знакомых, которые на этот сессин не приехали, о причинах, по которым не приехали они, – разговорах; то, что еще получасом ранее было сосредоточением, углублением в себя, вдруг превратилось в подобие вечеринки, в small-talk c коктейлем в руке, хотя никаких коктейлей никто, конечно, не пил, а пили чай, или воду, или (по немецкой привычке наливать разные жидкости в одну емкость) воду, смешанную с апельсиновым соком, или яблочным соком: как если бы (я подумал) все эти или почти все эти люди, только что погибавшие от боли в ногах, в борьбе со своими коанами или со своей пустотой, надели другие маски, другие личины; или лучше, как если бы за кулисами их внутренней драмы всю эту неделю дожидались, томились другие, довольно обычные, личности, другие, непритязательные актеры, вот, получившие, наконец, шанс и возможность проявить себя во всей своей светской красе… Дядька с брюсовскою бородкой, прикативший на хутор с самого севера, оказался начинающим массажистом – в его возрасте смешно уже быть начинающим, сообщал он всем, кто желал его слушать, и он, дядька с бородкой, до последнего времени занимался совсем другим, работал в какой-то кильской конторе, чуть ли не государственной, в городской службе по охране окружающей среды, если не прямо в службе по обеспечению работой всех, кто хочет, и даже тех, кто не хочет трудиться (Umweltamt, Arbeitsamt…), но опротивело ему все это: службу бросил он, с благополучным бытием немецкого чиновника и с обеспеченной старостью распростился, занялся дзен-буддизмом, а поскольку жить ведь надо на что-то, то прошел и курсы массажистов, недавно закончил их, вот, перед началом нового этапа жизни решил сделать сессин, прикатил в Баварию, для него страну экзотическую, невиданную доселе. Не только закончил он массажистские курсы, сообщал брюсовобородый дядька всем прочим буддистам (вовсе слушать его не стремившимся), но и привез с собою из Киля, в своем дряхлом, но вместительном «Пассате» раскладной массажный стол и намерен теперь подарить – он так и выразился и с восторгом повторил выражение: подарить – массаж тому, кто этого пожелает, а он думает, что все пожелают, то есть он даже и представить себе не может, чтобы отказался кто-нибудь от такого подарка после всех испытаний, которым за семь дней подвергли буддисты нервы и мышцы своих страдальческих спин. Никто не спешил, однако, принять его царский подарок; на волю выпущенные светские персонажи предпочитали стояние с соком в руке, болтовню про общих знакомых; кто-то, наконец, согласился.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































