Текст книги "Остановленный мир"
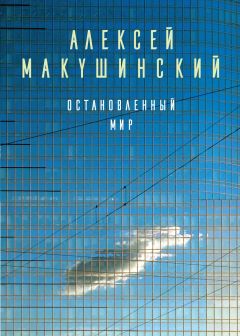
Автор книги: Алексей Макушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Трамвай, кладбище, Д.Т. Судзуки
Мне было двадцать два года, когда я начал читать дзен-буддистские книги; вспоминаю теперь – так отчетливо, как если бы он тоже был зданием, которое можно обойти со всех сторон, снять в разных ракурсах – очень серенький, очень блеклый, с мелким дождичком, петербургский (тогда еще, если угодно, ленинградский) денек (время действия: май, начало мая, предположим, 2 мая 1982 года) и как я стоял на остановке – где-то на Петроградской стороне – в ожидании трамвая, тогда ходившего, с тех пор переставшего, наверное, ходить, в сторону Черной речки и за Черную речку (в смысле за станцию метро «Черная речка»), трамвая (упорно не появлявшегося), на котором я собирался доехать до Серафимовского кладбища, где похоронены мои дедушка, бабушка и няня, где много позже, вечность спустя, мне предстояло похоронить мою маму, о чем, конечно, я и не задумывался в тот майский мокрый денек. Еще вся жизнь была повернута в будущее; но такого будущего, настоящего будущего (да простится мне каламбур) я и представить себе не пытался; ужаснулся бы, если бы вдруг представил его себе. Будущее, в которое повернута была жизнь, было, как оно и естественно для двадцати двух лет, будущим мифологическим, будущим мечты и надежды; тем легким будущим, в котором мы так охотно воображаем себя, в котором все всегда удается, в котором голова не болит, да и обжорство не оборачивается изжогой… Оно тоже, впрочем, на той трамвайной остановке отсутствовало; никаких призрачных разговоров ни с какими бесплотными собеседниками я не вел; ничего никому не рассказывал, не доказывал; ни перед кем не пытался покрасоваться. Я вдруг совпал с самим собой, со своим настоящим (дождем, улицей, булыжником между трамвайными рельсами). Накануне или в тот же день утром у друзей, пускавших меня ночевать, когда я приезжал (что часто делал) из Москвы в Петербург (писать «Ленинград» все же противно), впервые попалось мне переведенное на русский язык неведомым адептом (наверное, с ошибками) и размноженное с классической самиздатовской блеклостью на подпольном ксероксе одно из бесчисленных сочинений Д.Т. Судзуки – даже не знаю теперь, какое именно: «Введение в дзен-буддизм», или «Основы дзен-буддизма», или «Эссе о дзен-буддизме»; как бы ни называлось оно, что-то, опять же классическое, некая убедительная простота и освященная традицией ясность видятся мне в этом – не мною, но за меня сделанном – выборе; знакомство с дзен-буддизмом с чтения Судзуки и должно начинаться; в XX веке в Европе, в Америке и даже за железным занавесом знакомство с дзен-буддизмом ни с чего иного, похоже, начаться и не могло. Не помню, где именно, на какой улице это было, но помню, что улица, по-питерски широкая и прямая, с одной стороны упиралась в громадный доходный дом, неопределенно-бурого, в памяти (или забвении) стершегося цвета, из-за которого (до́ма), обогнув его, и должен был выехать, упорно не выезжал мой трамвай, с другой же – уходила к каким-то деревьям, смутной, бледной и первой листвой зеленеющим в памяти и забвенье, к какой-то воде за ними (может быть, к Карповке, может быть, к Кронверкскому проливу). Был жестяной, проржавевший по краям козырек над парадным ближайшего к остановке дома, козырек, под которым я и прятался от дождя, то почти кончавшегося, то опять принимавшегося сыпать из низких и рваных туч. Что такое Будда? – Старая половая тряпка… Я ем, когда голоден, я сплю, когда устал. – Чем же ты отличаешься от обыкновенных людей? – Я правда ем, когда я голоден, я правда сплю, когда я устал… В тот день, значит, прочитал я свои первые коаны, первые парадоксы, неразрешимые загадки, которые вовсе и не надеялся когда-нибудь разрешить, которые нравились мне сами по себе, просто так. А все ведь вообще просто так. Я вот стою здесь, потому что жду трамвая; но я могу и не садиться в этот трамвай; никто не принуждает меня. На самом деле я просто так здесь стою… Было огромное чувство освобождения от чего-то, что до сих пор томило и теснило меня, от каких-то пут и скреп моей юности, которых я и сам, может быть, дотоле не сознавал, и вместе с тем (как мне уже приходилось писать) чувство какой-то новой связи со всем, что окружало меня в этот миг, в этот день – с этим дождем, этими каплями, падавшими с навеса, с трамвайными рельсами, рваными тучами и мокрой брусчаткой, каких-то новых отношений, в которые, удивляясь, вступал я с вещами и временем. Было, скажу иначе, очень острое, печально-радостное, по сути своей музыкальное ощущение вот этого сейчас, вот этого настоящего мгновения времени, в котором я находился, которое держало меня. Я был в нем и был в нем свободен. А это и было одно из тех особенных, лучших наших мгновений, которые могут длиться довольно долго (полчаса, час…) и которые, выпадая из жизни, столь многое, случается, изменяют в самой этой жизни, что мы вновь и вновь вспоминаем их и через десять лет, и через двадцать, и через тридцать. Трамвай пришел; мгновенье закончилось. Все мгновенья заканчиваются. Не закончилось то, что тогда началось. И даже этот трамвай еще видится, еще помнится мне теперь (в отличие от стольких других трамваев, на которых потом случалось мне в жизни кататься), трамвай, шатавшийся, звеневший и скрежетавший, как все русские трамваи в то время, с еще (или так мне помнится) деревянными обшарпанными сиденьями и широкими косыми полосами дождя, бежавшими по его стеклам. Я не знал, где сходить. Исчезнувшая из памяти женщина, у которой спросил я, где Серафимовское кладбище, не ответила ничего. Ответил пожилой дяденька, в плаще и галстуке, с лицом настолько питерским и, значит, старорежимным, что хочется назвать его пожилым господином, при очевидной невозможности такого определения в рабоче-крестьянском контексте 1982 года. Сходите, сходите, молодой человек, уже сейчас Серафимовское, проговорил он с чуть-чуть, мне помнится, удивленною интонацией. Я сошел и мимо квадратных домиков (они и теперь там), мимо редких, с редкими мокрыми листиками, взвихренных ветром березок дошел до железнодорожного переезда, перед которым безмолвные, в платочках, старушки (они тоже все еще там) продавали кладбищенские цветочки, веночки; прошел мимо памятника погибшим в блокаду; мимо чудной, деревянной и деревенской церкви Серафима Саровского, уже выискивая глазами ту огромную, совсем не белую, от старости заскорузлую березу, по которой всегда находил и нахожу до сих пор нужную мне могилу, большой серый камень, гладкий с одной и утесисто-неотесанный с другой стороны. Все как-то связано в мире (хоть мы и не знаем, как именно); все в мире взаимодействует. А в то же время мир распадается для нас на отдельные, по внешней видимости и по нашему ощущению друг с другом не связанные миры; мы переходим из одного строя чувств и мыслей в другой строй мыслей и чувств внезапно (как ошалевшая страна в эпоху революционных потрясений). Дзен в тот первый день, когда я узнал о нем, звучал для меня как счастливая, радостная, даже веселая, пожалуй, мелодия, совсем неожиданная посреди уже почти привычной серости и мрачности мира; я был пленен парадоксами; пленен возможностью так – с такой иронией, с таким вызовом, с такой беззаботностью, такой бесшабашностью – говорить и думать о вещах важнейших, о надежде и безнадежности, о смысле, бессмысленности и смерти; послать к черту взрослую угрюмую жизнь с ее постылой серьезностью… Ничего общего не имели эти новые чувства, новые мысли с той печалью, тем сознанием невозвратимости, непоправимости всех потерь, которое охватывало (и охватывает) меня всякий раз, когда я стою на этой могиле, перед этим серым камнем с его (тогда) тремя именами (с тех пор прибавились новые; вернее, прибавились сперва временные таблички; затем другой камень, похожий), с именем моей бабушки (Елизаветы Иродионовны Макушинской), датами ее жизни (1898–1972). Десять лет прошло тогда с ее смерти; вечность прошла теперь. Всякий раз, когда я стоял (и стою) здесь, на этом кладбище, под этим всегда низким и тоже, как земля вокруг, плоским небом – небом, самая плоскость которого говорит о близости моря, залива, большой воды – о том же говорит, конечно, и ветер, – всякий (или почти всякий) раз я так сильно и безоглядно думал о моей бабушке, здесь похороненной, что начинал вдруг чувствовать краешком души ее живое присутствие, как если бы она обращалась ко мне откуда-то, – не из этого камня, и не из этой березы, и даже не из этого низкого неба, но совсем из другого – здесь рядом, но все же совсем другого, – в пространстве не находимого места, безместного места, беспространственного пространства, – обращалась ко мне с внезапной, тихой, немыслимой, в языке и словах не нуждавшейся вестью, которую и пытался я поймать, понять, разгадать.
Преувеличенные глаза
Возвращаться в тот же номер, тот же отель было глупостью; не самой страшной, конечно, из сделанных в жизни глупостей, думал я, ворочаясь на бугристой кровати в приавтострадной гостинице в Вейле-на-Рейне, где я заснул – и сразу проснулся, и потом уже не мог заснуть до утра. Я лежал, прислушиваясь к свиристению кондиционера (который в итоге пришлось мне выключить – так нагло дул он мне в ухо); прислушиваясь к равномерно-неравномерному, вдруг взрывавшемуся, затем затихавшему, потом продолжавшемуся на одной ноте шуму автострады за плотным двойным окном; следя за проникавшими в комнату сквозь узкие прорези штор, пробегавшими по стенам и потолку быстрыми, внезапными отблесками автомобильных фар, бросаемыми на этот потолок, эти стены явно не теми машинами, что всю ночь проносились по автостраде, но другими, непонятно какими, кружившими вокруг отеля, в пространстве ночи, по неведомым путям и дорогам; потом опять закрывал глаза, опять пытался заснуть. Я чувствовал это ночное пространство вокруг меня и гостиницы; сознавал – тоже, в сущности, чувствовал – проходящие рядом границы (между Францией и Швейцарией, Швейцарией и Германией); сознавал и чувствовал – видел, внутренним зрением – текущую рядом реку, здесь еще не очень широкую, но уже готовую пересечь пол-Европы; чувствовал, сознавал и видел, короче, эту Европу вокруг меня, Европу, за годы моих странствий (моих Wanderjahre) изъезженную вдоль и поперек, и с востока на запад, и с юга на север, но все же таящую за каждым третьим углом и каждым вторым поворотом что-то новое, еще неизведанное, – так ее видел и чувствовал, как если бы она была одновременно самой собой и своей собственной картой, – картой, по которой легко я двигался, пересекая границы и реки, на восток и на запад, на восток скорей, чем на запад (и чем дальше на восток, тем дальше и глубже во времени), от Базеля сначала на север, во Фрейбург, с которым так много связано в моей жизни, первый германский город, в котором я (в 1988 году) оказался, и дальше через Шварцвальд по горным и безумным дорогам, вьющимся серпантинам, мимо темного озера с комическим названием Титизее и еще дальше, к Боденскому озеру, в Констанц, и оттуда на пароме, по мерцающей в памяти водной глади, на фоне сияющих, тоже в памяти, снежных вершин – в Мерсбург, где на широкой террасе местного замка стояла некогда Аннета Дросте-Гюльсгоф, замечательная поэтесса, глядя, как бушуют и беснуются волны под нею, отдаваясь ветру, распустив волосы и мечтая, в какие приключения пустилась бы, будь она мужчиной, а не женщиной, обреченной только стоять и смотреть… и дальше уже прямой дорогой на Мюнхен, центр всей моей жизни, и от Мюнхена, к примеру, на север, в Эйхштетт, этот крошечный, в долине реки Альтмюль спрятавшийся городишко с крепостью на одном из холмов, резиденциями епископа, зимней и летней, и университетом, единственным в Германии католическим, – городишко, где я впервые оказался осенью 1992 года (через десять – с половиною – лет, следовательно, после того трамвая, того косого дождя), откуда сбежал в 1996-м, куда был вынужден возвратиться в 2001-м, получив там (в помянутом университете) работу, и где познакомился с Виктором М., в июне или июле того же 2001 года, в конце, во всяком случае, летнего семестра 2001 года, поскольку он, Виктор, появился там в конце этого летнего семестра в обществе других, из России, Казахстана, Болгарии или Черногории, периодически прибывавших в эйхштеттскую католическую идиллию соискателей двухгодичной стипендии так называемой Германской Службы Академического Обмена (DAAD), которых (соискателей) мы (сотрудники) должны были допрашивать на предмет наличия или отсутствия у них элементарных исторических знаний, чтобы при наличии таковых они могли начать учебу со следующего (в данном случае зимнего) семестра (то есть с середины октября все того же 2001 года), в противном же случае отправиться восвояси; почему и каким образом попал в это общество Виктор, я, ворочаясь на кровати, не знал; теперь знаю. Я лежал и ворочался, уже почти не пытаясь заснуть, но пытаясь представить себе этого Виктора М., до которого накануне (или еще не совсем накануне… был тот час бессонной ночи, когда сегодня понемногу превращается во вчера) не сумел дозвониться, представить его себе таким, каким впервые увидел, с его тогдашними русско-рязанскими кудрями, которых самих по себе, наверное, было бы недостаточно, чтобы я сразу его запомнил, – точно так же, как я не запомнил (не смог бы вспомнить теперь) почти никого из других соискателей этой стипендии, проходивших предо мною в разные годы (помню одну болгарку с кровавыми ногтями, такими длинными и так ярко накрашенными, что казались не ногтями, но когтями, когтями какого-то мифологического существа, только что вонзавшего их в чью-то истерзанную невинную плоть; ее тоже, впрочем, помню не только из-за этих когтей и ногтей, но и по тому еще, как трогательно пыталась она увильнуть от ответа на наш, опять-таки, вполне невинный вопрос о роли ее родной Болгарии в Первой мировой войне; чем больше она виляла и чем хитрее увиливала, тем яснее становилось нам, что она вообще ничего не знает о Первой мировой войне, то есть вообще ничего, то есть даже не совсем уверена, что была такая война, а уж кто с кем, почему и когда воевал – все это лежало так далеко за пределами ее духовных горизонтов, как если бы речь шла о каких-нибудь войнах в средневековом Китае, средневековой Японии; мы, конечно, никакой стипендии ей не дали). Вопросы о Первой мировой войне вызывали почему-то панику у большинства претендентов; еще бо́льшую панику вызывал наш классический вопрос о различиях между режимами авторитарными и тоталитарными, хотя, уж по крайней мере, аспиранты из Восточной Европы должны были бы знать толк и в том, и в другом. Не помню уже, смог ли Виктор сказать что-то внятное на эти волнующие темы, вообще (еще раз) не запомнил бы его, вероятно, несмотря на рязанские кудри, если бы не его безумные, осмысленные, невыносимые, страдальческие глаза – и не его заикание, резко, хотя для него и мучительно, выделявшее его из общей массы соискателей стипендий, искателей приключений, как оно и всегда выделяло его, признавался он мне впоследствии, из любой группы и массы, любой компании, на любой вечеринке… Он краснел, когда заикался; причем заикался, говоря по-русски, сильней и мучительней, чем по-немецки (как если бы переход на чужой язык, которым в ту пору владел он весьма приблизительно, избавлял его от каких-то давних печалей); кудри его тряслись и вздрагивали при этом. Ему было тогда, если я ничего не путаю, года двадцать три, может быть, двадцать четыре; глаза его уже и в ту далекую пору удерживали, если не прямо приковывали к себе взгляд собеседника, даже экзаменатора, пытавшегося выведать у него что-нибудь о тоталитарных и авторитарных режимах; глаза осмысленные, все-таки сумасшедшие, страдальческие, особенно когда он заикался, и словно преувеличенные (как бывает на старых фотографиях или в старом кино: глаза Мозжухина, думал я, следя за потолочными отсветами, или глаза Зиновьевой-Аннибал на том известном снимке, где она полулежит на кушетке рядом с Вячеславом Ивановым и кажется его, Вячеслава Иванова, и крупнее, и мужественней).
Убежать от себя
Я снова увидел его (то есть, разумеется, Виктора) лишь в октябре, в начале зимнего семестра 2001–2002 года, причем, если память, опять-таки, меня не подводит, на берегу местной речки – Альтмюля, – вдоль которой он бежал в спортивных трусиках и спортивной же майке с лямками – костюм, хотя еще совсем тепло было, уже не очень соответствовавший сезону, зато позволявший оценить его атлетическое сложение, его широкую грудь и сильные, стройные ноги; он улыбнулся извиняющейся улыбкой, слегка, похоже, стыдясь своего наряда, своей наготы. Он сказал, что на днях прилетел из Петербурга и что собирается посещать мои семинары («Бесы и генезис русской революции», еще что-то о земщине и опричнине); да, ответил он на мой вопрос, он бегает каждый день, иногда подолгу, уже много лет (я подумал, что много лет в его возрасте звучит довольно смешно), бегал дома и не видит причин не бегать здесь, добавил он, показывая на окружавшие нас голые холмы, как если бы эти холмы каким-то образом оправдывали и объясняли его бег, вообще имели какое-то отношение к этому бегу. Они же, казалось мне, ни к кому и ни к чему отношения не имели, эти голые холмы вдоль Альтмюля; холмы, начинавшиеся – точней, открывавшиеся в своей наготе, пустоте, – стоило пройти (или, например, пробежать) от университета каких-нибудь пятьсот метров; холмы, с там и сям разбросанными по ним серыми валунами, камнями, в которых виделось мне что-то кельтское – я встречал такие в Ирландии, – что-то мифологическое, друидическое, по ту сторону обжитого мира, бесконечно далекое не только от современности, но – от всякого времени. От себя, впрочем, не убежишь (от с-с-с-себя, впрочем, не у-у-у… не убежишь…), еще он добавил – тут же, по своему обыкновению, покраснев, улыбнувшись смущенно и криво, улыбкой человека, стремящегося показать, что сказанное им – шутка, что не в шутку он не произнес бы подобный трюизм, или стремящегося обратить в шутку трюизм, произнесенный всерьез или хоть отчасти всерьез. Грудь его еще поднималась и опускалась от бега; рязанские кудри прилипали к мокрому лбу; преувеличенные глаза окатывали меня своим безумным и осмысленным светом. А хотели бы убежать? – спросил я, тоже как будто в шутку (не совсем всерьез, не совсем не всерьез). Н-не знаю. Иногда хотел бы, ответил он, да, очень хотел бы – и побежал дальше, побежал быстро, едва ли даже попрощавшись со мною, убегая если не от себя, то от своих же слов и собственного смущенья. Холмы и камни смотрели ему вслед все с тем же мифологическим равнодушием; очень ясно, в осеннем распахнутом небе, в той стороне, куда бежал он, виднелись очертания эйхштеттской крепости, с ее зубцами и стенами, нависавшей и нависающей над городком; вода в быстрой речке легко и нежно шелестела длиннолистыми ветками к ней склонившихся ветел.
Холмы, ангары, конная армия
Ужасно одиночество в большом, еще ужаснее одиночество в маленьком городе. А это был городок примечательный: с провалами в доисторическое, дочеловеческое, в мир разнообразных фоссилий и завитков, улиток и раковин, чуть ли не следов птеродактиля, извлекаемых из окружных каменоломен, сберегаемых в местном музее, и с провалами в историю, в Средневековье раннее и позднее, в эпоху первых епископов, пришедших из Англии в своем невообразимом VIII веке, со своими невообразимым именами (Виллибальд, Вунибальд и сестра их Вальпурга) крестить грубых германцев. Я все-таки убегал оттуда как мог и когда мог (тоже и в свою очередь, убегая, наверное, от себя); убегал оттуда, в частности и даже в первую очередь во Франкфурт, еще не подозревая, как много будет в моей жизни впоследствии связано с этим отнюдь не выпавшим из времени городом. У меня была подруга во Франкфурте. Ее звали Викой, эту франкфуртскую подругу, то есть звали ее в строгом смысле совсем не Викой, но Габриэлой – имя, которое так не нравилось мне, как и ей самой, до сих пор называвшей себя, понятное дело, Габи, что я просто-напросто переименовал ее, и она сама себя переименовала, в конце концов, в Вику, воспользовавшись вторым из данных ей при крещении имен (у нее их было в общей сложности три – Габриэла Виктория Моника). И не только сходствовало это ее второе, с моим появлением сделавшееся первым, имя с Виктором, но (поскольку все со всем в мире связано…) в ней самой, этой вскоре из моей жизни исчезнувшей и выпавшей Вике, виделось (или теперь мне видится) некое (в разрезе глаз, в складке губ) сходство с Тиной, хотя она была много моложе Тины и много стройнее, – с Тиной, у которой (поскольку мир состоит из сплошных перекличек…) имена, в свою очередь, путались, двоились, троились, о чем она, между прочим, сообщила мне при моем с ней (случайном) знакомстве осенью (опять осенью), но уже 2004 года, в поезде, по дороге во Франкфурт. Я ехал всякий раз с пересадкою в Нюрнберге, то есть добирался до Нюрнберга на местном маленьком поезде, не спешившем выбраться из захолустья; в Нюрнберге садился в большой скоростной поезд, Intercity Express (ICE), за два часа (изредка испуская драконий шип, разбойничий свист) долетавший до Франкфурта, с остановкою в Вюрцбурге. Были – и есть по-прежнему в таких поездах – просто кресла (два по одну и два по другую сторону от прохода) и есть кресла, разделенные столиком, глядящие друг на друга; вот за таким столиком, в кресле у прохода, я и сидел; напротив, у окна, сидела Тина. До сих пор не знаю, откуда она в тот день ехала; не помню, села ли, как и я, в Нюрнберге или уже сидела в поезде, когда я вошел в вагон; вижу ее сразу с сэндвичем в руках, раблезианских размеров сэндвичем, который и поедала она едва ли не в течение всего перегона до Вюрцбурга. Я таких сэндвичей на своем жизненном пути еще не встречал. То был безумной длины батон с продольным разрезом, в который уложено было все, на что хватило кулинарной фантазии торговавшего бутербродами турка, араба ли, на нюрнбергском или другом каком-то вокзале – куски в чем-то очень восточном, остро-пахучем обжаренной куриной – или, может быть, индюшачьей – грудинки, сыр и брынза, помидоры и огурцы, салат всех сортов – обычный, широколистый, а также французский – с мелкими, а также итальянский – с длинными узкими листиками, наконец, маслины и шампиньоны, артишоки, пеперони и каперсы; удержать всю конструкцию одной рукой было, наверное, трудно, пожалуй, что и вообще невозможно – при совершении надкуса в особенности (говоря по-зощенковски); сжимавшиеся при совершении оного половинки норовили вытолкнуть наружу что-нибудь из его, сэндвича, сумасшедшего содержимого – маслинку ли, каперс, кусочек ли курятины, индюшатины; Тина, держа сэндвич в левой руке и придерживая правой, ухитрялась, отдадим ей должное, не выронить ничего; только хлебные крошки падали на ее гигантскую грудь. Как все фотографы и большинство толстых женщин, она всегда носила (и носит) черное; белые крошки запутывались в ворсинках ее мохерового мягкого джемпера; выделялись слишком отчетливо, чтобы можно было оставить их там дожидаться конца процедуры. Отставляя от себя сэндвич в левой вытянутой руке, она очень осторожно, очень тщательно снимала с себя крошки двумя пальцами правой, выковыривая и вырывая их из ворсинок нежно лакированными розовыми ногтями. Все это выглядело так, как будто она сидит и щиплет себя за гигантскую грудь. Сэндвич исчезал очень медленно, неуклонно сокращаясь, но еще долго сохраняя свою безудержную длину – так долго, что казалось, это не кончится никогда; исчезал при этом словно сам по себе, без всяких усилий с Тининой стороны; Тина, отдадим ей, опять-таки, должное, ухитрялась поглощать его так, что не только не падало ничего, кроме крошек, ни на столик, ни на гигантскую грудь, но почти незаметно было, что она жует и проглатывает все это – этот сыр, эту брынзу; явно думала она о чем-то постороннем, приятном, не меньшее удовольствие получая от своих мыслей, чем от маслин и жареной курицы; в лице ее было то спокойствие, какое бывает в лице у человека хорошо выспавшегося, ничем не болеющего, никуда не спешащего, никаких бед не ждущего… Чем дольше это длилось, тем трудней мне было удержаться от счастливого смеха. Она, похоже, угадывала мои неприличные мысли, даже их одобряла; усмехнулась в ответ мне коротким, все понимающим, прощающим все смешком. И она справилась со своею задачей; выщипала последние крошки. Вот так-то, произнесла она не без вызова, комкая кулек и салфетки, все, что осталось от побежденного бутерброда. Тут поезд вдруг прекратил свое драконье стремленье к неведомому, испустил один, последний, самый разбойничий свист – и очутился, очнулся в чистом поле под Вюрцбургом. Был осенний солнечный день, как будто все тот же; вечный германский осенний день, с этой легкой и прозрачною дымкой в воздухе, погружающей мир в свою собственную стихию, свое собственное свечение; придающей одновременно отчетливые и мягкие, ясные и все же чуть-чуть смещенные очертания вещам и предметам – деревьям (вновь ветлам), полоскавшим длиннолистые ветви в местном ручье; дальним холмам, нисколько не друидическим, просто пологим и золотым, шафрановым и червленым, и на полпути к ним, еще в долине – белым плоским промышленным зданиям, очень обыкновенным, но тоже, заодно со всеми прочими подробностями ландшафта, преображенным этой дымкой, этим свечением. Неподвижность картины соответствовала неподвижности поезда. Все замерло, по крайней мере снаружи. Внутри было движение, пересуды пассажиров, недовольных задержкою; появление проводника, ничего никому не сумевшего объяснить; шелест газет, мерзкий щебет музыки в чьих-то наушниках; наглый голос, с явным удовольствием поведавший вагону и миру, что кто-то, небось, опять на рельсы бросился – все время они бросаются; наконец сообщение зашипевшего громкоговорителя, что по техническим-де причинам мы здесь вынуждены стоять, и сколько еще простоим, неизвестно, но как только станет известно, он, громкоговоритель, всем и тут же непременно расскажет; Тина, ни малейшего внимания не обращая на все это, пристально, словно стараясь разглядеть там что-то до сих пор незамеченное, смотрела в неподвижность снаружи. Но ничего там не было, кроме светящейся дымки, ручья и ветел, проселочной дороги и зеленой травы, бурно-белых промышленных плоскостей, золотых и рыжих холмов. Никто не ехал и не шел по дороге. Откуда вдруг появились на ней всадники, я не помню или не понял. Сначала появились два всадника – или две всадницы, было не разобрать – на казавшихся огромными лошадях, две всадницы (или два всадника) в пестрых продолговатых шлемах и ярких светящихся жилетах вроде тех, что носят дорожные рабочие, дабы не наехал на них никакой сумасбродный водитель; один всадник в желтом, другая всадница в красном жилете. Так медленно и так, за окнами поезда, беззвучно ехали они по дороге, что казались частью этой заоконной солнечной неподвижности, не разрушали, но дополняли ее. Когда появилось еще два всадника (или две всадницы), Тина, приподнявшись, изогнувшись и вытянувшись, достала с полки, которая тянется в таких поездах вдоль всего вагона, большую, рыжую, кожаную, потертую, на длинной лямке и с блестящими застежками сумку, поставила ее перед собою на столик, извлекла из нее фотоаппарат, сделала быстрый снимок – за окном была уже кавалькада из шести, восьми, десяти, все больше становилось их, всадников, – затем достала один объектив, положила его рядом с сумкой, подумала, достала другой, дико длинный, почти такой же длинный, каким был только что в руках ее сэндвич, принялась прилаживать его к аппарату. Опять мне трудно было удержаться от смеха, опять, показалось мне, угадала она и одобрила мои неприличные мысли; усмехнулась всепрощающим коротким смешком. Сквозь солнечный и неподвижный ландшафт так же молча и медленно двигалась разноцветная армия, то ли шедшая на приступ промышленных зданий, то ли собравшаяся покорять золотые холмы. Только Тина, долго крутившая колесики своего аппарата, кружки объектива, собралась сделать снимок, как поезд дернулся, зашипел и поплыл. Ну вот, не успела, произнесла Тина, глядя прямо на меня, смеясь, играя глазами. Теперь уже нетрудно было заговорить, даже трудно было не заговорить с ней. Никаких всадников за окном больше не было: пошли туннели, тьма и грохот этих туннелей, потом узкие, темные, извивистые долины, сосны на склонах, подступавшие вплотную к железной дороге. Мало что помню из нашего тогдашнего разговора; помню, что она пригласила меня на выставку ее фотографий через неделю, в одном из франкфуртских банков. Красивой она не показалась мне, несмотря на роскошные ее формы; некрашеные в тот день (или так мне помнится) негустые русые волосы, сзади собранные в пучок, слишком туго обтягивали ее круглую голову, каковая, круглая, туго обтянутая, слишком маленькой выглядела на ее полной шее, над ее плечами и бюстом, как будто по недосмотру не ту голову, чью-то чужую, приставили к туловищу; слишком узкими были и губы, изгибавшиеся, даже как-то (я подумал) змеившиеся по лицу между щек, над первым и вторым подбородком. А смешок был прелестный, все искупавший; глаза тоже смеялись, светились. Лицо, главное, было открытое; широкое и большое; повернутое к миру; готовое к слезам и смеху; готовое превратиться в трагическую маску или комическую; не превращавшееся ни в какую; не застывавшее; остававшееся живым, потому, конечно, и беззащитным. В немцах (и в немках) бывает что-то мертвое (думал я, лежа на своей гостиничной бугристой кровати), как если бы они не позволяли себе вполне быть живыми, боялись быть живыми, боялись жизни вокруг. Это внешняя оболочка, как правило, броня и панцирь, неизвестно зачем на себя надеваемый. В Тине не было этого; никогда не было этого; она себя не отгораживала от мира. Я спросил ее, происходит ли ее имя от Кристины, Беттины или Мартины (или, может быть, добавил я, Валентины); она ответила, что нет, ни от какой не Беттины, ни от какой не Кристины и уж тем более не от Валентины, мы не в Италии (и не, я добавил, в России), что она Тина просто, то есть не просто Тина, поскольку есть у нее и другие два имени, но все всегда называли, называют ее просто, все-таки, Тиной. Какие другие? – спросил я. Она их не любит. И не скажет мне? Скажет, конечно. Ее зовут Тина Ирмгард Адельгейд. Какая прелесть, как мне нравятся эти древние германские имена. Какая романтика, какая экзотика… Для нас, объявила Тина, с тем скучно-суровым видом, с каким потомки древних германцев повторяют прописные истины, преподанные им в школе, для нас все это слишком тесно связано с самыми мрачными эпизодами нашей истории. Ее так назвали в честь разных родственниц и теток. Только Тину ее мама и папа придумали сами. А как зовут их самих? Ее маму и папу? Маму зовут Эдельтрауд, отца зовут Винфрид, все с тем же скучно-суровым видом произнесла Тина, удивленная моей смелостью. Какая экзотика, какая романтика… А ведь русские тоже чудят с именами, поди разберись в них. Вот в романах, случается, героя называют сперва так, затем вдруг иначе, героиню сначала эдак, потом еще как-нибудь. Я попробовал, без большого успеха, объяснить ей разницу между Алексеем Анатольевичем и Алешкой; ни того, ни другого, ни Aleksej Anatoljewitsch, ни Aljoschka, выговорить она не смогла; смеялась громко, на манер многих немок, грудным, гулким смехом. За окном появились уже небоскребы, вдали и все сразу, как обычно они появляются, когда ты подъезжаешь к Франкфурту (на машине или на поезде), весь этот лес небоскребов, лесок небоскребов, потому, я думаю, столь фантастический, что небоскребов немного и стоят они рядом друг с другом, так что, подъезжая к Франкфурту (на поезде, на машине), ты видишь вовсе не большой город, с его небоскребами, но вообще никакого города ты не видишь, а видишь именно лес, лесок, рощицу небоскребов, вдруг вырастающих на равнине, сверкающих на солнце, сквозь осеннюю дымку, благословенно равнодушных к окружающей их и нас плоской жизни. Всякий раз восхищает меня это зрелище, откуда бы и когда бы ни подъезжал я к Франкфурту, на машине или на поезде. Но как не думать, глядя на сверкающие вдали небоскребы, что они потому стоят здесь, что стоявшее некогда на том же месте обращено было в пепел и прах? Самой своей новизною, своим сверканием и блеском напоминают они о войне и бомбежках, о развалинах и руинах, о том мире, который был, которого нет. Мы и живем на развалинах исчезнувшего, погибшего, и наша новая архитектура (которой, бывает, так восхищаемся, которой, бывает тоже, бывает чаще, так ужасаемся мы) лишь прикрывает, не в силах прикрыть ее, всегда готовую разверзнуться за всем стеклянным сверканием, бетонным блеском, безмерную, нисколько не буддистскую пустоту.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































