Текст книги "Остановленный мир"
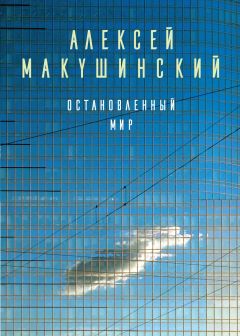
Автор книги: Алексей Макушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Модули, манная каша
Звериный крик прервал мои наблюдения. Больную Бобову дочку усадили в углу гостиной на детский высокий стульчик; Боб, с ложечки, кормил ее манной кашей. И если не манной кашей, то чем-то похожим, столь же печальным. Слюна, конечно, стекала у нее с подбородка. Поев, она даже заулыбалась, по-прежнему, впрочем, уставив эзотропические глазенки в никому, кроме нее, незримую точку. Вдруг что-то не понравилось ей. Только что была она лакированной куклой; без всякого перехода превратилась в фурию, вопящую, колотящую ножками по перекладине стульчика, так что тот грозил опрокинуться и опрокинулся бы, не случись рядом Ирены, его поддержавшей; личико из младенческого превратилось в старческое; в гримасу ведьмы; маску Бабы Яги. Боб, в конце концов, унес ее куда-то наверх, но крик ее долго еще был слышен. Он долго и не появлялся потом; ждал, наверное, чтобы уснула она. Когда появился, лицо у него было, удивительным образом, отдохнувшее, как после дза-дзена; может быть, и вправду сидел он в своем маленьком дзен-до наверху, о существовании которого я еще не догадывался… Десять лет прошло с тех пор, и я уже плохо помню подробности вечеринки. Было скучно, как на всех вечеринках. Было бессмысленное стояние со стаканом в руке, словно в ожидании чего-то; ненужные разговоры. Из них самым ненужным был академический small-talk, в который втянула меня одна из пятидесятилетних девушек (Зильке), учившая других училок учительствовать (во франкфуртском университете; в замечательном здании, построенном Гансом Пельцегом). Как раз тогда начинался – или уже шел полным ходом? – так называемый болонский процесс, призванный окончательно разрушить университетское образование в объединенной Европе; несчастные доценты должны были участвовать (причем все участвовали скрежеща зубами, никто не отказался, никто не уволился – конформизм безмерен) в идиотических нововведениях, в подсчете каких-то кредитных пунктов, выдумывании каких-то модулей; каковые модули произносятся по-немецки с ударением на втором слоге – модууули, – что придает понятию некий неуловимо-анальный оттенок, так что, сидя на очередном, всякий раз многочасовом заседании, где сорвавшиеся с цепи и со всех катушек реформаторы, реформаторши – последних всегда было больше – с садистическими подробностями, под обреченные кивки остальных обсуждали, как бы сделать программу для будущих бакалавров и грядущих магистров еще позаковырестей, еще поглупее, я хоть и старался не слушать, смотрел в окно и прокручивал в голове недававшиеся мне строчки недописанных мною стихов, все же невольно воображал себе эти модули – с ударением на «у» – в виде маленьких, мерзких, склизких клизмочек, только что извлеченных из ректального отверстия; о чем и поведал пшеничноголовой Зильке, вечной студентке, вечной училке, шокировав ее, похоже, на все последующие годы нашего с ней знакомства.
Белокурая Барбара
Польская девушка Барбара, приведенная на вечеринку Иреной, всего неделей раньше перебралась во Франкфурт из Кракова. По-немецки и по-английски говорила она так плохо, что никто ее, мне показалось, не понимал. Почему Ирена привела ее с собой, тоже никто не понял. К сангхе и к дзену она до этой вечеринки никакого отношения не имела. Смеялась она громко, ломко, чтобы все слышали, словно кусочки сахара рассыпала перед собой. Была вся в ангельских кудряшках, мелко трясшихся, когда она рассыпала свой сахар. Была высокая, очень стройная, с длинноногой фигурой фотомодели, в серых (или так мне помнится) джинсах и белой блузке, в курточке, тоже белой, джинсовой, коротенькой, которую то снимала она, то опять надевала, выходя в сад, снимала снова, возвращаясь в гостиную, и снявши, всякий раз передергивала плечами, заново, похоже, отыскивая гармонию блузки с бюстгальтером; куртка, между тем, попадалась всем под руку, появлялась то на спинке, то на ручке дивана, то в кресле, куда как раз хотел сесть торжественный Вольфганг или одна из вовсе не торжественных девушек, постаревших студенток. На Барбару с ее блузкой, курточкой и кудряшками смотрели они с растущею неприязнью; она же смотрела на них, и на всех, и на мужчин особенно, и на зализанного Герхарда, и на Виктора, и на тихого Роберта, и на самого, разумеется, Боба широко, прямо настежь, распахнутыми глазами, голубыми и ангельскими, впиваясь и пожирая этими глазами (глазищами) своего собеседника (свою собеседницу) и вместе с тем словно впуская его (ее, на худой конец) куда-то внутрь, куда-то совсем далеко и глубоко внутрь, в самую свою нутрь, предлагая ему войти, не стесняясь, в эту нутрь и глубь, прямо в душу ей, в святая святых и, обо всем забыв, все условности и преграды отбросив, поведать ей, Барбаре, свое самое сокровенное, самое тайное, да и от нее, Барбары, услышать в ответ признания самые искренние…; ни того, ни другого, скажу еще раз, никак невозможно было сделать, поскольку неясно было даже, понимает ли она то, что говорят ей по-английски и по-немецки, и саму ее понять можно было лишь приблизительно. Понятно было только, что всем она восхищается, восторгается – и тем, что попала сюда, к Бобу, в такое необыкновенное место, на такую необычную вечеринку, и самой вечеринкой, и качалками из «Икеи», и японскими яствами в маленьких мисочках, понемногу появлявшимися из кухни, где Ирена с первой минуты начала помогать Ясуко и куда она сама, Барбара, не зашла (так помнится мне) ни разу, и даже дымным душным закатом, окончательно погасшим над красноягодными кустами, соседскими крышами.
Четыре сигары в год
Закат погас, и как-то все успокоилось. Дети угомонились, уведены были спать. Загорелись лампочки на террасе, в честь праздника развешанные по доскам перил, балкам под потолком. Японская еда в мисочках и тарелочках, все появлявшаяся и появлявшаяся из кухни, замечательно вкусная (тут трудно было не согласиться с восторженной Барбарой), состояла из как бы недосвернутых суши (рис отдельно, водоросли отдельно), из красной рыбы и курицы в соусе терияки, капусты морской и обыкновенной, поджаренных кусочков тофу и еще чего-то неопределимого, самого вкусного, густо посыпанного кунжутом. Мы стояли с Бобом вдвоем у края террасы, облокотясь на ее перила, глядя на мокрую траву лужайки, в свете окон и лампочек отливавшую металлическим блеском, казавшуюся водою, рекою, серой и северной. Мы оба пили джин с тоником, хорошо это помню. И не только пили мы джин с тоником, но Боб, извлекши из нагрудного кармана своей клетчатой, доверху застегнутой рубашки (рубашки отличника, пай-мальчика и бойскаута) большую толстую сигару, принялся, поставив стакан с джин-тоником на парапет террасы, разминать ее, обжигать и раскуривать. Четыре сигары в год, ответил он на мое восхищенное недоумение, улыбнувшись той своей застенчивою улыбкой, которую я так хорошо знал по сессинам и докусанам. Четыре, ну, может быть, пять… по большим праздникам, на вечеринках. Это был единственный случай в сей земной жизни, когда я мог спросить его что-то личное, что-то о нем самом. Почему, собственно, дзен? – я спросил его, как неделю назад спрашивал Виктора. Почему дзен на рынке мировоззрений? Никакого рынка нет, сказал Боб; это не мы выбираем, это нас выбирают. Это просто случается, it just happens. С ним это случилось в ранней молодости, продолжал Боб, обдавая меня своим сияющим взглядом, дымом своей сигары; он учился в Сан-Франциско в шестидесятые годы, а в Сан-Франциско в шестидесятые годы мимо дзена пройти было трудно. Случайный приятель отвел его в дзенский центр, основанный Сюнрю Судзуки – неужели? – воскликнул я, – в тот знаменитый сан-францисский центр в здании бывшей синагоги… На Буш-стрит? Нет, это был уже не тот первый центр на Буш-стрит, говорил Боб обыкновеннейшим голосом, как если бы речь шла о булочной на углу, ресторанчике за углом, сангха уже переехала на другую улицу, когда он там появился, но Сюнрю Судзуки он еще застал, хотя тот был смертельно болен, все это знали, и ему, Бобу, уже не довелось, увы, поговорить с ним с глазу на глаз. Он, Боб, уехал потом на Гавайи. Он собирался изучать историю искусства, а стал изучать японский. Увлекся дзеном и стал учить японский, изучать японскую литературу. Сначала в Сан-Франциско, потом на Гавайях, поступил в гавайский университет. И там познакомился, наверное, с Робертом Эйткеном? – продолжил я за него, понимая, что иного продолжения не могло быть. Совершенно верно, ответил Боб все так же просто, обдавая меня взглядом и дымом. В Гонолулу он познакомился с Робертом Эйткеном, сблизился с «Алмазной сангхой», основанной Робертом, стал сидеть с ними, а уже Роберт Эйткен передал его (gived him over) Накагаве-роси и Ямаде-роси, великим учителям. Я стоял и слушал его, не буквально, но уж в переносном смысле точно раскрывши рот, как если бы он рассказывал мне о своем знакомстве с Бодхидхармой и Хуэй-нэнем. Всегда трогает нас связь времен, связь имен, разделенных во времени. Ясутани-роси, учителя Ямады-роси, он видел всего один раз, сказал Боб, отвечая на мой вопрос, в свой первый приезд в Японию, в начале семидесятых… В Японии сперва было трудно, язык он понимал приблизительно, вставать в половине четвертого было для него мучением, ноги болели невероятно, коленные чашечки воспалились, так что даже угодил он в больницу. Через сколько-то лет он привык – ко всему ведь можно привыкнуть. Он попал затем в Киото, к своему окончательному учителю Китагаве-роси, к которому теперь посылает собственных учеников, и жил то у него в монастыре, то в дальнем храме, филиале монастыря, на Хоккайдо, в горах и снегах. А потом? Потом встретил Ясуко, сказал Боб, обдавая меня своим взглядом… Ясуко подошла к нам с очередной порцией мисочек; он поблагодарил ее по-японски, сложив перед грудью ладони и поклонившись в пояс; я заметил ту его смущенную улыбку, столь мне знакомую. Я чувствовал его готовность ответить на любые мои вопросы (и чем острее чувствовал ее, тем больше вопросов и задавал); но в то же время чувствовал я, что он не потому был готов на них ответить, что они были моими вопросами, но потому что он вообще не находил нужным скрывать что бы то ни было от кого бы то ни было. Он был прозрачен для себя, значит, и для других. И у меня опять было чувство, что он говорит со мною откуда-то, с каких-то снежно-сияющих, мне недоступных высот… Я сказал ему, допивая свой джин и тоник, что два раза в жизни подходил довольно близко к дзену и оба раза отходил от него, потому что писательство оказывалось важнее, и что если бы мне нужно было выбрать между сатори и одним каким-нибудь – всего одним! – но по-настоящему хорошим стихотворением, я бы выбрал второе, да, сказал я, я бы выбрал второе. Значит, это твой путь, сказал Боб со своей самой смущенной улыбкой и самым обыденным голосом произнося это слово «путь», слишком патетическое действительно, чтобы можно было произнести его без улыбки. Then this is your way, сказал и повторил Боб, для того, может быть, чтобы при повторении сделать этот «путь» еще более обыденным и простым. Не «Путь» с большой буквы, но просто «путь» с маленькой, как если бы речь шла о пути из Кронберга во Франкфурт, из Эйхштетта в Мюнхен… А ведь последствия такого выбора непредсказуемы и огромны, сказал я (хотя ничего подобного говорить не собирался и вообще исповедоваться Бобу намерен не был). Ведь это значит отказаться от надежды на избавление, на искупление… А дзен и не сулит избавления. Я знаю, сказал я, дзен уже избавление, и тот, кто впервые садится на подушку, уже просветлен, уже обладает природой Будды и все с ним в порядке, я читал все это, говорил я Бобу, смотревшему на меня со своих снежных высот, но разве, вот, Виктор не стремится к сатори? Стремление к сатори отделяет нас от сатори, я знаю и это, говорил я, и девятнадцатый коан в «Мумонкане» мне тоже отлично известен, и его, Бобово, толкование этого коана мне памятно – еще бы мог я забыть его! – и что парадокс не разрешается пустыми умствованиями, что искомое лежит по ту сторону знания и не-знания, что знание иллюзорно, а не-знание всего лишь не-знание, а нужно только бескрайнее небо, великолепное и пустое, – все это мне известно, но когда я говорю, что выбираю писательство, то я выбираю его не в каком-то особенном и парадоксальном смысле, а – без всяких парадоксов – отказываюсь от дзенского пути, выбираю писательство, перестаю стирать пыль с зеркала, перестаю сидеть, и если еще сижу, а иногда я еще сижу, признавался я Бобу, то сижу просто так, в память о прошлом, без всяких надежд на что бы то ни было, как мы делаем гимнастику по утрам, для успокоения ума, то есть перестаю быть – или пытаться быть – особенным человеком, дзенским человеком, говорил я (хотя ничего подобного говорить Бобу не собирался, исповедоваться ему и не думал), а становлюсь, или лучше сказать остаюсь, человеком вообще, как все прочие люди. Потому что выбрать писательство – значит выбрать обычную жизнь, говорил я (не стремясь исповедоваться, но и не в силах удержаться, чтобы не повторить перед Бобом одну из моих излюбленных мыслей того времени); значит принять на себя простые тяготы человеческого существования и посмотреть на мир так же, как все люди на него смотрят, непосвященные, непросветленные. А дзен так и смотрит на мир, ответил Боб с извиняющейся улыбкой. Обыденное сознание – это и есть дао, говорит, если я помню (я помнил, еще бы) Нань-цюань Чжао-чжоу. Горы – это горы, реки – это реки, все с той же извиняющейся улыбкой продолжал Боб, ссылаясь на другой дзенский афоризм, не менее знаменитый, гласящий, что для тех, кто только начинает свой дзенский путь, горы – это горы, реки – это реки, для тех, кто уже продвинулся по этому пути, горы перестают быть горами, реки – реками, а для тех, кто продвинулся по этому пути далеко, горы – снова горы, реки – реки опять… А все же дзенские люди особенные, сказал я; все, с кем мне приходилось встречаться и разговаривать, все, по-моему, смотрят на мир с сознанием своей причастности к чему-то важнейшему и возвышенному, с тайным – даже для них самих, может быть, тайным – сознанием своего превосходства над закосневшим в неведении человечеством. Они этого никогда не признают, конечно, но это так, в большей или меньшей мере, иногда совсем маленькой. Это потому что они недалеко продвинулись, ответил Боб, своим светлым взглядом охватывая и окатывая меня. Настоящий дзен-буддист должен рано или поздно забыть о своем дзен-буддизме. Он видел таких людей, вдруг добавил Боб, тем самым показывая, что себя к ним не причисляет. Таков был Ямада-роси, таков был Сюнрю Судзуки. Это были люди самые обыкновенные, самые необычные. Таков и его учитель, Китагава-роси, самый удивительный и самый простой человек, какого ему доводилось встречать в жизни…
Юность, война во Вьетнаме
Тут подошла к нам, помнится, белокурая Барбара и, без всякого смущения прерывая наш разговор, принялась восхищаться Бобовой сигарой и, с трудом подбирая слова, путаясь в языках, рассказывать ему, заодно уж и мне, как все замечательно, как замечательно пахнет эта сигара во влажном вечернем воздухе и что она тоже всегда мечтала покурить сигару, никогда сигар не курила, и нет ли у Боба сигары и для нее, и Боб, свою еще недокуренную положивши на край парапета, покорно, со светлой улыбкой, пошел куда-то наверх и вынес для нее огромнейшую, длиннющую сигару в алюминиевой тубочке, и она задымила этой сигарой, предсказуемо кашляя, хохоча, задыхаясь, причмокивая, отгибаясь от дыма, пыхая этим дымом в лицо и Бобу, и мне; в конце концов, отошла от нас, решив, видно, попыхать сигарой в лица других гостей, еще медливших, хотя уже холодно делалось, на лужайке, не на террасе. Только теперь заметил я, что никто к нам не подходил до сих пор, кроме Ясуко с ее японскими мисочками, никто даже и не выходил на террасу, и я не знал, не знаю до сих пор, было ли так заведено среди этих людей или это случайно так получилось. Мы уже и сами поеживались, но в дом не уходили, Боб не уходил, быть может, из вежливости, или потому, что от сигары еще оставался в его маленькой плотно-белой руке последний, с одного конца красный, с нараставшим, но не падавшим пеплом, кусочек, для меня же слишком драгоценной была эта возможность поговорить с Бобом вне дзенских формальностей – возможность, понимал я, которая скоро не повторится – ей вообще не было суждено повториться, – так что я все длил и длил этот уже, пожалуй, исчерпавший себя разговор. Все-таки: почему дзен? Я понимаю: Сан-Франциско, Сюнрю Судзуки, юность, марихуана, хиппи, Аллен Гинзберг и Гэри Снайдер, борьба за мир и война во Вьетнаме; но все-таки? Неужели просто потому, что случайный приятель затащил его в Соко-дзи? Ведь так не может быть… Тем не менее так и было, ответил Боб. Он был мальчишка, он приехал со Среднего Запада. Его отец был пастор, а мать была… женой пастора. И они жили в скучнейшем крошечном городишке (Боб сказал название, но я, к сожалению, забыл), в штате (это я запомнил) Айова, и он, Боб, всегда хотел оттуда удрать и удрал, сперва в Сан-Франциско, потом на Гавайи, потом в Японию, а потом и в Европу… Он потому, может быть, и меняет континенты так часто, с прозрачной откровенностью и смущенной улыбкой говорил Боб, что все убегает из городишки своего детства в штате Айова. Его родители были люди сурово и мрачно набожные, как это часто бывает у протестантов. Он, выходит, убегал от религии? Может быть; не вообще от религии, но от того ветхозаветного Бога, в которого заставляли его верить, в которого верить он больше не мог. Он вдруг утратил веру, когда ему было лет четырнадцать, все так же просто (как будто речь шла о потере перочинного ножика) рассказывал Боб. Сидел у реки, ловил рыбу, смотрел на поплавок, круги на воде, отражения облаков в ней. И вдруг понял, что не верит ни во что: ни в Бога, ни в Страшный суд, ни в загробную жизнь, ни в воскресение из мертвых. Даже очень смешно ему стало, когда он вдруг вообразил себе, как попадет на тот свет и как там будут сортировать вновь прибывшие души. Праведники направо, грешники налево, ать-два, шагом марш. Так живо он все это представил себе и так долго смеялся, забыв об удочках, лежа в траве, рассказывал Боб (сияющими глазами всматриваясь в штат Айова начала шестидесятых), что уже ни о какой вере и речи не могло быть для него после этого. Его сестра, например, веру не утратила, осталась в штате Айова, вышла замуж за пастора и живет с ним в их родительском доме… Значит, спросил я, для него дзен тоже был бунт? А дзен всегда бунт. Впрочем, дзен имеет чудесное свойство очень быстро оборачиваться дисциплиной, даже муштрою. Японская дисциплина поначалу ему плохо давалась, потом он привык. Легче вынести дисциплину, чем ее отсутствие, говорил Боб – и я по-прежнему чувствовал, что он так же просто и так же откровенно ответит на любой мой вопрос, но что в этой откровенности ничего нет личного, лестного для меня, что это он не мне делает признания, а вообще не скрывает ни от кого ничего, потому что чист, прозрачен и скрывать ему нечего.
Курляндская Аа
Виктору, мне показалось, скорее неприятно было, что я так долго говорю один с Бобом; он не спросил меня ни о чем; все же, едва мы вышли вместе с другими уезжавшими во Франкфурт гостями, на темную, мокрую, давно уснувшую улицу, заговорил со мною по-русски, втайне, видимо, ожидая отчета; а мне и самому хотелось поделиться с ним впечатлениями; понемногу отстали мы от всех прочих, замедляя шаги, покуда, к немалому изумлению нашему, не обогнали нас на по-прежнему спящей улице две одинаково тоненькие и в одинаковых джинсах девицы – одна с распущенными и темными, другая с белыми, собранными в пучок волосами, – державшие друг дружку за талию и явно, что не просто по-дружески; невольно за ними следуя, оказались мы перед входом во все тот же кронбергский парк, в мокрую тьму которого мне вовсе не хотелось опять углубляться. Виктор, однако, настаивал, утверждая, что на этот раз не заблудится и что так будет ближе. И, может быть, теперь я думаю, он потому потащил меня в этот парк, что хотел сказать и рассказать мне то, что там рассказал и сказал, и не хотел об этом – важнейшем, больнейшем – говорить со мною при свете, даже при тусклом свете немногих, сеткой влаги окутанных фонарей. На сей раз мы не сбились с дороги; станция оказалась недалеко; достаточно далеко, чтобы он успел сказать мне то, что сказал, рассказать то, что рассказать мне хотел. Впервые за все время нашего с ним знакомства Виктор, покуда мы шли через этот непроницаемо темный и насквозь мокрый парк с хлюпающими и скользящими листьями на дорожках и глухим звуком капель, по-прежнему падавших с невидимых веток, заговорил со мною о своем старшем брате, погибшем, когда ему, Виктору, было (кажется) семь. Не могу теперь вспомнить, как и в какой связи – может быть, и без всякой связи с чем бы то ни было – заговорил он во мраке и мокреди парка об этом старшем, на десять или на девять лет старшем брате, погибшем (все в мире связано, все как-то перекликается) совсем рядом с той курляндской деревней, где в юности проводил я каждое лето, – на Рижском так называемом взморье, в одном из и для меня незабываемых, курортных поселков, которые тянутся вдоль песчаной линии берега, не знаю уж в Майори, в Меллужи или в Асари, куда его родители в то роковое лето (восемьдесят третьего? восемьдесят четвертого? или восемьдесят пятого года? в те годы, следовательно, когда я сам читал свои первые дзенские книги, бродил с Васькой-буддистом по Елагину острову, говорил о пустоте и рассматривал бодяк и мордовник…) отправились отдыхать со своими двумя сыновьями: маленьким Виктором (Витей, Витенькой…) и его старшим братом Юрием (Юрой, для папы и мамы навсегда Юрочкой…), уже пятнадцати-, если не шестнадцатилетним, которому строго-настрого запретили они купаться в реке, подходящей в тех местах подозрительно близко к морю, называемой по-латышски Лиелупе, носившей некогда пленительное название Курляндская Аа (реке, с которой и у меня связано много не столь трагических, воспоминаний, моих собственных и чужих, для меня драгоценных…), реке широкой, серой, с виду спокойной, знаменитой своими стремнинами, своими водоворотами. Как и каким чудом шести– (семи-) – летний Виктор из водоворота выплыл, он не мог (и никто не мог) объяснить, ни тогда, ни впоследствии. И как-то так получилось в его семи– (восьми-) – летней голове, что это он виноват в смерти брата, пятнадцати– (шестнадцати-) – летнего оболтуса, потащившего малыша в слишком ветреный для моря день купаться в запретной реке, и если он чуть-чуть и заикался до этого, то никто не замечал его запинок, и только в тот день или на другой день, но все еще дрожа от речного смертельного холода, начал он заикаться так, что уже не могли этого не заметить его потрясенный папа, его окаменевшая мама. Потому что он все пытался и все не мог рассказать им, что случилось, а собственно, и нечего было рассказывать, он сам не знал, что случилось, но все пытался сказать им, что не виноват, хотя чувствовал себя виноватым, и просто потерял в итоге, пускай на время, способность сказать что бы то ни было… Листья в темноте парка скрипели, ныли, скользили у нас под ногами, и что-то все так же всплескивало, всхлипывало вокруг, и Виктора почти я не видел, слышал только его горестный голос, в конце концов тоже умолкший, словно слившийся с этими всхлипами, этими всплесками; и когда мы вышли, для нас самих неожиданно, к тоскливой и заброшенной станции с подростковыми рисунками, персонажами комиксов на стенах, выяснилось, что все остальные (Ирена, и Барбара, и Зильке, и тихий Роберт) уехали предыдущей электричкой, и, значит (думал я в гостинице под самое утро), не задержись мы в парке, не расскажи мне Виктор о своем главном горе, не оказались бы мы в одном поезде с Тиной (случайности, однажды начавшись, уже не могут остановиться…), и Виктор, скорее всего, никогда бы и не познакомился с ней (да и сам я, наверное, никогда бы ее больше не встретил).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































