Текст книги "Остановленный мир"
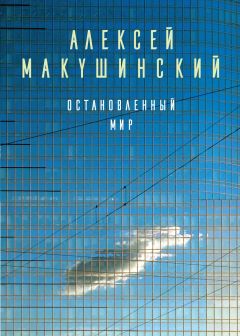
Автор книги: Алексей Макушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Провалы во времени
Разумеется, Виктор не мог брать недельный отпуск каждые два месяца, чтобы делать все сессины под Бобовым руководством, как не могли этого позволить себе ни Ирена, ни гетеообразный Вольфганг, ни гейдеггерообразный Герхард, ни, скажем, Зильке (лишь белокурая Барбара, записавшаяся в университет на историю искусств – такие Барбары всегда записываются на историю искусств, – но пропускавшая подряд все лекции, все семинары, не пропускала ни одного из этих сессинов, превратившись, к грядущему Бобову несчастью, в его самую преданную, самую восторженную адептку); и если не мог взять отпуск, приезжал на последние два дня, вместе со все тем же Вольфгангом (на Вольфганговой машине, которую вели они, сменяя друг друга) или вместе с Иреной на поезде; выезжал из Франкфурта в пятницу после работы, к позднему вечеру (путь неблизкий) добирался до незабвенного хутора, отсиживал всю субботу, полночи на воскресенье и половину самого воскресенья, возвращался во Франкфурт – и через два месяца все-таки брал отпуск, проделывал весь сессин, в блаженном отрешении от своей жизни, в совершенном, никакими звонками по мобильному телефону из ближайшего лесочка не нарушаемом, конечно, молчании. Зимою хутор занесен бывал снегом, и проехать туда было трудно; иной раз приходилось оставлять машину на соседнем (обычном, крестьянском) хуторе, перед последним оврагом, бежать на хутор буддистский за большими деревянными санками, которые там припасены были для таких случаев, грузить на них чемоданы и сумки. Полозья скрипели по снегу; санки сами скатывались в овраг, так что их приходилось удерживать; из оврага не желали, наоборот, выбираться; веревка, за которую тянул Виктор, была на ощупь такая же, как у его детских санок когда-то; такая же мокрая, скользкая. Еще он не начал сидеть, а уже проваливался в прошлое, в какой-то – ему казалось, что навсегда, вот, выходит, не навсегда исчезнувший – вечер, с полыхающим оранжевым небом за черными ветвями деревьев, в Сестрорецке ли, в Сиверской, когда он тащил свои детские санки на горку, чтобы с горки скатиться; вдруг в самом деле проваливался он в снег, весело забиравшийся в его еще городские, еще банковские ботинки. Всякий раз как домой входил он на этот хутор, в эти сени, где городские, даже банковские, ботинки, и сельские сапоги, и тапочки для внутреннего пользования стояли ровным рядком на особой приступочке; в эти комнаты с корягами и камнями на подоконниках, книжных полках; в столовую и проходную, если угодно – гостиную перед ней, где мы сиживали когда-то с Иреной и где по-прежнему перед началом сессина распределялись обязанности участников (в отличие от меня, Виктор, кажется, резку овощей предпочитал мытью лестницы); наконец и главное – в это дзен-до, с его дощатым полом и маленькими квадратными окнами; так входил во все эти комнаты, уже знакомые ему до всех завитков и подробностей, отдельных коряг и отдельных камней, приветствовавших его, как если бы это был не буддистский центр в Нижней Баварии, а вправду та дача в Сиверской, которую его папа и мама снимали на лето, иногда и на зимние каникулы, в его детстве, для его брата и для него, затем для него одного, для его бабушки и дедушки, сначала с ним и Юрой, затем только с ним остававшихся там на каникулах: дача вообще-то чужая, с чужой убогой мебелью и недовольной хозяйкой, любившей наведываться на выходные дни, но все же, как теперь выяснялось, отчетливо памятная ему, где-то в нем хранившаяся все эти годы, со своими собственными подробностями, грязновато-голубыми обоями и потрескавшейся замазкой на окнах, зимними сугробами, летней рекой.
Умереть на подушке
Он сам чувствовал (как впоследствии рассказывал мне), что близок к решающему прорыву; всякий раз надеялся, даже уверен был, что прорыв произойдет и случится, уж на этот раз точно; что произойдет, случится с ним сатори, кен-сё, просветление, прозрение, постижение своей собственной сущности и природы вещей, освобождение от своего я, совпадение нирваны и сансары, внезапный выход из мира целей в мир бесцельностей, совмещение этих миров, окончательное осознание их тождества… или как бы еще ни пытались мы назвать эти неназываемые вещи, описать эти неописуемые события. Но ничего подобного не случалось, и Боб, к которому поднимался он на докусан по столь памятной мне, за себя саму загибавшейся лестнице, всякий раз, обдав его сиянием глаз, сиянием волос, звонил в свой колокольчик, показывая, что разговор окончен, ответ не принят, коан не решен. Надо жизнь положить, чтобы решить этот проклятый коан, надо умереть на этой чертовой черной подушке, лицом к стене с всеми ее пупырышками, тенями пупырышек, подтеками, следами и волосинками валика, умереть той Великой Смертью, о которой так часто он читал в дзенских книгах, после которой наступает свобода, после которой все возможно, все правильно, и он хотел умереть этой смертью, всегда хотел умереть этой смертью, изо всех сил старался умереть этой смертью, вот-вот, он был уверен, умрет этой смертью, и когда умрет, то сразу же увидит, откроет свое подлинное лицо, каким оно уже было и до его собственного рождения, и даже до рождения родителей, вот сейчас, он был уверен, все это случится. Но ничего не случалось (еще раз), и (скажем) Вольфганг, в тот день исполнявший обязанности старшего монаха, повелевавший секундомером и временем, ударял деревянной битой по маленькой медной миске, и все приходило в движение, все вокруг начинали шевелиться, растирать затекшие ступни, он тоже, все вставали, и он тоже вставал, не победив, не погибнув, и если дело происходило летом, цепочка кинхина выползала во двор и обходила хутор под удивленные или уже равнодушные, уже привычные взгляды местного тракториста, и он ставил одну ступню на землю, потом другую, сначала пятку и вслед за пяткой носок, каждым шагом ощущая эту землю, эти шаги, не борясь со смехом, как я боролся с ним в далекие времена моих скромных собственных опытов, но продолжая бороться с коаном, и затем поднимая все-таки голову, глядя на первозданные, плотные, праздничные, над дальней рощей громоздящиеся облака.
Три глаза, двадцать два носа
Уже давно понял он, что никакой ответ принят не будет, покуда он не умрет на подушке, что он может все, что угодно, и все, что взбредет ему в голову, рассказывать Бобу про свое истинное лицо, свою изначальную сущность, свое исконное я (может говорить Бобу, что это лицо совпадает со всеми другими лицами, например, с его, Бобовым; что оно совпадает со всеобъемлющей пустотой и природой Будды, с лицом самого Будды; что оно не совпадает ни с чем; что его вообще нет; что на этом лице три глаза, двадцать два носа; что оно отражено во всех зеркалах, всех прудах и всех реках; может закрывать его руками, может разводить руки, может снова сводить их…) – давным-давно уже понял он, что все это, вернее, что ничего из этого ему не поможет и что Боб все так же, обдав его сиянием своих собственных глаз, своего собственного лица, позвонит, отпуская его, не принимая ответ, в колокольчик. Иногда почти ненавидел он Боба за этот колокольчик, это сияние. Ведь не может же Боб не видеть, как трудно ему приходится, как он страдает и мучается, ну подсказал бы что-нибудь, ну как-нибудь, что ли, подтолкнул бы его, как, бывало, в знаменитых дзенских историях, коанах и анекдотах учителя подталкивали, в переносном и в прямом смысле, своих измученных борением с природой Будды и собственной самостью учеников. Но Боб ничего ему не подсказывал, никак не подталкивал; в лучшем случае говорил ему, что все okay, все in Ordnung, все идет как надо и вовсе Виктору нет причин волноваться. Виктор же понимает, что никакого сатори нет. Сатори есть, но вместе с тем его нет. Сатори есть, но стремиться к нему нельзя. Сатори не есть цель. Оно не где-то там впереди, в конце сессина или в конце десяти сессинов, но оно повсюду: и впереди, и позади, и справа, и слева, и в воздухе, и под землей. Твое обыденное сознание – это и есть Путь, говорил Нань-цюань Чжао-чжоу; чем сильней ты будешь стремиться к нему, тем более от него отдалишься. Поэтому пусть Виктор идет обратно в дзен-до и, ни о чем не заботясь, ни о чем не волнуясь и, главное, ни к чему не стремясь, изо всех сил думает о своем истинном нерожденном лице; рано или поздно (и совершенно все равно, рано ли, поздно ли…) это лицо проявится и проступит, сатори случится. Но пускай он думает не головой, а всем телом и всей своей сущностью – и руками, и ногами, и сердцем, и почками, и печенью, и (говорил Боб, улыбаясь нежнейшей улыбкой, с самых снежных высот…) например, селезенкой.
Перемещенья прямоугольника
Виктор шел и думал, сидя ли на подушке, выбегая ли на двадцать восемь, не двадцать семь и не двадцать девять минут в лес и в поле; и если не мог думать печенью (а как думают печенью?), не мог думать почками (как думают почками?), то думал по-прежнему головою; или он уже и сам не знал, чем он думает; считал и вновь считал свои выдохи; считая их, углубляясь в самадхи, пытался и опять пытался представить себе какое-то изначальное, нерожденное, неотмирное, самое истинное лицо; никакого такого лица представить себе, конечно, не мог. Прошлое оживало в нем; дощатый пол в дзен-до, крашенный темно-бордовою краскою, не напоминал ему, но просто был вдруг, в глубине его самадхи, дощатым полом на той чужой даче, которую его папа и мама снимали некогда в Сиверской; и прямоугольник солнца, проникавшего сквозь деревенское узенькое окошко, вытягивался и перемещался по нему точно так же, как в те летние, навсегда – вот, значит, не навсегда – исчезнувшие утра, когда он, Виктор, просыпаясь и садясь на кровати, дожидаясь, чтобы и Юра проснулся, следил за этим (этим же…) светом, бежавшим по дощатому полу – полу, однажды покрашенному, перед самым их приездом (вот только он не мог вспомнить, в какое лето, еще с Юрой, или уже без Юры), и потом до конца каникул, до возвращения в Ленинград, чудесно, остро, отравно пахнувшему масляной краской… Теперешний пол не пах краской. А он слышал этот запах, чудесный, отравный и острый, закрывая и снова открывая глаза, считая свои медленные выдохи – семь, восемь, девять… Он до сих пор, ему казалось, равнодушен был к прошлому; и уж совсем чуждо было ему то склонение над бездной, столь свойственное мне самому, то стремление воскресить – хотя бы в памяти или, вот, на бумаге – безнадежно исчезнувшее, безвозвратно утраченное, в котором (стремлении, склонении) всегда мне виделось одно из условий писательства, один из его источников. Виктор, по-моему, ничего никогда не писал; даже дневника, подозреваю, не вел; и ничего привлекательного не было для него в безвозвратно исчезнувшем, безнадежно утраченном. Он и теперь не старался вспомнить что бы то ни было; не старался и подавить воспоминания, всплывавшие в нем; просто сидел и ждал; думал (селезенкой, печенью, чем угодно) о своем нерожденном лице; ничего придумать не мог; отчаиваясь, вновь и вновь принимался (головой, а не селезенкой) думать о той истории, к которой, собственно, и восходит этот проклятый вопрос (о нерожденном, еще раз, лице, чтоб ему провалиться, рассыпаться), на который ответа у него не было, ни у кого нет, ни у кого быть не может.
Грубый генерал, подлинное лицо
Он же восходит к истории – к продолжению истории – Шестого патриарха, Хуэй-нэня, любимого нашего, как о нем и о ней (истории, продолжении истории) повествует «Алтарная сутра» и, пересказывая сутру, двадцать третий (сейчас я сверил) коан в «Мумонкане». Потому что Хуэй-нэнь, Шестой патриарх, бежал, как мы помним, снова на юг, получив от патриарха Пятого, Хунь-женя, благословение, рясу и чашу, причем Пятый патриарх переплыл вместе с ним через какую-то реку, то ли взаправдашнюю, то ли символическую реку смертей-и-рождений, реку иллюзии, реку неведения, и они во все время переправы спорили, кому из них надлежит грести, так что удивительно, в сущности, как вообще переплыли, не потонули, не перевернули в пылу спора лодчонку; все-таки переправились – и простились, Пятый патриарх поплыл обратно один, а патриарх Шестой, Хуэй-нэнь, устремился дальше на юг, убегая от завистников и недоброжелателей, тут же, едва прослышали они о передаче чаши и рясы, помчавшихся в погоню за ним (из чего мы снова делаем вывод, что дзен и тогда уже, в те мифологические времена, отнюдь не свободен был от земных, тяжелых, темных страстей). Из этих догонятелей и преследователей выделялся один, бывший генерал, пошедший в монахи, именем (в стыдливой русской транскрипции) Хуэй-минь, персонаж, славный своей грубостью, своим суровым и гордым нравом, решительностью, смелостью и прочими генеральскими свойствами. Никто не догнал, а он догнал беглеца. Отдавай, мол, рясу и чашу, самозванец ты этакий. Да пожалуйста, забирай на здоровье, ответил герой наш, кладя перед ним рясу, ставя перед ним чашу. Ни того, ни другого, если верить (а мы ведь хотим верить, и значит, верим) легенде, даже с места сдвинуть не смог грубиян: тяжелей горы (сказано в «Мумонкане») оказалась чаша, тяжелей горы ряса. Ниц, понятное дело, повергся он перед тем, кого только что считал самозванцем; да вовсе не за рясой и чашей он гнался, а за истиною, за дхармой; он молит о поучении, о наставлении… Вот тут-то и произносит Хуэй-нэнь свою роковую фразу, задает свой неразрешимый вопрос, вопрос, который разные переводчики воспроизводят не совсем одинаково (переводы с китайского и японского всегда отличаются друг от друга); например, так: «не думая о добре и зле, можешь ли прямо сказать, каков твой изначальный лик?» Или так: «не думай ни о добре, ни о зле, но покажи свое истинное лицо». Или: «не думай «вот это хорошо», «вот это плохо», но – вот сейчас, вот в эту минуту – что есть твоя подлинная сущность?» Или даже так: «когда ты не думаешь о добре и зле, это и есть твой настоящий облик». Или вот так, наконец: «когда ты гнался за мною, каким было – отвлекаясь от добра и зла – исконное лицо Хуэй-миня?»
Ловцы и охотники
Патриаршьи слова произвели на бывшего генерала действие замечательное. Не только повергся он ниц, но прямо в пот его бросило, слезы из глаз его полились, в общем просветление с ним случилось, сатори произошло. А собственно почему? думал Виктор (или я думаю теперь, что он думал, сидя на своей подушке, следя за перемещениями света); что такого в этих словах? и почему, думал он (я думаю, что он думал), если они такое действие произвели на грубияна, бывшего генерала, то почему они на него, Виктора, ни малейшего действия не производят? Ну слова и слова; сколько раз уже он читал их и слышал. Значит, дело не в словах? А в чем же? Бывший генерал, грубиян, хоть и прошибло его слезами и потом, тоже, кажется, не вполне удовлетворен был словами. Нет ли еще чего-нибудь, еще более тайного, еще более глубокого, что Хуэй-нэнь мог бы открыть ему? А я не открыл тебе ничего тайного, отвечает на это наш любимый Шестой патриарх. Все, что глубже этого, принадлежит тебе одному. Найди свое подлинное лицо, и все тайны пребудут с тобою… Опять повергся ниц генерал, грубиян; так долго учился я у Хунь-женя (Пятого патриарха), провозгласил он, а вот все-таки не нашел своего подлинного лица. Искал, искал, а все-таки не нашел. Зато теперь я как человек, который пьет воду и сам знает, холодная она или теплая. Могу ли считать тебя своим учителем? – Наш общий учитель – Хунь-жень, отвечает преемник Хунь-женя; следи за собой и храни верность тому, что познал… После чего расходятся они в разные стороны, преображенный Хуэй-минь, рассказывает сутра, возвращается к другим догонятелям, прочим преследователям, сообщает им, что нет, там, где он только что был, никакого нет Хуэй-нэня, пускай ищут в другой стороне, сам же отправляется обратно к патриарху Пятому, из почтения к Шестому меняет свое имя; чтобы не прозываться, как и тот, Хуэем (и нам ли его не понять?), называет себя отныне Даоминем (что нам тоже понятно); Хуэй-же (по-прежнему) – нэнь еще пятнадцать долгих лет, если верить (а мы хотим верить) легенде и сутре, прячется от врагов и завистников, причем пристает к каким-то бродячим охотникам, при случае, впрочем, если звери пойманы живыми, отпускает их на волю, когда же (и вот это самое здесь, на мой взгляд, прелестное) охотники готовят еду, мяса с ними не ест – он буддист ведь, в конце концов! – но варит овощи в общем котле, на мясном, выходит, бульоне (как варили, по злобным слухам, овощные супы и вегетарианцу Толстому…); Виктор, сидя в дзен-до, глядя в стену, иногда (рассказывал он мне много позже) почти чувствовал резкий вкус, острый запах этого охотничьего бульона, как если бы он и сам сидел там, в китайских горах, в фиолетовых сумерках, и потрескивали сучья в костре под котлом, и еще что-то, таинственно и страшно, трещало и шуршало вокруг, в сгущавшейся темноте, и отсветы пахучего пламени пробегали по грубым лицам ловцов, просветленному лицу патриарха… Коан в «Мумонкане» на этом еще не заканчивается; легендарный Мумон (по-китайски Ву-мэнь), собирая дзенские истории, легенды и анекдоты в свою чудесную книгу в своем XIII веке, снабдил их, как настоящий китаец и как я писал уже выше, собственными комментариями, собственными стихами. Поистине, говорит он в своем комментарии, доброта Шестого патриарха подобна доброте материнской или (в других переводах) доброте и заботе бабушки, которая берет плод личи, очищает от кожуры, извлекает косточку и кладет тебе в рот; тебе остается только его проглотить. Остается проглотить; но проглотить у Виктора не получалось. Не помогало и стихотворение, тоже вполне замечательное. Этого нельзя ни описать, ни нарисовать (так там сказано); ни к чему все твои восторги, твои славословья. Брось и не пытайся понять это разумом. Изначальное лицо негде скрыть, негде спрятать. Мир провалится, а лицо твое не исчезнет.
Без выбиральщика
Эти строки тоже переводят иногда так, иногда по-другому; как бы ни переводить их, думал Виктор (или я думаю теперь, что он думал), все равно и во всех переводах неизменно они утешительны, неизменно загадочны. А все здесь загадочно, от первой строчки и до последней. Наименее загадочно чудесное, мифологическое. Что грубый генерал не мог сдвинуть с места патриаршью чашу, поднять его рясу, это как раз понятно, и ломать здесь голову не над чем. Виктор тоже, казалось ему, не мог ни чашу сдвинуть, ни рясу поднять; бился, бился, сидел и сидел – все напрасно. Непонятно все прочее, то, над чем и бился он, ради чего и сидел. Не думая о добре, не думая и о зле, покажи мне свое подлинное лицо… Конечно, вспоминал он (как и я теперь вспоминаю), те строчки Сэнь-цяня, Третьего патриарха, дхармического прадедушки Хуэй-нэня, которыми начинается «Синь-дзин-мин» и которые Боб так любил толковать во время своей ежеутренней проповеди. Высший путь не труден, нужно только от выбора отказаться; не говори «вот это хорошо», «вот это плохо», тогда все явится перед тобой в своей таковости, своей этости, тогда (так не сказано у Сэнь-цяня, но так думал, додумывал за него Виктор), тогда и твое подлинное лицо, истинное лицо проступит из тех океанских глубин, в которые вновь и вновь, без всякого скафандра, ты погружаешься… Это он понимал, Виктор; он это даже понимал все лучше и лучше (рассказывал он впоследствии); он чувствовал себя все чаще свободным от всяких суждений о жизни, от всякого хорошо или плохо. Ноги болят – ну вот, значит, ноги болят. Ноги болят, ноги ноют, ноги немеют, спина тоже болит. Спина, значит, тоже болит; вот и все. Утром к душу не протолкнуться – значит, утром к душу не протолкнуться. А уж урчащие животы у его соседок и соседей по дзен-до в полседьмого утра, этот концерт лягушек в подернутом тиной пруду, вызывавший такие приступы тошноты у меня, ни тошноты, вообще никаких чувств не вызывал у него. Урчащие животы, концерт лягушек в пруду. Да, концерт лягушек, урчащие животы. И что? И ничего. Просто это так, это есть. И вот он здесь сидит, сейчас пойдет завтракать… Все это – и боль в ногах, и лягушачьи концерты, и перемещенья солнца по дощатому полу – открывалось ему как-то по-новому в своей таковости, словно становилось все более таким, все более этим: как если бы этость и таковость были некими свойствами вещей и, следовательно, могли возрастать, могли убывать; или так, как если бы не существовало больше того в нем, кто способен был вообще выбирать, кому что-то нравилось, что-то не нравилось. Он, Виктор, существовал, сознавал себя, сидел в дзен-до на подушке, выходил в перерывах в поле и в лес; но выбиральщика не было в нем. Когда же не было выбиральщика, тогда не было – вправду не было – и беспокойного недовольства; был чистый и простой высший путь (с прописной или строчной буквы, неважно), простой, чистый и высший, потому что, еще раз, – без выбора. Он ничему не отдавал предпочтения; просто видел мир в его этости; сам в своей этости был таким, каким был; самим собой; повернутым к миру, к стене, к соснам на опушке леса, к распаханному полю за ними – своим подлинным, изначальным, не возникшим, не обреченным погибнуть, до рождения родителей уже существовавшим лицом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































