Текст книги "Остановленный мир"
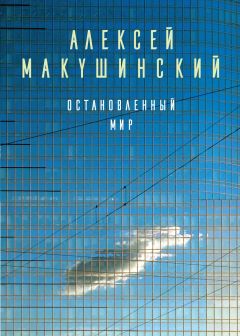
Автор книги: Алексей Макушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Ритуалы
Вкусно было так, как ни у каких итальянцев, разумеется, не бывало; на десерт же случались обычно личи (с мороженым или без; живые личи или, на худой конец, извлекаемые из банки, купленной в китайской лавочке возле вокзала). Так часто (после сессина всегда) случались теперь эти личи, что Тина в самом деле посмеивалась над ним (kein Tag ohne Litschi), по-прежнему не понимая, в чем дело и откуда эта странная страсть (покуда я сам, много позже, не рассказал ей о Хуэй-нэне и Хуэй-мине, неподъемных рясе и чаше, подлинном лице до рождения родителей); Виктор (как, в свою очередь, рассказывала мне Тина) научил ее только смешным словам litchiko-to pokazhi, и уже совсем смешным словам otkroj litchiko, Gulchataj; немногим словам, которые она выучила по-русски, которые произносила всегда с удовольствием, с всепрощающим, уже знающим, что будет дальше, смешком, сковыривая скорлупку со скользких личин, полагая, однако, что все дело в его, Викторовых, мальчишеских воспоминаниях о трогательном русском триллере, варианте вестерна, в азиатских песках, который они даже попытались однажды посмотреть вместе по Интернету, благо там диалогов немного и можно остановить ленту, чтобы перевести незабываемые фразы и фразочки: за державу обидно, вопросы есть, вопросов нет. Вопросов не было, а были эти скользкие, прохладно-белые ягоды, которые они ели сперва за столом; затем (как если бы это был такой ритуал у них; а это и был ритуал) Тина ли предлагала, Виктор ли предлагал перейти в салон (домашняя шуточка, которую они уже не помнили, кто из них придумал, или, может быть, никто не придумывал, но кто-то где-то, в каких-то гостях, подслушал), то есть пересесть на диван (все тот же, черный и кожаный, на котором я лежал по-прежнему, после нашей встречи с Миленой и разговора о Дртиколе, слушая из-за полуприкрытой двери Тинин прерывающийся рассказ), от стола в трех-четырех шагах. Ну что, перейдем в салон? – спрашивала Тина; и если долго не спрашивала, то видела по его глазам, что он ждет, когда же, наконец, она спросит; и потому нарочно не спрашивала, и по глазам его видела, что он видит, что она не спрашивает нарочно; глаза у обоих смеялись. Что ж, не перейти ли в салон?.. Тут, как правило, Виктор (последние ночи спавший совсем мало, предыдущую ночь и вовсе не спавший или спавший пару часов после того одинокого дза-дзена, летом в саду на камне и зимою в дзен-до на подушке, которым принято заканчивать сессин и которым сам я, в мое время, так малодушно манкировал, Виктор не манкировал никогда) – тут, впервые и наконец, он позволял себе расслабиться, откинуться на спинку дивана в позе отнюдь не дзенской, посидеть минуту-другую с закрытыми глазами, с отдыхающим и счастливым лицом. Тина в такие минуты смотрела на него, на его беззащитную, голубую и голую голову, которую уже так хотелось ей погладить, прижать к громадной груди, на его смешные, чуть-чуть (совсем чуть-чуть, но все-таки) оттопыренные уши, одинокие и потерянные по краям голубой головы; а вместе с тем, подчиняясь, и с наслаждением подчиняясь требованиям ритуала, очищала очередную личину от очередной кожуры и вынимала черную скользкую косточку, так что когда он открывал глаза, уже держала в пальцах и наготове прохладно-липкую мякоть, уже предвкушая, как он будет сейчас обсасывать ее пальцы, лизать ее руки, чувствуя первое быстрое, очень сладкое содрогание между расставленных ног, до которых он уже, в свою очередь, дотрагивался рукою, задирая ей платье, для того и надевавшееся ею вместо привычных джинсов, чтобы он мог задрать его, поднимаясь от икр к коленкам; в последний раз успевая подумать о материнской доброте Хуэй-нэня, проглотивши личную мякоть, облизавши Тинины пальцы и постранствовав языком, как и она любила это делать, по линиям ее ладони, их общей судьбы, продолжал он это путешествие, это странствие – от икр, в самом деле, к коленкам, круглым и обожаемым, – затем все медленнее и выше, от прохладной гладкости стёгон к ощутимому даже сквозь трусики, тем более когда под трусики подлезал он, шершавому жару лона.
Банковский взлет
На другой день ему нужно было идти в банк, а через два дня лететь в очередной Сингапур. Ему, в общем, нравилась эта жизнь, или, скажем, нравилось многое в жизни: нравилось путешествовать по всему миру, нравилось иметь деньги, иметь возможность не думать о деньгах, занимаясь деньгами, не считать расходы, не бояться неожиданных трат. Он по-прежнему смотрел на свою банковскую службу как на неизбежное зло, по-прежнему мечтал все бросить, уехать в Японию – теперь не мог бросить не только потому, что надеялся выслужить себе немецкое гражданство, но и потому, что не хотел расставаться с Тиной, боялся ее потерять; вынужден был, тем не менее, как совершенно честный с самим собой человек, признаться себе, что да, удивительным для него самого образом и вопреки ему самому, эта франкфуртская банковская жизнь доставляла ему удовольствие. Он говорил себе, что дело не в удовольствии, как и не в отсутствии оного, что ведь он дзен-буддист – дзен-буддист он, в конце концов, или нет? – а значит, для него жизнь просто есть в своей данности, своей этости, просто такова, какова она есть в своей таковости, что он отказывается от выбора, что не судит жизнь, не думает: это хорошо, это плохо; а все-таки оставался в нем, никуда не девался, и тот Виктор, который мечтал об избавлении от банковской поденщины, о бегстве в Японию или еще куда-нибудь, куда глаза глядят, неважно куда, и тот, кому втайне – втайне от всех прочих Викторов – нравилась эта жизнь, со всем, что наполняло ее, дзеном, любовью, деньгами и путешествиями, даже банковской службой, банковскою карьерой, о которой он вовсе и не думал, поступая на службу, которую делал теперь, или которая сама себя делала, сама собой делалась головокружительно быстро, – и, разумеется, не только благодаря его способностям к математике, иностранным языкам и языкам компьютерным, совсем иностранным, но в первую очередь, как он впоследствии уверял меня, благодаря его способности к сосредоточению, искусству концентрации внимания и принятия быстрых, как будто даже и непродуманных, внезапных, интуитивных, почти всегда оказывавшихся верными решений – всему тому, следовательно, что развилось и все сильнее развивалось в нем по мере его продвижения по дзенскому пути, как побочный эффект его экзерциций, о котором, вступая на этот путь, он вовсе, еще раз, не думал и не заботился. Он не думал, зато другие подумали. Ему и в голову не приходило записаться на какой-нибудь курс медитации для менеджеров, релаксации для бизнесменов, аутотренинга для тревожных банкиров и просто йоги для всех остальных гешефтсмахеров, один из тех курсов, что в Германии предлагались и предлагаются если не на каждом третьем, то уж точно на каждом восьмом углу, как не приходило ему в голову купить популярнейшую в те годы книжку, так и называвшуюся – «Дзен для менеджеров», которую много раз, с отвращением, по-английски и по-немецки, видел он в книжных лавках, даже, случалось, на аэродромах по всему свету, которую ни разу до сих пор не брал в руки. Все это казалось ему пошлостью, профанацией и подлогом. Забудь о своих заботах, стань счастливым в три дня. Как же! очень нужен ему этот бизнес-дзен, банко-дзен (заработай-себе-миллион-дзен, обмани-всех-конкурентов-дзен, открой-свою-фирму-дзен, умри-на-Лазурном-берегу-на-собственной-вилле-дзен…), когда он знает дзен подлинный: преображение жизни, преодоление мира, овладение собой и судьбой.
Абсолютная безысходность, заоблачный генерал
Однако и его дзен (он не мог отрицать этого, как человек, совершенно честный с собою) тоже, помимо его собственного желания и воли, оказывался дзеном для менеджеров (бизнес-дзеном и карабкайся-по-карьерной-лестнице-дзеном…); и не только потому, что развились в нем столь полезные для карьеры способности, но и потому, что те люди, от которых эта карьера зависела, очень скоро его разгадали, важные и самые важные люди признали в нем своего. Для одних его синий череп был знаком безумия, с которым приходилось мириться, через силу или с усмешкой – что возьмешь, мол, с этого русского; для других – патентом на благородство, пропуском в тайный буддистско-банковский клуб с неписаным уставом и феерическими возможностями… Какой-то самый-самый главный начальник в их банке, персонаж для простых сотрудников откровенно мифологический, деливший свое время между завтраком с министром финансов Швеции, обедом с президентом Эквадора и ужином с шейхом Бахрейна, услышав от старика Вольфганга, гетеобразного адвоката, всех и вся знавшего во франкфуртском деловом мире, что есть у него, начальника, один подчиненный, непреклонный дзенский адепт и вообще человек примечательный, в один прекрасный понедельник, к остолбенению Викторовых коллег, пригласил Виктора к себе, на самый верх небоскреба, в громадный, прозрачный, пол-этажа занимавший кабинет, в соседстве уже прямо с облаками, ангелами и Господом Богом, кабинет, где на единственной нестеклянной стене обнаружился, в отдалении от других, тоже, наверное, драгоценных гравюр и рисунков, большой дзенский круг, с классическими брызгами туши и размашистой каллиграфией в правом нижнем углу, подаренный мифологическому банкиру (по-генеральски доброжелательному, все-таки жесткоглазому, жесткоусому, очень спокойному, очень уверенному в себе господину) не кем-нибудь, но, как с нескрываемым удовольствием сообщил он Виктору, самим Шиничи Хисаматсу, великим мудрецом и философом. Давным-давно это было, когда он, мифологический банкир, был так же молод, как теперь Виктор. Еще несколько раз за время их встречи заговаривал он о молодости, всякий раз, с генеральской улыбкой, указывая раскрытой ладонью на Виктора, как будто объединяя какого-то себя тогдашнего, в семидесятые годы делавшего сессин в знаменитом и старинном монастыре Дайтоку-дзи с его не менее знаменитым садом камней, беседовавшего с Кэйдзи Ниситани, одним из основателей Киотской школы философии, встречавшегося, и много раз встречавшегося, и в Японии, и в Германии, с патером Эномийя-Лассалем, на сих правдивых страницах уже упомянутым, – тогдашнего себя объединяя, если не отождествляя, этим, отчасти ироническим, жестом открытой ладони – с теперешним Виктором, очень прямо сидевшим в неудобном на его вкус кожаном кресле, в свою очередь понимавшим, что это все ему не просто так рассказывается, что все это, наверно, экзамен. Обитатель облаков знал и Боба, как выяснилось, бывал у него в Кронберге, даже сидел вместе с ним и Вольфгангом, познакомившим их друг с другом, в крошечном домашнем дзен-до, где редко приходилось бывать Бобовым ученикам, самому Виктору всего пару раз (у аристократов, даже финансовых, всегда свои привилегии); и с Бобовым удивительным учителем, Китагавой-роси, рассказывал он, покуда пожилая суровая секретарша вносила в необозримый кабинет поднос с японским глиняным чайником и двумя валкими, тоже глиняными кружками без ручек, как будто слепленными тяп-ляп на уроках труда шаловливыми школьниками – из тех детских японских кружек, из которых только миллионер может позволить себе пить чай на работе, – c Китагавой-роси не просто он встречался в Киото, рассказывал генерал банковского дела, наливая зеленый чай в валкие кружки, но даже летал к нему – на чем летал, начальник не объяснил – в ту горную дальнюю обитель, куда Китагава имеет обыкновение удаляться с немногими учениками и где ему, генералу, посчастливилось проделать маленький трехдневный сессин в такой тишине, какой за всю свою, теперь уже довольно долгую жизнь он, наверное, ни разу не слышал; Виктор же все поглядывал на дзенский круг, слишком прекрасный, чтобы можно было на него не поглядывать; разобрать иероглифы, впрочем, не удавалось ему. Это значит абсолютная безвыходность, absolute Ausweglosigkeit, объявил главный банкир, угадывая его невысказанный вопрос. Одно из любимых выражений Хисаматсу, пояснил он. Надо войти в абсолютную безвыходность (или, может быть, безысходность? банкир не думал, конечно, да и Виктор не думал, это я теперь думаю о правильном переводе на русский…), войти в абсолютную безысходность, сказал ему, главному банкиру, великий учитель во время их последней встречи в Киото, в середине семидесятых. Он тогда не понял этого, он этого и теперь, быть может, не понимает. Принять безвыходность? – переспросил он. Нет, не принять! – возразил Хисаматсу, даже, показалось ему, слегка разозлившись. Ничего не надо принимать. Надо просто войти в нее, вот и все. Тут-то он и нарисовал для него, банкира, этот круг одним мощным движением кисти, написал эти иероглифы, тоже одним, незабываемо прекрасным движением, и больше, увы, ему, банкиру, не довелось с ним встречаться… Казалось, он только для того и позвал Виктора, чтобы поведать ему о своих буддистских знакомствах, хотя Виктор понимал, что это не так, что это экзамен, при том, что ни слова, вообще ни единого, о его, Викторовой, работе генерал банковского дела не проронил, не снизошел до этого, как будто и не работал никто в его банке, спросил только Виктора, как давно он занимается дзеном, часто ли делает сессины, не бывал ли в Японии, не собирается ли туда ехать, не учит ли японский язык. Виктор ехать в Японию собирался всю жизнь и японский начинал учить еще в Петербурге, теперь начал снова. Банкир величественно наклонил в ответ седую жесткоусую голову… Недели через две после этого Виктор получил приглашение на ужин в японском консульстве, в небоскребе возле франкфуртской ярмарки, – ужин, который он представлял себе то ли как большое торжественное застолье, то ли как официальный прием с бессмысленными коктейлями и который оказался встречей с двумя японскими банковскими генералами, одним очень старым, другим почтительно молодым, совершенно седым, в присутствии другого немецкого небожителя, рангом чуть пониже того, первого, с такими же усами, с глазами чуть-чуть помягче, – встречей, во время которой японские генералы сперва только улыбались, кланялись и опять улыбались, затем на ломано-витиеватом английском выразили свою радость по поводу Викторовых дзенских занятий, Викторова усердия и бесстрашия в продвижении по пути в безысходность, в достижении бесцельной цели, в прохождении сквозь бездверную дверь, затем сообщили, что, когда Виктор будет в Токио – а в том, что он будет в Токио, у них, похоже, сомнений не было, – они познакомят его с таким-то и таким-то из нынешних великих учителей, с самим в ту пору уже сто-и-сколько-то-летним Экихо Миодзаки, главой всей школы Сото, ради какового знакомства младший из двух генералов, наверное, еще не совсем генерал, продолжавший улыбаться и кланяться, тряся своими седыми, для японского бизнесмена странно длинными волосами, с удовольствием съездит вместе с Виктором в знаменитый монастырь Эйхей-дзи, основанный самим Догеном, если же Виктор захочет сидеть в Токио с той группой мирян, с которой старший из генералов, несомненно генерал и даже, похоже, генералиссимус, сидит уже пятьдесят лет, то они будут рады там приветствовать и видеть его… Это опять был экзамен, который, казалось ему, он выдержал; вновь ни единого слова не было сказано о банковских делах и заботах, словно и не было у них у всех никаких банковских дел, никаких забот, кроме стирания пыли со своего зеркала, осознания отсутствия зеркала, отсутствия пыли.
Lifestyle
Конечно, его коллеги, не генералы, но коллеги обыкновенные, с того же этажа, что и он, – если не говорили о футболе, о Бастиане Швейнштейгере и Лукасе Подольском, об очередном чемпионате очередной Европы, о том, что Юрген Клинсман большой молодец, да и Йоги Лёв парень не промах, – то как раз говорили, в бесконечных вязких подробностях, о делах, об акциях, фондах, рендитах, кредитах; продолжали говорить о них, когда шли обедать в банковскую, не слишком вкусную столовую, или – если хотелось им выйти на улицу, хоть на полчаса отвлечься от дивидендов и прочих рендитов, от которых, впрочем, отвлечься мыслями они все равно не могли, – в неподалеку от банка расположенное пижонское заведение, все пронизанное тем, что по таинственным для нас, простых смертных, причинам модные журналы и люди называют стилем жизни, Lifestyle (хотя стиль жизни бывает разный: у бродяги под франкфуртским мостом и у клошара на острове Святого Людовика тоже есть свой стиль жизни) – пижонское заведение, где продавалась (и продается) всевозможная всячина, на все банкирские вкусы, для всех миллионерских потребностей: от особенных блокнотиков с кожаными застежками, золотоперых авторучек и золотых карандашиков, в компьютерную эпоху превратившихся в предметы роскоши и знаки богатства, до, даже, велосипедов, тоже особенных, таких серебряных и с такими кричащими, оранжевыми, толстыми шинами, каких Виктор больше нигде, ни в каком спортивном и велосипедном магазине не видывал, от предметов фатовского обихода, богатейского быта, прекрасных перечниц и сумасшедших солонок, пузатых баночек с дижонской горчицей и провансальским паштетом до рубашек за триста, запонок за три тысячи и костюмов за пять тысяч евро, – лавку, где, кроме того, выпекался (и выпекается) вкуснейший (следует признать) хлеб, вкуснейшие круассаны и булочки, с изюмом или без оного, Тинин всегдашний соблазн, да и моя, не скрою, погибель, заодно предлагались покупателям, необязательно банкирам – пижонам просто, давно приметившим это место, сыр, самый французский, самый швейцарский, а с ним и ветчина, самая пармская, и где, на высоких деревянных табуретах за высокими деревянными столами сидючи, вечно возбужденные, вечно под током, предвкушающие профит банкиры, как, впрочем, и не банкиры, просто пижоны, всегда с удовольствием, уплетали (до сих пор уплетают; я сам, признаться, люблю бывать там…) лотарингский пирог, или эльзасскую пиццу (вымазанную сметаной, выложенную луком с кусочками поджаренного шпека…), продолжая говорить и думать, если они банкиры, об акциях, фондах, других дивидендах. Виктор разбирался во всем этом не хуже любого из них, лучше многих. Начальный капитал его был ничтожен, но везло ему как-то даже неправдоподобно, как если бы таинственные силы, заботившиеся о его карьере, решили позаботиться и о благосостоянии его. Орудием этих сил в очередной раз оказался вальяжный Вольфганг, однажды и затем снова, после вечернего дза-дзена, в придаточном предложении, поблескивая ботинками и глазами, давший ему пару ценнейших советов, сделавший пару намеков, в том примерно смысле, что он, Вольфганг, ни в чем не уверен, но как-то так ему кажется, да и знающие люди говорят, что акции SAP завтра подскочат, акции BASF, наоборот, упадут, а что вообще лучше пока оставаться быком, а на следующей неделе переметнуться к медведям… Это были шальные деньги, веселые деньги, приятное прибавление к его тоже растущему жалованью. Он не ценил денег, казалось ему; не боялся их потерять (и в кризисе 2008 года почти все потерял; потом опять заработал…); как совершенно честный с самим собой человек, не мог себе не признаться, что иметь и тратить деньги – чистое наслаждение, и то, что он может послать родителям больше, чем они ожидают, подарить Тине не очень нужный ей жемчуг или очень нужный ей, безумно дорогой объектив, купить себе что-то, в этой или другой модной лавке – костюм ли, велосипед ли, – не думая о цене, просто войти, посмотреть, спокойно сказать: беру, – что это здорово, даже как-то, говоря по-советски, круто. Вот этот велосипед, легчайший, из алюминия, с двадцатью передачами на раме и на руле, за пять тысяч евро, мне нравится; я покупаю его. Велосипед нравился, и жизнь ему нравилась тоже. А ведь жизнь никогда ему прежде не нравилась. Он тосковал, и мучился, и искал какого-то одного, всеобъемлющего решения. Теперь, когда решение нашлось (в чем он не сомневался) – теперь вдруг оказывалось, что и все остальное, то, чем живет большинство людей, не дзен-буддистов, не искателей истины, и на что он, Виктор, до сих пор смотрел как на препятствие и помеху, – что это не только помеха и не только препятствие, и даже совсем не препятствие, совсем не помеха, но что очень многое в жизни может быть и приятным, и радостным, и причем, вот что важно, приятным, радостным само по себе, без всякой связи с его великими задачами, его аскетическим подвигом. Он не был готов к этому и потому продолжал удивляться. Удивляясь, чувствовал себя молодым, здоровым, уверенным в себе, счастливым в любви и в делах. Расплывчатость и зыбкость юности кончилась, легкие, редкие приступы свербящей тоски еще, пожалуй, бывали – но скорее как воспоминание, напоминание о прошлом, как дальние, еще грозовые, но уже не страшные отзвуки той тоски, которая в юности столь свойственна бывала ему; вдруг, спохватываясь, говорил он себе, что – вот, ведь это же он, Виктор, несчастный заика, еще пару лет назад не знавший, как жить и как выжить, – что вот он идет обедать в Lifestyle-лавочку, мимо Старой оперы, в летний франкфуртский день, в сверкании автомобильных стекол, небоскребных зеркал, один или вместе с наэлектризованными коллегами по работе (Мартином из Штутгарта, Полом из Колорадо-Спрингс); и как совершенно честный с самим собой человек, вынужден был признать, что да, каким-то неожиданным, до сих пор ему самому неизвестным краем души он получает удовольствие от всего этого – от этого дня, этого солнца и облаков, от брызг, плеска и сверкания фонтана на площади перед Оперой, даже от этого, не прерываемого ничем (ни облаками, ни солнцем, ни обнаженными руками мимо идущих девушек…) разговора об акциях, рендитах, кредитах, в которых уж точно разбирается он не хуже, чем Мартин из Штутгарта, много лучше, чем Пол из Колорадо-Спрингс, – вообще от того, что вот он, такой молодой и спортивный, красивый и необычный, в так ладно сидящем на нем костюме, в дорогущих часах, которые он, в конце концов не выдержав, купил в этой самой пижонской Lifestyle-лавочке, часах с таким множеством стрелок и стрелочек, с такими чудными маленькими кружочками внутри большого циферблата, что невозможно было не соблазниться ими, не потратить на них шальные, выигранные на бирже деньги, – что вот он идет здесь, входит в дверь, которую придерживает для него ливрейный негр, иногда стоящий у входа, или, если негр почему-либо, по нужде или просто так отлучился, которую он сам придерживает, пропуская выходящую из магазина даму с пакетами и покупками, сразу, на то мгновение, в которое соприкоснулись их взгляды, им очарованную, пропустивши даму, улыбается знакомой кассирше, блондинке с вытянутым лицом, затем, сделав заказ у тоже ему знакомого вислоусо-веселого хорвата-официанта, поедает, на высоком табурете сидючи, свой лотарингский пирог с огромной порцией свежего, необыкновенно вкусного, хорошим бальзамическим уксусом из Модены политого салата, видит вихрастые, неподвижно-скульптурные облака в окне, в нежном небе, видит Старую оперу, видит идущих мимо огромных окон лавки индусов, индусских мужчин в разноцветных тюрбанах, выступающих впереди, индусских женщин в разноцветных же сари, покорно следующих за своими мужчинами. Он не следовал столь покорно за Полом из Колорадо-Спрингс, за Мартином из Штутгарта, всегда торопившимися обратно в банк, одержимыми желанием доказать свою незаменимость всем, кто посмеет в ней усомниться, но, отвоевывая себе кусочек свободы, если день был летний, погода хорошая, еще медлил чуть-чуть возле Оперы, возле фонтана, где какие-нибудь резвящиеся девицы пытались, повизгивая, помочить ноги, достойные или, уж как повезет, недостойные внимания ротозея, в желтой, мутной, не очень-то и холодной воде, заходил затем на ту улицу, где все всегда едят что-нибудь за столами и столиками, отчего и носит она поэтическое название Freßgasse (Freßgass по-гессенски), переулок жратвы и обжорства, переведем, что ли, так; у знакомого итальянца, очередного Лоренцо, покупал мороженое, два шарика, фисташковый, например, и ванильный, в вафельном, понемногу намокавшем раструбе, вновь проходил мимо Оперы, фонтана, других, но тоже визжащих, девиц, сворачивал, уже по дороге в банк, в ту аллею, по которой когда-то мы с ним шли из дзен-до (одну из парковых полос, повторяющих рисунок снесенных городских стен), и, сидя на лавочке неподалеку, например, от большеголовой голой серо-каменной женщины, которая и тогда лежала, и теперь лежит у края этой аллеи, на боку, на газоне и постаменте, согнувши ноги в коленках, так что образуется между ляжками бесстыдный зазор, или, еще ближе к банку, на лавочке возле смешнейшей, на возвышении воздвигнутой, скульптурной группы, являвшей и являющей миру (городу, туристам, бродягам и наркоманам…) голого гиганта из позеленевшей меди, с отчетливым пенисом и лицом сталевара, который, обхвативши торс мощными руками, порывается сойти со своего места, двинуться навстречу небоскребам и людям, – и, на шаг позади него, двух гигантских гологрудых дев, видимо муз, с прикрытым подобающими складками срамом, которые тоже стремятся уйти куда-нибудь прочь и подальше отсюда (если же подняться вверх по холмику, усыпанному бумажками, бинтиками, бывает, что и шприцами, жестяными баночками от колы, пакетиками от биг-маков, чизбургеров и прочей продукции фирмы «Макдоналдс», можно прочитать на постаменте посвящение «гению Бетховена», dem Genius Beethovens, заодно и вообразить себе, что бы сделалось с Людвиг-ваном, доведись ему воочию узреть сего гремучего гения…), – возле одной из этих (в кроваво-коричневую эпоху созданных, как я недавно узнал) скульптур, на более или менее грязной лавочке сидючи, доедал он свое мороженое, таявшее на солнце, стекавшее по вафельному размокавшему раструбу на пальцы, съедал и раструб (самое вкусное, что есть в мороженом, как все мы знаем с детства), глядя на проходящих по аллее людей, детей (тоже с мороженым), голоруких и голоногих девушек (еще девушек и еще), глядя на туристов, бродяг, банкиров, быть может, и гениев, на отражения изменившихся, но по-прежнему и в свою очередь скульптурных облаков в зеркалах небоскребов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































