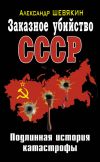Текст книги "Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией"

Автор книги: Сергей Абашин
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Сергей Николаевич Абашин
Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией
Введение
В ПОИСКАХ ОБЪЯСНЕНИЯ
У этой книги долгая и трудная история. Она была задумана давно. Еще в 1995 году, получив грант Фонда Веннер-Грен (The Wenner-Gren Foundation), я провел почти полгода в Ленинабадской (ныне Согдийской) области Таджикистана, где бóльшую часть времени жил в узбекском кишлаке Ошоба, а часть времени собирал всевозможные сведения об этом кишлаке в архивах областного центра Ходжент и районных центров Канибадам и Шайдан (Илл. 1, 2). В 1997 году я продолжил сбор сведений в архивах Душанбе и Ташкента, а в 1998 году – в областных архивах Ферганы и Намангана11
В книге использованы материалы следующих архивов: Центральный государственный архив Республики Таджикистан – ЦГА РТ, Государственный архив Согдийской области Республики Таджикистан – ГАСО РТ, Филиал Государственного архива Согдийской области Республики Таджикистан в городе Канибадаме – ФГАСО РТ, Архив Аштского района Республики Таджикистан – ААР РТ, Центральный государственный архив Республики Узбекистан – ЦГА РУз, Государственный архив Наманганской области Республики Узбекистан – ГАНО РУз, Государственный архив Ферганской области Республики Узбекистан – ГАФО РУз.
[Закрыть]. Разного рода материалов – публикаций, документов, интервью, наблюдений – набралось много, но что с ними делать, признаюсь, я представлял плохо. Я совершенно не знал, какой вопрос должен задать себе, какую проблему могу увидеть в своих материалах, с каким теоретическим аппаратом и понятийным словарем буду описывать то, что видел, слышал и читал. Почему так случилось?
Мое становление как ученого происходило в рамках позднесоветской исторической и этнографической традиции, где господствовала догматическая версия марксизма. Конечно, внутри этой традиции существовали разные направления, между представителями которых шли порой ожесточенные дискуссии, что открывало некоторое пространство для свободомыслия. Кроме того, в университете преподавали зарубежную историографию, а некоторые западные книги даже переводились на русский язык (почти потрясением стала для меня, например, книга британского антрополога Эдварда Эванса-Причарда «Нуэры», которая была переиздана в СССР в 1985 году!22
Эванс-Причард Э. Нуэры: Описание способов жизнеобеспечения и политических институтов одного из нилотских народов. М.: Наука, 1985 (оригинал: Evans-Pritchard E.E. The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: Clarendon Press, 1940).
[Закрыть]) – все это позволяло увидеть краем глаза или хотя бы представить, чтó происходит (точнее – происходило) «там», в несоветской науке.

Илл. 1. Карта Таджикистана

Илл. 2. Карта Аштского района Согдийской области Таджикистана
На рубеже 1980—1990-х годов идеология, которая определяла теоретический язык исследований, была полностью дискредитирована, писать в прежней манере стало немодно и неинтересно, да и недостатки старых концепций сделались очевидными. Значительная часть предыдущего опыта обучения и чтения, обсуждений и размышлений оказалась в новой ситуации не нужна молодому ученому ни для получения грантов (главного финансового источника выживания после краха СССР), ни для налаживания научных контактов в открывшейся для советских граждан глобальной науке. И главное – я сам в какой-то момент испытал разочарование в прежних идеях, оно накапливалось на протяжении моей учебы в университете, где схоластика, изучение отвлеченных, оторванных от жизни схем было превалирующим занятием. Большую роль в усилении таких настроений сыграли первые опыты полевой этнографии в 1988—1991 годах, когда на протяжении четырех лет я ежегодно по два-три месяца в одиночку или с российскими и узбекскими коллегами проводил исследования в разных кишлаках Ферганской области Узбекистана. То, что я видел и испытывал тогда, оказалось трудно передать с помощью понятий, которым я был обучен. В этом общем контексте сформировалось убеждение в необходимости радикальной смены приоритетов и теоретического языка.
В 1990-е годы появился более широкий доступ к идеям других научных школ, теориям и дискуссиям, имевшим место за пределами бывшего СССР, но это мало что меняло. Во-первых, в силу ограниченности моей языковой компетенции и невозможности получать необходимые книги и статьи на руки (библиотеки просто перестали комплектоваться новой литературой, да и старый набор был далеко не полным) этот доступ к мировым знаниям был весьма относительным. Во-вторых, самому сориентироваться в огромном море авторов и текстов, понять, как они соотносятся друг с другом, какие направления представляют, каковы тенденции научной актуальности, было крайне сложно. К тому же действовал эффект переводов: тех же Фуко и Бурдье, ссылку на которых сегодня можно найти во многих российских работах, очень быстро и в большом количестве перевели на русский язык, сделали доступными, поэтому их понятийный словарь и подходы усваивались в первую очередь, иногда без учета той критики и того контекста, которые работы этих авторов имели на Западе.
Все это вместе не давало никакой внутренней уверенности для того, чтобы приступить к разбору полевых и архивных материалов по Ошобе. Книгу пришлось отложить. Это объясняет, почему между началом исследования в 1995 году и активной стадией написания настоящего текста – такой большой временной разрыв.
Более десяти лет ушло у меня на другие проекты, связанные, в частности, с проблематикой национализма33
Результатом стала моя книга: Абашин С. Национализмы в Средней Азии: в поисках идентичности. СПб.: Алетейя, 2007.
[Закрыть]. Все эти годы я занимался – и продолжаю заниматься, – по сути дела, самообразованием, стараясь хоть как-то восполнить свои представления о современных социальных концепциях и исследованиях, читая новые книги и статьи и непосредственно общаясь со многими зарубежными коллегами, которые в те же 1990-е и 2000-е годы начали интенсивно изучать бывшее советское пространство. В самой России за это время появились ученые и целые направления, которые пытались предложить новое осмысление российской/советской/среднеазиатской истории и этнографии.
Вернуться к книге об Ошобе я решил только в 2009 году, когда получил возможность в течение пяти месяцев работать в Центре славянских исследований в японском Университете Хоккайдо, где смог наконец получить полноценный доступ к современной литературе. В 2010 году я продолжил работу в архивах Ходжента и Канибадама, а также побывал в Ошобе, где за девять дней успел собрать много дополнительной информации. В частности, мне удалось сделать много фотоснимков архивных дел, видов кишлака и личных фотографий – в 1995 году я был лишен такой технической возможности. А кроме того, я собрал некоторую информацию о том, что произошло в кишлаке за прошедшие пятнадцать лет.
Возвращение к книге спустя такой значительный срок изменило мои первоначальные цели. Конечно, момент распада советского строя и начало другой эпохи, перестройка экономики и социальной жизни, новые конфликты, новые идеи, новые действующие лица – все это само по себе очень интересно. Но сугубо антропологический фокус на сегодняшний день потерял какой бы то ни было смысл, так как события и вообще ситуация, которые имели место в начале 1990-х годов, уже сами превратились в историческое прошлое. К тому же в 1995-м я собирал материал, наверное, по инерции, главным образом о советских реалиях, распад же прежней эпохи я скорее переживал, чем изучал. Поэтому в итоге моя книга стала превращаться в работу историко-антропологическую, посвященную скорее не постсоветскому времени, а советскому и даже, когда материалы это позволяют, досоветскому.
Изменение замысла диктовалось или облегчалось и тем обстоятельством, что в последние десять—пятнадцать лет можно было наблюдать значительный рост интереса к имперской и советской истории Средней Азии44
Я решил не использовать в книге другое название региона – Центральная Азия, которое традиционно включало в себя Афганистан, Монголию и китайский Синьцзян, что выходит далеко за рамки моих интересов.
[Закрыть], чего нельзя сказать об антропологическом изучении постсоветского периода, результаты которого пока остаются весьма скромными (хотя и здесь в самые последние годы, кажется, происходят сдвиги). Развернувшиеся дискуссии об особенностях российской имперскости, о природе советского строя, об итогах трансформаций в XIX—XX веках, произошедших в различных сферах (ислам, положение женщины, национализм, колхозная экономика), создали такие рамки, в которых можно выбирать ту или иную позицию, отстаивать ее или опровергать, применять различные теоретические схемы, ставить новые вопросы и вести осмысленный диалог. Именно поэтому, видимо, немалое число антропологов, занимающихся постсоветским пространством, пишут сегодня на исторические темы. Я также решил пойти по этому пути.
В фокусе моих интересов будут понятия, которыми обычно описывается и характеризуется среднеазиатское общество, – традиционное/нетрадиционное, модернизированное/немодернизированное, советское/несоветское, колонизированное/неколонизированное. В основной части книги я покажу, как неоднозначно эти понятия соотносятся с фактами и свидетельствами, собранными мной в Ошобе. Такая задача требует, конечно, каких-то теоретических рамок и отсылок к ведущимся на более широком научном поле исследованиям и дискуссиям. Во введении я попытаюсь прочертить эти рамки, чтобы было ясно, под каким углом зрения я рассматриваю и анализирую свой материал, – кратко, опираясь на историографию, я попробую показать проблемность перечисленных выше понятий, споры, которые они вызывают, и направления поисков, которые ведутся, чтобы оправдать и обновить их либо отвергнуть.
Традиционность
Краткий анализ идей, обсуждаемых в книге, начну с советских корней. Разумеется, я не претендую на полное и подробное описание разных мнений и вопросов, а затрону лишь те, которые, как мне кажется, оказали влияние на мои собственные размышления об Ошобе.
Описывать советский язык постановки и обсуждения тех или иных проблем непросто. Дело в том, что он существовал и менялся в особом политическом и идеологическом режиме, который предъявлял довольно жесткие требования к тому, чтó и как говорится, подвергал сказанное и написанное внимательной цензуре. В этом режиме дискуссия часто велась полунамеками, подчеркнуто марксистская риторика могла скрывать не вполне марксистские предпочтения, да и вообще все имеющиеся разногласия, которые могли проявляться в устных диспутах, не находили своего отражения в литературе. Здесь мне отчасти помогает не только внимательное чтение советских книг и статей, но и своеобразное включенное наблюдение, то есть личное знакомство со многими советскими исследователями, беседы с ними, знание академической повседневности. Взгляд изнутри дополняет тексты, позволяет увидеть в последних то, что иногда осознанно или неосознанно в них пряталось, говорилось иносказательно, а это дает, как мне кажется, более полную и точную картину состояния умов ученых в советские годы.
Пожалуй, самая сложная для советских этнографов проблема состояла в том, как писать о современности. Эта общая проблема включала в себя множество частных вопросов: с какого времени заканчивается не-современность и начинается современность, какие признаки считать несовременными или современными? Не буду вдаваться в подробный анализ мнений по всем этим пунктам, а остановлюсь кратко лишь на понятии пережитков, вокруг которого разворачивались дебаты среди ученых, писавших о Средней Азии.
Изначально понятие «пережитки» использовалось, чтобы реконструировать прошедшие стадии исторического развития, и подразумевало своего рода артефакты сродни археологическим, которые затерялись где-то под толщами земли, утратили свое прежнее значение и которые надо раскопать и с их помощью узнать о том, что было когда-то, в исчезнувшие эпохи. Такой взгляд приводил к интересному эффекту: в некоторых местах обнаруживались огромные залежи подобных артефактов-пережитков, поэтому делался вывод, что кое-где прошлое сохраняется по сей день, а пережитки являются действующими элементами социальной жизни. Эти места прошлого локализовались на тех или иных территориях, в различных социальных группах и культурах, а путешествие этнографа, предпринятое для их поисков, воспринималось и описывалось как путешествие из настоящего в глубь веков. Средняя Азия принадлежала, с точки зрения российских ученых, именно к таким местам.
Такое положение дел сохранялось еще в 1930-е годы, когда этнографы воспринимали среднеазиатские общества как отсталые. Классические работы того времени так и назывались: «Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Вахио-боло» и «Патриархальная домашняя община и общинные дома у ягнобцев»55
Кисляков Н.А. Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Вахио-боло. Л.: АН СССР, 1936; Кондауров А.Н. Патриархальная домашняя община и общинные дома у ягнобцев. М.; Л.: АН СССР, 1940.
[Закрыть]. Советский этнограф Александр Кондауров, проводивший исследования в 1934—1935 годах в Ягнобе (высокогорной области Таджикистана), так формулировал свою цель: «…изучение тех остатков предшествующих стадий общественного развития ягнобцев, которые еще можно засвидетельствовать в настоящее время или о которых можно говорить, что они существовали в недавнем прошлом…»66
Кондауров А.Н. Патриархальная домашняя община. С. 7. В книге есть интересное примечание о том, что работа написана до выхода в свет труда «Краткий курс истории ВКП(б)», а потому в ней употребляются «ныне устаревшие термины» – такие, как первобытный коммунизм, первобытно-коммунистическое общество (Там же. С. 9).
[Закрыть]. При этом понятие пережитков оставляло поле для маневра – их всегда можно было объявить содержанием или формой, сутью или оболочкой, в зависимости от личных предпочтений либо идеологических требований. Тот же Кондауров утверждал, например, что прошлое в настоящем как бы уже и не совсем прошлое: при феодальном строе та же община уже не была настоящей первобытной общиной, а служила «оболочкой для эксплоатации трудящихся», большие же домохозяйства при социализме («в эпоху великой Сталинской конституции») перестали быть «патриархальными общинами в собственном смысле слова»77
Там же. С. 27.
[Закрыть].
Похожую манипуляцию с понятием пережитков демонстрировали так называемые колхозные монографии 1950—1960-х годов88
См. подробнее: Алымов С. Неслучайное село: советские этнографы и колхозники на пути «от старого к новому» и обратно // Новое литературное обозрение. 2010. № 1. С. 109—129.
[Закрыть]. По Средней Азии таковых было шесть, в том числе одна по Таджикистану и две по Узбекистану99
Ершов Н.Н., Кисляков Н.А., Пещерева Е.М., Русяйкина С.П. Культура и быт таджикского колхозного крестьянства (По материалам колхоза имени Г.М. Маленкова Ленинабадского района Ленинабадской области Таджикской ССР). М.; Л.: АН СССР, 1954; Сухарева О.А., Бикжанова М.А. Прошлое и настоящее селения Айкыран (Опыт этнографического изучения колхоза имени Сталина Чартакского района Наманганской области). Ташкент: АН Узбекской ССР, 1955; Этнографические очерки узбекского сельского населения / Г. Васильева, Б. Кармышева (отв. ред.). М.: Наука, 1969.
[Закрыть]. В исследованиях принимали участие не только московские и ленинградские, но и среднеазиатские этнографы – иногда в качестве помощников-аспирантов, иногда в качестве соавторов.
Язык, которым были написаны книги в 1950-е годы, отличался демонстративными проявлениями идеологической лояльности, большим количеством цитат из произведений классиков марксизма и партийных лидеров, многочисленными лозунгами, прославляющими достижения советской власти. Вот, например, как это выглядело в узбекской монографии, авторами которой были замечательные этнографы Ольга Сухарева и Муршида Бикжанова: «…история селения Айкыран и образовавшегося в нем колхоза им. Сталина отражает победу ленинско-сталинской национальной политики нашей партии. Она показывает в подробностях грандиозную перестройку всей жизни и быта узбекского народа, вызванную Великой Октябрьской социалистической революцией…», и далее: «Главной задачей, которую поставили перед собой авторы настоящего труда, было выявление черт, порожденных эпохой социализма, в быту и культурном облике современного сельского населения. Мы старались показать, как эти новые, прогрессивные черты складываются в борьбе с пережитками феодального прошлого, особенно живучими в области идеологии…»1010
Сухарева О.А., Бикжанова М.А. Прошлое и настоящее селения Айкыран. С. 3.
[Закрыть].
Издание колхозных монографий сопровождалось жаркими спорами, в которых, благодаря постановке вопросов методики и методологии, обсуждалось, как нужно смотреть на среднеазиатское общество, каким его видеть. Толчком к спорам послужило разочарование первыми результатами изучения колхозного крестьянства. Публикации на эту тему выглядели формальными, шаблонными, поверхностными, скучными. Московский этнограф Павел Кушнер выступил со статьей1111
Кушнер П.И. Об этнографическом изучении колхозного крестьянства // Советская этнография [далее – СЭ]. 1952. № 1. С. 135—141.
[Закрыть], в которой провозгласил, что причиной неудачи или тупика является несовершенство методики полевых исследований. Вместо анкетных опросов и разведок он предложил шире использовать стационарный метод исследования с длительным проживанием в поле и с практикой наблюдения за тем, что происходит в жизни изучаемого общества. Другим направлением критики Кушнера стал тот факт, что этнографы слишком много внимания уделяли истории колхоза, организации колхозного производства, разного рода цифрам по колхозной экономике, тогда как «национальная специфика» культуры и быта проходила мимо их внимания. Он выступил за отказ от «экономизма» и за изучение «народной жизни в ее бытовых проявлениях»: «Разве социалистическое сознание колхозников формируется только под влиянием колхозной экономики?»1212
Кушнер П.И. Об этнографическом изучении колхозного крестьянства. С. 140. К слову, позже он отказался от этих слов и назвал их ошибочными.
[Закрыть] Кушнер предложил, в частности, поставить в центр изучения не колхоз, а селение, мотивируя это тем, что не все сельские жители являются членами колхоза и что жизнь людей не сводится только к колхозной жизни.
Этнографы, поддержав стационарные исследования1313
Кисляков Н.А. К вопросу об этнографическом изучении колхозов // СЭ. 1952. № 1. С. 146—149; Сухарева О.А. Ферганская этнографическая экспедиция // СЭ. 1954. № 3. С. 114.
[Закрыть], высказали, однако, и опасения, что «…частные, местные явления… могут быть ошибочно признаны общими для республики и народа…», поэтому «…как бы ни был типичен избранный для работы колхоз, его нельзя исследовать обособленно»1414
Жданко Т.А. Этнографическое исследование культуры и быта колхозного крестьянства СССР // Acta ethnographica Academiae scientiarum Hungaricae. T. V, fasciculi 3—4. Budapest, 1956. С. 218, 219. См. также: Абрамзон С.М. Об этнографическом изучении колхозного крестьянства // СЭ. 1952. № 3. С. 145—150.
[Закрыть]. Что же касается предложения Кушнера отказаться от изучения колхозного производства, то оно встретило возражения1515
Сухарева О.А. Этнографическое изучение колхозного крестьянства Средней Азии // СЭ. 1955. № 3. С. 30—42; Кисляков Н.А. Опыт работы коллектива по изучению быта таджикского колхозного крестьянства // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. Вып. 26. М., 1957. С. 61—62.
[Закрыть]. Кто-то критиковал ученого за «бытовизм» и настаивал на том, что этнографы обязательно должны изучать экономику, так как все стороны жизни тесно связаны между собой. Кто-то был против того, чтобы противопоставлять колхоз и село, поскольку колхоз сливается с селом, да и сам колхоз – это не только производственный, но и «общественно-политический» коллектив. Кто-то, наконец, писал, что недостаточно обращаться к памяти и восприятию людей – нужно работать и со статистикой, архивами, анкетами, чтобы составить полное представление об обществе.
К концу 1950-х годов характер критики колхозных монографий изменился: если раньше их авторов обвиняли в том, что они преувеличивают значение пережитков, то теперь был выдвинут противоположный упрек – в том, что они скрывают многие недостатки, показывают жизнь приукрашенной, без проблем и «отрицательных сторон колхозной жизни», замалчивают существование социальных противоречий в обществе1616
Жданко Т.А. Этнографическое исследование культуры. С. 218. См. также: Алымов С. П.И. Кушнер и развитие советской этнографии в 1920—1950-е годы. М., 2006. С. 203, 204.
[Закрыть]. Это изменило взгляд ученых, которые задались вопросом, почему пережитки сохраняются. Пожалуй, наиболее углубленно на эту тему среди этнографов размышлял Глеб Снесарев1717
См. также работы философа-религиеведа: Саидбаев Т. Ислам и общество: Опыт историко-социологического исследования. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1978.
[Закрыть].
Снесарев резко выступил против тех, кто отвергал наличие пережитков: «Оспаривать наличие этих пережитков и степень их отрицательного влияния на некоторую часть населения нашей страны могут только те, кто стоит в стороне от жизни, не сталкивается с окружающей действительностью»1818
Снесарев Г.П. О некоторых причинах сохранения религиозно-бытовых пережитков у узбеков Хорезма // СЭ. 1957. № 2. С. 60.
[Закрыть]. Он считал, что поскольку внимание к пережиткам ослабло, то сложилось мнение, что они лишились прежнего значения и быстро отмирают, хотя «дело обстоит значительно сложнее». Ученый полагал, что надо не только раскрыть «подлинную картину их бытования», но и установить причины сохранения тех или иных пережитков до наших дней, при этом, по его словам, «было бы неверным искать какую-то единую, универсальную, все объясняющую причину этих явлений. Причины могут быть различны у разных народов, в разных слоях населения, у лиц разного возраста, наконец, – в женском быту»1919
Там же. С. 61.
[Закрыть].
Снесарев разделил причины сохранения пережитков на общие и специфические. К первым он отнес «отставание сознания от развития производительных сил и производственных отношений», Великую Отечественную войну и ее последствия, влияние капиталистического окружения, недостатки культурно-воспитательной работы. Во вторые – специфические – московский этнограф включил культурную отсталость женщин и изоляцию быта семьи, «одной из наиболее консервативных ячеек общества»2020
Снесарев Г.П. О некоторых причинах сохранения религиозно-бытовых пережитков у узбеков Хорезма // СЭ. 1957. № 2. С. 66.
[Закрыть]. Другой специфической причиной было существование общественного мнения и общины: Снесарев подчеркнул, что «реликты общины занимают, несомненно, одно из первых мест» среди причин сохранения религиозных пережитков, «…элат с его замкнутостью, с особым внутренним укладом, построенным на старых традициях, с влиянием группы стариков является той ячейкой, в которой консервируются пережитки прошлого»2121
Там же. С. 67, 70—72.
[Закрыть].
Что касается последнего пункта про общину, то Снесарев не пояснял, как, собственно, сама эта община смогла дожить до 1950-х годов. Но на эту тему еще в далеком 1949 году высказывалась московский этнограф Татьяна Жданко, которая обнаружила, что у каракалпаков родовая организация по-прежнему играет заметную роль в колхозной жизни, а колхозные бригады представляют собой по сути родовые подразделения2222
Жданко Т.А. Быт каракалпакского колхозного аула (Опыт этнографического изучения колхоза им. Ахунбабаева Чимбайского района Каракалпакской АССР) // СЭ. 1949. № 2. С. 42, 43.
[Закрыть]. Похожие наблюдения сделала ленинградский этнограф Роза Рассудова, которая в последней колхозной монографии, изданной в 1969 году, недвусмысленно писала о том, что узбекские колхозы в окрестностях Самарканда формировались и развивались на основе общинных структур, общинные же интересы совпадали с колхозными2323
Этнографические очерки узбекского сельского населения. С. 90—97.
[Закрыть].
В конце 1980-х к проблеме пережитков в среднеазиатском обществе возвращается еще один московский этнограф – Сергей Поляков. В 1989 году он издал небольшую книжку «Традиционализм в современном среднеазиатском обществе»2424
Поляков С.П. Традиционализм в современном среднеазиатском обществе. М.: Центральный дом научного атеизма, 1989. С. 8 (переиздано в сборнике: Мусульманская Средняя Азия: Традиционализм и XX век / Д. Арапов (отв. ред.). М.: Центр цивилизационных и региональных исследований, 2004. С. 123—233; английский перевод: Polyakov S. Everyday Islam: Religion and Tradition in Rural Central Asia. Armonk, NY: M.E. Sharp, 1992). Попутно хочу обратить внимание на то, что часто эту книгу Полякова рассматривают в качестве типичного образца советского анализа, не замечая, что она, как и ряд статей этого ученого, появилась в самом конце советской эпохи, была недоступна для массового читателя и вызывала сомнения у многих более ортодоксальных советских исследователей и идеологов.
[Закрыть]. Следуя логике Снесарева, Поляков объявил, что книга посвящена традиционализму, и дал определение этому явлению: «“традиционализм”, “традиционное общество” – это полное отрицание чего-либо нового, привнесенного извне в привычный, “традиционный” образ жизни. Традиционализм не просто выступает против нового. Он активно требует постоянной корректировки образа жизни по старой, изначальной или “классической” модели»2525
Там же. С. 3.
[Закрыть]. При этом он критиковал понятие пережитков: «К сожалению, исследования современного традиционализма не всегда дают реальную картину <…> Помимо несовершенства, а чаще и просто негодности методов сбора первичной информации (анкетирование), неприемлема в подавляющем большинстве исследований и методологическая основа понимания явления. Оно трактуется и оценивается только как пережиток ранних форм общественного сознания, что и влечет за собой дезинформацию на всех уровнях о реальном значении традиционализма в среднеазиатском обществе. Только пережитком, в марксистском понимании этого явления, он никогда не был. Традиционализм всегда выступал как отражение социально-экономического строя, как образ жизни, основанный на специфической хозяйственной структуре»2626
Там же. С. 8.
[Закрыть].
В отличие от других своих коллег, в том числе Снесарева, Поляков видел в советской Средней Азии не отдельные фрагменты несовременности, а внутренне целостное несовременное общество, включающее в себя все основные элементы такового: общину, семейно-родственную группу, мужские объединения. Эти элементы, в свою очередь, опираются на «мелкобуржуазное производство», иначе говоря, на теневую экономику, которая дает основные источники доходов для местного населения. Все это и составляет суть того социального строя, который существовал в регионе в советское время, тогда как политические институты и идеология являются лишь прикрытием, формой без содержания. Такова была логика его интерпретации.
Сходную с точкой зрения Полякова позицию в конце 1980-х годов разделяло, пожалуй, большинство советских этнографов и специалистов в других дисциплинах2727
См.: Бушков В.И. Таджикский «авлод» тысячелетия спустя… // Восток. 1991. № 5. С. 72—81; Лобачева Н.П. Древние социальные институты в жизни современной семьи народов Средней Азии // Семья. Традиции и современность / О. Ганцкая, И. Гришаев (отв. ред.). М.: ИЭА АН СССР, 1990. С. 27—50; Олимов М.А. Эталон некапиталистического развития? // Народы Азии и Африки. 1989. № 4. С. 18—26.
[Закрыть]. Например, в статье С.В. Чешко «Средняя Азия и Казахстан: современное состояние и перспективы национального развития», которая появилась в том же 1989 году, также говорилось, что преобразования советского времени не привели к разрушению прежних, досоветских структур и отношений: «Патриархально-общинный уклад модифицировался в своеобразный колхозно-общинный уклад с чертами крепостной зависимости»2828
Чешко С.В. Средняя Азия и Казахстан: современное состояние и перспективы национального развития // Расы и народы. Вып. 20. М.: Наука, 1989. С. 112, 113.
[Закрыть]. При этом автор подчеркивал, что коллективизация способствовала «…консервации и воспроизводству патриархально-общинных и феодально-патриархальных форм социальной организации», тогда как индустриализация «проводилась преимущественно на базе местного европейского населения <…> и мало затронула коренное сельское население»2929
Там же. С. 113.
[Закрыть].
Упомяну еще две статьи, которые были опубликованы в журнале «Восток» в 1991 году: Юрия Александрова «Средняя Азия: специфический случай экономической слаборазвитости» и Валентина Уляхина «Многоукладность в советской и зарубежной Азии»3030
Александров Ю.Г. Средняя Азия: специфический случай экономической слаборазвитости // Восток. 1991. № 2. С. 142—154; Уляхин В.Н. Многоукладность в советской и зарубежной Азии // Там же. С. 129—141.
[Закрыть]. Хотя эти авторы не занимались изучением Средней Азии, а были специалистами по зарубежным странам, хотя оба они были экономистами, а не этнографами и хотя, наконец, их статьи вышли в последний год существования СССР, когда критика советского строя была нормой, – названные статьи демонстрируют те точки зрения и те способы мыслить, которые сформировались в советское время и, очевидно, прятались за разными жанрами эзопова языка. В обоих текстах, написанных под явным влиянием упомянутой выше книги Полякова, Средняя Азия описывается через аналитическую рамку третьего мира.
Александров ввел для характеристики среднеазиатской экономики понятия слаборазвитости и периферии. Автор говорил о «централизованном перераспределении», о «мощных центрах частных интересов и давления», которые в советской экономике доминировали и подчиняли себе все другие хозяйственные секторы. Хлопковая монокультура, основанная на принудительном труде в колхозах, превратилась в самодостаточное монопольное производство, которое утратило связь с задачами развития Средней Азии. Александров прямо сравнивал среднеазиатскую экономику с прежними колониальными порядками в Индонезии, где голландцы развивали сахарные плантации, консервируя местные традиционные социальные структуры, и называл среднеазиатское общество квазисовременным3131
Александров Ю.Г. Средняя Азия. С. 147.
[Закрыть]. Правда, исследователь избегал того, чтобы называть советскую Среднюю Азию колониальной, хотя фактически описывал ее именно в качестве таковой.
В статье Уляхина использовалось понятие многоукладности, которое восходит к работам Ленина о переходе к социализму3232
См., например: Ленин В.И. О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности // В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. М.: Издательство политической литературы, 1969. Т. 36. С. 285—314.
[Закрыть], – очень популярное в 1960—1970-е годы в качестве объяснения происходивших в третьем мире процессов. По мнению автора, «модернизация по-советски, узко понимавшаяся как индустриализация по преимуществу» не смогла создать целостную экономическую систему отношений, «регион оказался неподготовленным к привнесенной извне индустриализации», поэтому здесь сохранились другие общественно-экономические уклады, в первую очередь «органичное для Средней Азии» мелкое производство и социальная структура «доиндустриального прототипа»3333
Уляхин В.Н. Многоукладность в советской и зарубежной Азии. С. 135, 136.
[Закрыть]. Однако, рассуждал автор, в советское время различным укладам не была предоставлена возможность постепенного развития и власть пыталась искусственно насадить крупнопромышленный государственный уклад, что и создавало в среднеазиатском обществе проблемы, дисбалансы и тупики. Пафос статьи заключался в том, что нужно отказаться от политики навязывания многоукладному обществу какой-то одной модели, предоставить всем формам хозяйствования легальный статус и обеспечить тем самым подлинную модернизацию.
Итак, советские этнографы – и представители других научных дисциплин – не могли не заметить, что общие вроде бы для всего советского общества трансформации в Средней Азии имели свою специфику. Проводимые властью реформы, которые должны были нивелировать различия, не достигали своей цели – среднеазиатские республики по-прежнему оставались другим/особым миром внутри одного государства. Понятийный словарь, который находился в распоряжении этнографов, позволял им описывать этот мир как «прошлое», которое по ряду причин (их список и являлся предметом разногласий) задержалось в «настоящем», что в итоге логически неизбежно вело к игнорированию вообще каких-либо изменений, а далее – и к отказу среднеазиатам в самой способности меняться. Концепция традиционализма усложняла понимание советского общества, позволяла увидеть в нем многообразие социальных – а также культурных – отношений. Но при этом она заменяла закрашенную в один цвет картину на простую двухцветную схему, в которой две половины – традиционализм и модерность – противопоставлялись друг другу как несовместимые полюса.
Модерность
Мнение о том, что среднеазиатское общество было и остается по существу традиционным, получило в 1990-е годы широкое распространение в российской науке3434
См., например: Малашенко А.В. Мусульманский мир СНГ. М.: Ариэль, 1996; Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М.: Восточная литература, 1995; Карлов В.В. Народы Средней Азии и Казахстана // В.В. Карлов. Этнокультурные процессы новейшего времени. М.: ИЭА РАН, 1995. С. 89—137.
[Закрыть]. Однако остается вопрос, чтó с ним произошло или не произошло в советское время, были ли хотя бы какие-то результаты у тех реформ, которые проводились в советскую эпоху, и если были, то каким образом их можно описать и охарактеризовать?
Поляков в статье «Современная среднеазиатская деревня: традиционные формы собственности в квазииндустриальной системе» предложил заменить понятие социализма понятием индустриального общества и рассматривать советское общество как переходное от доиндустриальной «общественно-производственной системы» к индустриальной3535
Поляков С.П. Современная среднеазиатская деревня: традиционные формы собственности в квазииндустриальной системе // Крестьянство и индустриальная цивилизация / Ю. Александров, С. Панарин (отв. ред.). М.: Наука, Восточная литература, 1993. С. 174.
[Закрыть]. По его мнению, перехода этого не произошло и сложилась квазииндустриальная система, которая на самом деле представляла собой «аграрное среднеазиатское общество уже в сталинской, общинно-крепостнической форме»3636
Там же. С. 176, 177.
[Закрыть]. Поляков, таким образом, оставаясь в рамках марксистского языка, пытался как-то подправить его с помощью новых терминов, чтобы описать объект своего исследования.
Российский демограф Анатолий Вишневский в статье «Средняя Азия: незавершенная модернизация» отказался от сложной марксистской терминологии и взял на вооружение простую дихотомию «традиционность/модерность». Вишневский пишет, что вхождение региона в Российскую империю было «историческим поворотом», вовлечением его в модернизационные процессы, хотя «застойность» среднеазиатского общества не была поколеблена, поскольку советская «модель ускоренной экономической модернизации» не была ориентирована на Среднюю Азию и имела там «лишь ограниченное применение»3737
Вишневский А. Средняя Азия: незавершенная модернизация // Вестник Евразии [далее – ВЕ]. 1996. № 2. С. 137, 138. Схожие понятия незавершенной или ограниченной модернизации использовали, например, британский политолог Ширин Акинер и американский политолог Уильям Фиерман, см.: Akiner Sh. Social and Political Reorganisation in Central Asia: Transition from Pre-Colonial to Post-Colonial Society // Post-Soviet Central Asia / T. Atabaki, J. O’Kane (eds.). London and New York: Tauris Academic Studies, 1998. P. 1—34; Fierman W. The Soviet «Transformation» in Central Asia // Soviet Central Asia: The Failed Transformation / W. Fierman (ed.). Westview Press, 1991. P. 11—35. При этом если Акинер подчеркивает успехи трансформации во многих сферах, то Фиерман рассматривает среднеазиатское общество как зависимую колонию и пишет скорее о модернизационной неудаче.
[Закрыть]. В результате модернизация этого региона началась, но осталась, как полагает автор, незавершенной. Хотя изменения привели к усилению «горизонтальных связей» и кризису «локальных интеграторов», в целом, однако, среднеазиатское общество осталось «вертикальным» (иерархизированным, сегрегированным) и сохранило, пусть в скрытом виде, все основные элементы традиционности – общинные структуры, пронизанные родовыми и семейно-родственными связями, ограничение самостоятельности индивида, распределение социальных полномочий «по вертикали». Советская система, по мнению Вишневского, играла при этом противоречивую роль: с одной стороны, она не мешала традиционализму и даже консервировала его, с другой – «несомненно смогла запустить механизм модернизации», но «не сумела довести ее до конца»3838
Вишневский А. Средняя Азия: незавершенная модернизация. С. 152.
[Закрыть].
Теория (или теории) модернизации, в рамках которой Вишневский сформулировал свое понимание среднеазиатских реалий, подвергается ожесточенной критике уже не менее полувека. Значительную часть претензий к ней сформулировал в уже далеком 1973 году Дин Типпс в статье «Теория модернизации и сравнительное изучение обществ: критическая перспектива»3939
Tipps D. Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: A Critical Perspective // Comparative Studies of Society and History. 1973. Vol. 15. № 2. P. 199—226.
[Закрыть]. Он разделил претензии на три группы: идеологические, эмпирические и методологические.
Критика идеологической составляющей заключается в том, что, говоря о будто бы универсальной модерности, сторонники этого понятия за точку отсчета либо за основную модель берут западное общество или даже англо-американское, относя все, что с ним не совпадает, к традиционализму. При этом ими не учитывается в полной мере тот факт, что западное общество, которое само включает в себя разные социальные и культурные типы, сформировалось в конкретных обстоятельствах, не являющихся общими и одинаковыми для всех. В этой схеме заложена, как считал Типпс, возникшая после Второй мировой войны асимметричность отношений между разными странами, где доминирующие силы диктовали подчиненным свои правила и ценности как универсальные. Теория модернизации несет на себе, следовательно, явные черты этноцентризма и идеологической предвзятости.
Эмпирическая критика, о которой писал Типпс, указывает на «несостоятельность взгляда теории модернизации на природу традиции и модерности, их динамики и взаимосвязей»4040
Ibid. P. 216.
[Закрыть]. Типпс обратил внимание, например, на то, что модерность вряд ли можно анализировать как закрытую систему, в которой разные процессы взаимосвязаны и изменения в одной сфере обязательно ведут к изменениям в других. В действительности можно наблюдать либо параллельную трансформацию тех или иных элементов, либо даже обратное воздействие – когда модернизация одной сферы ведет к традиционализации другой (например, появление новых средств информации приводит к распространению знаний о традициях и их усилению). Здесь можно вспомнить рассуждения британского историка Эрика Хобсбаума об изобретении традиций, которое происходит во всех, в том числе современных, обществах (например, в виде национальных традиций)4141
Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition / E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 1—14 (русский перевод: Хобсбаум Э. Изобретение традиций // ВЕ. 2000. № 1. С. 47—62).
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?