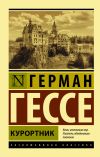Текст книги "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"

Автор книги: А. Злочевская
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Своеобразным «мостиком» между двумя реальностями – «действительной» и художественной – становится у Достоевского реальность «сновидческая».
«Самый фантастический сон, – замечает повествователь в романе „Идиот“, – обратился вдруг в самую яркую и резко обозначившуюся действительность»[Д., T.8, c.470].
Грань между сновидческой реальностью и «жизнью действительной» почти стирается.
«В болезненном состоянии, – говорит повествователь в „Преступлении и наказании“, – сны отличаются часто необыкновенною выпуклостью, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбужденный организм человека» [Д., T.6, c.45–46].
Свою концепцию художественных снов Достоевский высказал также в известных размышлениях на страницах романа «Идиот»:
«Иногда снятся странные сны, невозможные и неестественные; пробудясь, вы припоминаете их ясно и удивляетесь странному факту: вы помните прежде всего, что разум не оставлял вас во все продолжение вашего сновидения; вспоминаете даже, что вы действовали чрезвычайно хитро и логично во все это долгое, долгое время, когда вас окружали убийцы, когда они с вами хитрили, скрывали свое намерение, обращались с вами дружески, тогда как у них уже было наготове оружие, и они лишь ждали какого-то знака; вы вспоминаете, как хитро вы их наконец обманули, спрятались от них; потом вы догадались, что они наизусть знают весь ваш обман и не показывают вам только вида, что знают, где вы спрятались; но вы схитрили и обманули их опять, все это вы припоминаете ясно. Но почему же в то же самое время разум ваш мог помириться с такими очевидными нелепостями и невозможностями, которыми, между прочим, был сплошь наполнен ваш сон? Один из ваших убийц в ваших глазах обратился в женщину, а из женщины в маленького, хитрого, гадкого карлика, – и вы все это допустили тотчас же, как совершившийся факт, почти без малейшего недоумения, и именно в то самое время, когда с другой стороны ваш разум был в сильнейшем напряжении, выказывал чрезвычайную силу, хитрость, догадку, логику? Почему тоже, пробудясь от сна и совершенно уже войдя в действительность, вы чувствуете почти каждый раз, а иногда с необыкновенною силой впечатления, что вы оставляете вместе со сном что-то для вас неразгаданное? Вы усмехаетесь нелепости вашего сна и чувствуете в то же время, что в сплетении этих нелепостей заключается какая-то мысль, но мысль уже действительная, нечто принадлежащее к вашей настоящей жизни, нечто существующее и всегда существовавшее в вашем сердце; вам как будто было сказано вашим сном что-то новое, пророческое, ожидаемое вами; впечатление ваше сильно, оно радостное или мучительное, но в чем оно заключается и что было сказано вам – всего этого вы не можете ни понять, ни припомнить» [Д., T.8, c.337–338].
Сновидец у Достоевского приравнивается к великим художникам, а вся картина, увиденная во сне, – к произведению искусства. Возникает концепция сновидческой реальности, предвосхитившая набоковский металитературный «организованный сон»– симбиоз реальности-воображения-памяти [Н1., T.4, c.345–351][47]47
В качестве источника используется следующее издание: Набоков В.В. Собрание сочинений американского периода: В 5 томах. СПб., 1997–1999.
Здесь и далее англоязычные сочинения писателя цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы и с пометой Н1.
[Закрыть].
Примечательно, что в моменты рассуждений о художественных снах, столь значимых с точки зрения определения специфики эстетического мироощущения писателя, происходит одна из метаморфоз лика повествователя вполне в духе метафикшн, когда он открыто проявляет себя как Автор текста. В «Преступлении и наказании», где наррация максимально объективна и ведется от лица повествователя безличного, это ощутимо особенно резко, на грани эстетического шока. А вот в «Идиоте» Автор обнаруживает себя не только в пассажах о художественных снах, но, уже совершенно открыто, в рассуждениях о человеческих и художественных типах.
«Есть люди, о которых трудно сказать что-нибудь такое, что представило бы их разом и целиком, в их самом типическом и характерном виде; это те люди, которых обыкновенно называют людьми „обыкновенными“, „большинством“, и которые, действительно, составляют огромное большинство всякого общества. Писатели в своих романах и повестях большею частию стараются брать типы общества и представлять их образно и художественно, – типы, чрезвычайно редко встречающиеся в действительности целиком и которые тем не менее почти действительнее самой действительности <…> …Не вдаваясь в более серьезные объяснения, мы скажем только, что в действительности типичность лиц как бы разбавляется водой, и все эти Жорж-Дандены и Подколесины существуют действительно, снуют и бегают пред нами ежедневно, но как бы несколько в разжиженном состоянии. Оговорившись, наконец, в том, для полноты истины, что и весь Жорж-Данден целиком, как его создал Мольер, тоже может встретиться в действительности, хотя и редко <…> Тем не менее, все-таки пред нами остается вопрос: что делать романисту с людьми ординарными, совершенно „обыкновенными“, и как выставить их перед читателем, чтобы сделать их хоть сколько-нибудь интересными? Совершенно миновать их в рассказе никак нельзя, потому что ординарные люди поминутно и в большинстве необходимое звено в связи житейских событий; миновав их, стало быть, нарушим правдоподобие. Наполнять романы одними типами или даже просто, для интереса, людьми странными и небывалыми было бы неправдоподобно, да, пожалуй, и не интересно. По-нашему, писателю надо стараться отыскивать интересные и поучительные оттенки даже и между ординарностями <…> К этому-то разряду „обыкновенных“ или „ординарных“ людей принадлежат и некоторые лица нашего рассказа» [Д., T.8, c.383–384].
Перед нами типичный для метапрозы выход Автора на уровень героя.
Образ повествователя в романах Достоевского вообще чрезвычайно оригинален. В нем, как правило, соединены несколько ликов рассказчика: объективный, безличный; персонифицированный – герой или персонаж романа; собиратель слухов и, наконец, собственно Автор. Все ипостаси соединены в одно целое фигуры повествователя и, сменяя друг друга или даже наплывая одна на другую, организуют нарративный пласт романа. Скажем, в «Преступлении и наказании» безусловно доминирует маска повествователя объективно-безличного, а в «Подростке», напротив, рассказчик – сам главный герой, а свое неприсутствие в некоторых сценах он компенсирует информацией с чужих слов. В «Идиоте» рассказчика объективного сменяет собиратель слухов, а в отдельные моменты обнаруживает свой лик Автор. В «Бесах» формально повествование ведет Хроникер – персонаж и участник романного действия, а также собиратель слухов. Но есть в романе несколько моментов – например, вся сцена «У Тихона», – где повествование ведется от лица всезнающего объективного рассказчика, ибо в поле зрение Хроникера она попасть не могла никоим образом. Есть еще один момент – посещение Ставрогиным Марии Тимофеевны в главе «Ночь», когда объективный повествователь словно продолжает рассказ Хроникера[48]48
См.: Степанян К. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского. СПб, 2010. С.241–242.
[Закрыть]. Наконец, в «Братьях Карамазовых» все нарративные потоки, лики и маски соединены в органичное целое.
Так сложное взаимодействие нескольких масок творит образ повествователя, который проявляет себя как нарративный прием, во всем многообразии своих потенций – от рассказчика безлично-объективного до самостоятельного персонажа. Это некий энергетический сгусток, сотканный из подходящей словесной массы, лексической и стилистической, и готовый воплотиться в любой образ.
Аналогичен, как я покажу позднее, и образ рассказчика – повествователя – Автора у Булгакова в «Мастере и Маргарите» и у Набокова в «Даре».
Итак, поэтике Достоевского, как видим, свойственны черты, предвосхитившие эстетику металитературы:
– паритетные отношения между двумя реальностями – художественной и материально-физической;
– художественный образ как литературно-документальная амальгама;
– напряженная интертекстуальность;
– выход Автора на уровень романного действия – «авторские вторжения»[49]49
Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. М., 1998. Т.2. С.60—280.
[Закрыть].
Конечно, есть принципиальное различие между эстетикой автора «Братьев Карамазовых» и представителей метапрозы XX в. Для Достоевского-художника сотворение новых интертекстов, сверхнасыщенных историко-культурными и литературными аллюзиями, не самоцель, а средство постижения глубинных законов бытия человеческого духа. Сочинительство как игра не его стихия, хотя на подсознательном уровне он, конечно же, homo ludens, как и всякий художник.
Нет, Достоевский никогда не обнажал сочиненность происходящего в своих романах. В эпоху расцвета классического реализма – его «золотого века» – подчеркивать «сделанность» своих произведений было немыслимо: это значило бы сознательно выставить себя на всеобщее осмеяние и подвергнуться остракизму. Однако писатель явно следует не канонам мимесиса «жизни действительной», но «жизнетворчества»: он творит «вторую реальность» художественного текста, создавая насыщенные историко-культурные и литературные аллюзийно-реминисцентные образы. Метаповествование, хотя и не является доминантой характеристикой творческого стиля автора «Братьев Карамазовых», тем не менее проявляет себя в его художественных сочинениях вполне отчетливо.
В результате рождается стиль совершенно оригинальный: в основе его – высокое напряжение между видимым стремлением к созданию «жизнеподобной» реальности и, по существу, метапоэтикой.
Сильное влияние если не творческой личности Достоевского, то его художественного стиля испытали на себе и Гессе, и Набоков, и Булгаков, хотя, как известно, по-разному к нему относились.
Если влияние Достоевского на творчество Гессе и Булгакова сомнений не вызывает, то в случае Набокова оно кажется весьма проблематичным. И все же, несмотря на субъективное неприятие Достоевского, Набоков развивался в русле его литературной традиции, унаследовав экзистенциально-философскую ориентацию творчества, самый комплекс «вечных» вопросов, которые поставил перед человечеством его великий предшественник, а во многом и этический вектор их решения[50]50
См.: Злочевская А.В. Художественный мир Владимира Набокова и русская литература XIX века. М., 2002. С.98—131.
[Закрыть].
Различен и аксиологический аспект восприятия творчества творца «Братьев Карамазовых». Если для Булгакова Достоевский – ориентир бесспорно положительный, то для Набокова – столь же безусловно отрицательный.
Противоречивым принято считать и отношение к Достоевскому Гессе[51]51
Ср.: Мельник В.И. «Русская идея» и «Закат Европы». Г. Гессе о Достоевском // Россия в зеркале времени. Ульяновск, 1996. С.64–69; Дудова Л.В. Трактовка кризиса культуры в статьях Г. Гессе о русской литературе // Дискуссионные проблемы российской истории. Арзамас, 1998. С.481–482; Азадовский К. «Взгляд в хаос» (Достоевский глазами Германа Гессе)//Всемир. слово = Lettreintern. СПб, 1999. № 12. С.12–18; Попова-Бондаренко И. Гессе и Достоевский: коммуникация «зеркальности» // Studia rossica posnaniensia. Poznan, 2008. Z.34. С.34–44 и др.
[Закрыть]. Во многом такое мнение, безусловно, оправданно. Надо, однако, заметить, что позиция писателя со временем менялась.
В знаменитом эссе «„Братья Карамазовы“, или Закат Европы» (1919) Гессе воспринимал творчество Достоевского по преимуществу в аспекте культурологическом и в меньшей мере эстетическом. В этом отличие европейской инонациональной рецепции от «своей» у Набокова и Булгакова, которые видели в Достоевском прежде всего феномен художественный (Набоков – «ужасный», Булгаков – великий).
В глазах Гессе мир Достоевского воплощает собой законченный образец отказа
Герои здесь «характеризуются не свойствами, а способностью в любой миг обрести любое свойство»[53]53
Там же. С. 321–322.
[Закрыть].
«Новый идеал», явленный Европе Достоевским и вызвавший у нее восхищение, на самом деле есть моральный хаос, «тревожный, опасный момент неизвестности на переходе между ничто и всем»[54]54
Там же. С.326.
[Закрыть]. Морально-психологический беспредел Достоевского несет с собой великую угрозу европейской цивилизации. Если европейская культура воплощает собой начало отцовское – это порядок и разум, то азиатская модель – это хаос и торжество начала материнского, основанного на чувственности и неуправляемых страстях. А Достоевский, по убеждению Гессе, это именно безумный ясновидец азиатского типа. И, что самое страшное:
Причем мироощущение такого «больного» исключительно аттрактивно и заразительно – оттого-то столь угрожающим представляется Гессе влияние книг Достоевского на умы европейцев: оно может поглотить западную цивилизацию.
Точка зрения, высказанная Гессе в его эссе-манифесте «Закат Европы», – это позиция публициста, а не художника. В написанной вслед за тем статье «Размышления об „Идиоте“ Достоевского» (1919) Гессе развивает те же мысли, но уже от лица читателя его романов, а не философа и общественного деятеля.
«Для Мышкина высшая реальность – это магическое постижение обратимости любого тезиса, равнозначности полюсов. Если довести эту мысль до конца, „идиот“ утверждает материнское право бессознательного, упраздняет культуру. Он не разбивает скрижали закона, он их переворачивает и показывает, что на оборотной стороне написано нечто прямо противоположное.
В том, что этот враг порядка, этот ужасный разрушитель у Достоевского не преступник, а милый робкий человек, по-детски простодушный и обаятельный, с верным сердцем, исполненным самоотверженной доброты, и заключается тайна этой пугающей книги»[56]56
Гессе Г. Размышления об «Идиоте» Достоевского // Гессе Г. Магия книги. С.300–301.
[Закрыть].
Да, князь Мышкин вызывает сильную симпатию, но это-то и опасно!
В обоих случаях Гессе предстает скорее испуганным обывателем, которому открылись доселе невиданные бездны, чем вдумчивым, чутким и объективным читателем, каким должен быть настоящий писатель. Самое удивительное, что именно фигура такого филистера в «Степном волке» самому Гессе уже ненавистна. Там ориентация на Достоевского – именно на разрушительный, всепоглощающий беспредел – будет скрытой доминантой повествования, заданной на первых же страницах романа [см.: Г., Т.2, с.200][57]57
В качестве источника используется следующее издание: Гессе Г. Собрание сочинений: В 4 томах. СПб., 1994.
Здесь и далее сочинения писателя цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы и с пометой Г.
[Закрыть].
А вот в эссе «Достоевский» (1925) перед нами – непосредственное восприятие совсем иного читателя:
«Обыватель, который читает о Раскольникове, уютно устроившись на диване, и наслаждается ощущением сладкой жути, погружаясь в призрачный мир этого романа, – не настоящий читатель Достоевского, так же, как ученый умница, восхищенный психологизмом его романов и пишущий дельные брошюры о его мировоззрении. Достоевского надобно читать, когда у вас горе, когда мы уже настрадались, дошли до предела и, кажется, больше страдать не можем, когда вся жизнь становится для нас глубокой, жгучей, пылающей раной, и горло сжимает отчаяние, и мы уже мертвы, ибо лишились последних надежд. Когда мы, одинокие и бессильные в своем горе, как бы со стороны взирая на жизнь, уже не постигаем ее неистовой, прекрасной жестокости и уже ничего от нее не ждем, вот тогда мы способны внимать музыке этого страшного и великолепного писателя <…> тогда мы воспринимаем музыку Достоевского, слова утешения и любви, и лишь тогда мы постигаем чудесный смысл созданного им страшного мира, который так часто неотделим от ада.
Две силы покоряют нас в его творениях, и вся мифическая глубина и необъятная ширь его музыки рождаются из полярности двух начал, из столкновения двух стихий.
Одна из этих сил – отчаяние, торжество зла, сокрушенность и окончательное непротивление перед лицом жестокой, кровавой дикости и сомнение во всем, что есть человек. Необходимо претерпеть эту смерть, необходимо сойти в этот ад – тогда, и не раньше, донесется к нам другой, небесный голос мастера. Искреннее и честное признание, что наша жизнь и наша человеческая сущность убоги, сомнительны, более того, безнадежно обречены – таково предварительное условие. Мы должны претерпеть страдания, принять смерть, наш взор должен заледенеть от дьявольской ухмылки неприкрашенной реальности – тогда, и не раньше, мы воспримем глубину и правду этого второго, небесного голоса.
Первый голос утверждает смерть и отрицает надежду, отвергает любые умозрительные или художественные приукрашивания и смягчения, которыми приятные писатели обманывают нас, <…> скрывая опасности и мерзость человеческого бытия. Но второй, поистине небесный голос этой прозы внушает нам, что на другой, небесной стороне есть иное начало, нежели смерть, иная реальность, иная сущность – это совесть человека. Пусть человеческая жизнь переполнена войнами и страданиями, подлостью и мерзостью, но существует и нечто другое – совесть, способность человека отвечать пред Богом. Совесть также ведет нас по пути страданий и смертного страха, ведет к отчаянию и вине, но она открывает выход из невыносимой бессмысленности одиночества, и в конце пути нас ждет соединение со смыслом и сущностью, с вечным. Совесть не имеет ничего общего ни с моралью, ни с законом, она может вступить в ужаснейшие, смертельные противоречия с ними <…> Человеку в глубочайшем горе, страшном смятении, она всегда оставит открытой узкую тропу, которая поведет его не назад, не в мир, обреченный на смерть, но за его пределы – к Богу. Труден этот путь, ведущий человека к совести: почти все люди в своей жизни снова и снова идут против совести, упираются, все больше отягощают ее и погибают, задохнувшись, так как задушили свою совесть; но по ту сторону страдания и отчаяния для каждого человека всегда открыт потаенный путь, благодаря которому жизнь становится осмысленной, а смертный час – легким. Кто-то без удержу грешит против совести до тех пор, пока не пройдет все круги ада, пока не осквернит себя всеми возможными преступлениями, но в конце концов он, вздохнув, осознаёт свое заблуждение, и тогда в душе его случается переворот. Другие живут в добром согласии со своей совестью, редкие, счастливые, святые люди, и, что бы с ними ни стряслось, несчастье поразит лишь внешнюю сторону их жизни, но никогда не сокрушит сердце, они всегда чисты, улыбка не покидает их лица. Таков князь Мышкин.
Я услышал эти два голоса и воспринял эти два учения Достоевского в те времена, когда был настоящим его читателем, подготовленным страданиями и отчаянием»[58]58
Гессе Г. Достоевский // Гессе Г. Магия книги. С.288–291.
[Закрыть].
Гессе фактически пересматривает собственное отношение к русскому гению. Главное отличие: в эссе «Достоевский» подчеркнуто обозначено различие между общественной моралью, с одной стороны, и совестью как понятием о нравственности, данной человеку Богом, с другой. Более того, подчеркнута неизбежная конфронтация между этими понятиями. И если, оценивая творчество Достоевского с позиций общественной морали, западный человек Гессе ужасался, то, осознав ее поверхностность и неистинность, он воспринимает творения великого русского писателя не как человек западный или азиатский, а просто как человек. И только тогда свершается акт проникновения в сокровенное духа Достоевского – его трагического мирочувствования и радостного ощущения бытия, устремленного к постижению Бога и единению с Ним.
В этом своем качестве человека Гессе-писатель воспринял от Достоевского очень многое и, бесспорно, развивался в русле его литературной традиции.
Генетические истоки типологической линии Достоевский – Гессе – Набоков – Булгаков кроются в наследовании и развитии писателями XX в. того эстетического потенциала, который заключало в себе наследие автора «Братьев Карамазовых». И если творчество Достоевского можно назвать лишь предвестием трансформации мистического реализма XX в. в стадию метапрозы, то вершинные образцы этого переходного этапа создали Г. Гессе, В. Набоков и М. Булгаков.
Наиболее отчетливо синтез металитературной и метафизической доминант проступает в художественном стиле В. Набокова. Не случайно в современном набоковедении существуют две, на первый взгляд противоположные, но на самом деле взаимодополняющие концепции его стиля: иррационально-трансцендентная и металитературная.
Так, еще В. Ходасевич писал о В. Сирине:
Так, сам того не ведая, критик положил начало интерпретации набоковских произведений в духе метафикшн. В современном набоковедении эта концепция доминирует[60]60
См.: Appel A. Introduction // The Annotated Lolita, by Vladimir Nabokov. N.Y. 1970. P.XV–LXXI; Bader J. Crystal Land: Artifice in Nabokov’s English Novels. Berkeley, 1972; Bruss P. Victims: Textual Strategies in Recent American Fiction. Lewisburg, Pa. 1981. P.33–97; Couturier M. Nabokov. Lausanne, 1979; Field A. Nabokov: His Life in art. N.Y., 1973; Grabes H. Erfundene Biografien: Vladimir Nabokov englishe Romane. Tübingen, 1975; Lee L.L. Vladimir Nabokov. Boston, 1976; Packman D. Vladimir Nabokov: The Structure of Literary Desire. Columbia, 1982; Steiner G. Exterritorial // Nabokov: Criticism, Reminiscences. Translations and Tributes. Evanston, 1970. P. 119–127; Липовецкий М.Н. Метапроза Владимира Набокова: от «Дара» до «Лолиты» // Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. С.44—105 и др.
[Закрыть].
В свою очередь В.Е. Александров противопоставил концепции металитературной природы художественного дара Набокова иную стратегию интерпретации набоковской прозы.
По мнению В.Е. Александрова, именно иррационально-трансцендентную доминанту следует признать структурообразующей в творчестве Набокова. А все произведения писателя, «как некий водяной знак», пронизывает тема «потусторонности»[62]62
См.: Набокова Вера. Предисловие // Набоков В. Стихи. Анн Арбор: Ардис, 1979. С.3. См. также: Бойд Б. Метафизика Набокова: Ретроспективы и перспективы // Набоковский вестник. В.В. Набоков и Серебряный век. СПб, 2001 С.146–155.
[Закрыть].
Однако то, что В.Е. Александрову представлялось конфликтом «двух типов прочтения»[63]63
Александров В.Е. Набоков и потусторонность. С.26.
[Закрыть] – металитературного и иррационально-трансцендентного, – при внимательном рассмотрении оказывается антиномией взаимодополняющей.
Иррационально-трансцендентная доминанта творчества Набокова, так же как Гессе и Булгакова, проявляет себя вполне определенно.
«Великая литература, – писал автор „Дара“ в книге „Николай Гоголь“, – идет по краю иррационального» [Н1., T.1, c.503]. Настоящее искусство, по Набокову, стремится проникнуть за видимую поверхность жизни в некую идеальную сущность вещей, а цель его – постигать «тайны иррационального <…> при помощи рациональной речи» [Н1., T.1, c.443]. То же, едва ли еще не с большим основанием, можно сказать о произведениях Булгакова, который сам сформулировал свое творческое credo: «Я – мистический писатель» [Б., 5. 446][64]64
В качестве источника используется следующее издание: Булгаков М.А. Собрание сочинений: В 5 томах. М., 1990.
Здесь и далее сочинения писателя цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы и с пометой Б.
[Закрыть]. Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) в предисловии к первому изданию за рубежом полного текста «Мастера и Маргариты» вполне оправданно применил термин «метафизический реализм» к творчеству Булгакова.
Что касается Г. Гессе, то у подавляющего большинства исследователей мистико-иррациональная доминантная составляющая его произведений сомнений не вызывает.
Металитературная составляющая также наиболее очевидна в произведениях В. Набокова. А вот жанровая природа метаромана в «Мастере и Маргарите», как и в романах Г. Гессе «Степной волк» и «Игра в бисер», далеко не столь очевидна. Однако так же, как «Дар» – это отнюдь не жизнеописание скитаний русского писателя-эмигранта в Берлине и не love story молодых героев, а роман о Русской Литературе[65]65
См.: Набоков В.В. Предисловие к английскому переводу романа «Дар» // В.В. Набоков: pro et contra. Т.1. С.50.
[Закрыть], так и Булгаков в своем романе повествует не о похождениях Воланда и его свиты в Москве или о любви героев-протагонистов – его макротекст воссоздает историю сотворения романа об Иисусе Христе.
Заметим, что обычно, говоря о металитературности булгаковского «закатного» шедевра, имеют в виду роман мастера[66]66
Здесь и далее я пишу «мастер» со строчной буквы и курсивом. У великих Мастеров прошлого это слово было и званием, и заменой их личного имени. Но булгаковский мастер от имени в литературе отказался сам: «У меня нет больше фамилии, – с мрачным презрением ответил странный гость, – я отказался от нее, как и вообще от всего в жизни <…> Оставим, повторяю, мою фамилию, ее нет больше» [Б., Т.5, с.134, 141). Так же он отказался и от своего романа, который так и не был издан. Слово «мастер» в его случае означает звание и достоинство художника-Демиурга, однако не может стать именем собственным, ибо от своего романа, как и от сочинительства вообще, герой отрекся. С заглавной буквы, как имя собственное, оно ни разу не написано и в тексте романа.
[Закрыть] о Понтии Пилате. Однако доминантный сюжет «Мастера и Маргариты», его макротекста, воссоздает процесс рождения и написания другого романа – об Иисусе Христе, а сочинение мастера – лишь этап его сотворения. Можно сказать, что «Мастер и Маргарита» начинается в «Прологе на Патриарших» с творческой неудачи Ивана Бездомного – сочинения к Пасхе антирелигиозной поэмы, а заканчивается тем, что настоящий роман о Христе к Пасхе создан – это и есть макротекст «закатного» романа М. Булгакова[67]67
Упоминание булгаковского романа в ряду метапрозы см., например: Сегал Д.М. Литература как охранная грамота. С.151; Липовецкий М.Н. Метапроза Владимира Набокова: от «Дара» до «Лолиты». С.48; Амусин М. «Ваш роман вам принесет еще сюрпризы». С.318–334 и др.
[Закрыть].
К металитературе следует отнести и «Театральный роман» – историю о сочинении писателем Максудовым романа «Черный снег», затем переделке его в пьесу и о постановке на сцене «Независимого театра». Итогом творческого процесса, как и предсказывал подзаголовок – «Записки покойника» – стала смерть автора.
В «Степном волке» на метафикциональную природу повествования указывает его финальная фраза, которая переориентирует текст с жанровой модели мистико-психологического романа на метапрозу: «Когда-нибудь я сыграю в эту игру получше» [Г., T.2, c.398]. Целью повествования оказывается не просто анализ глубин подсознательного героя (во многом автобиографичного), а постижение его внутреннего «я». Финальная фраза отбрасывает регрессивный отблеск метафикциональности на весь текст. В «Игре в бисер» дух метафикшн всеопределяющ, ибо здесь развернутая метафора «искусство – сотворение миров» является структурообразующей.
Скрытая доминанта повествования во всех случаях – сочинительство. При этом степень приближения «Степного волка», «Дара» и «Мастера и Маргариты» к инварианту жанра метаромана[68]68
См.: Зусева-Озкан В.Б. Историческая поэтика метаромана. С.15–41.
[Закрыть] различна: полное соответствие – «Дар»; неполное – «Мастер и Маргарита», так как здесь нет творческой саморефлексии; неявное – в «Степном волке», поскольку метароманная природа текста обнаруживает себя лишь в финале, когда становится ясно, что весь текст сочинен экстрадиегетическим повествователем, который не принадлежит миру героев[69]69
См.: Женетт Ж. Повествовательный дискурс.
[Закрыть].
Типологические соответствия между индивидуальными стилями Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова можно представить себе в виде треугольника. Однако модели, по которым выстраиваются двучленные отношения между писателями, различны.
Типологическая близость художественных стилей Г. Гессе и В. Набокова просматривается вполне отчетливо. В фокусе интересов обоих сочинителей всегда было индивидуальное сознание личности в его взаимоотношениях с «потусторонностью». Это главный субъект и объект их изучения. Здесь, на воображенном и сотворенном пространстве, в «Магическом театре» жизни сознания, совершаются главные события их книг, а тема «потусторонности» органично вплетена в картины, воссоздающие бытие сознания.
Поразительны также едва ли не текстуальные совпадения между «Степным волком», с одной стороны, и романами В. Сирина – с другой. Это и сцены ритуальной казни Гарри Галлера и Цинцинната Ц. («Приглашение на казнь»), и ощущение «бумажной» иллюзорности всего неодухотворенно «существующего» [ «Курортник» – Г.,T.2, c.174], и некоторые детали образа возлюбленной Гарри, Гермины, и писателя Федора и Зины Мерц («Дар»), и «волчье-собачий» подсвет в портретах Гарри и Гумберта Г. («Лолита») и др.
Эту корреляцию можно считать контактно-типологической, так как авторы «Степного волка» и «Дара» жили и творили в едином эстетическом пространстве европейской литературы межвоенного периода.
Другая параллель (Владимир Набоков – Михаил Булгаков) может показаться более чем неожиданной. Перекличка тем более интересна, что не обусловлена такими традиционными факторами взаимовлияния, как происхождение, тип культуры, общность или хотя бы сходство судеб сравниваемых авторов, взаимный интерес т. п. Набоков был выходцем из аристократической семьи, принадлежавшей к высшему петербургскому свету, в то время как Булгаков – из семьи богословской разночинской интеллигенции среднего достатка. Набоков писал в эмиграции, Булгаков – в Советской России. Поэтому их знакомство с произведениями друг друга сомнительно. У Набокова есть, кажется, лишь один язвительно-пренебрежительный отклик на «Мастера и Маргариту»: «Фауст в Москве»– это первоначальное название книги главного героя романа «Прозрачные вещи» пародийно (однако абсолютно точно – в яблочко!) намекает на роман Булгакова[70]70
См.: Долинин А.А. Комментарий // Набоков В.В. Романы. М., 1991. С.335, 425.
[Закрыть]. Возможно также знакомство Булгакова с набоковской притчей «Сказка»[71]71
См.: Иванов Вяч. Вс. Черт у Набокова и Булгакова. С.707–713.
[Закрыть].
Параллель Владимир Набоков – Михаил Булгаков проявляет себя чисто типологически – на уровне глубинного сходства самого стиля творческого мышления двух великих русских писателей XX в.
А вот совершенно неожиданная перекличка судеб, подкрепляющая мысль о духовно-творческой близости писателей: оба сжигали (или пытались сжечь) рукописи своих романов: Набоков – рукопись «Лолиты» (1950–1951)[72]72
См.: Набоков Д. Предисловие // Набоков В. Лаура и ее оригинал. М., 2009. С.18; Шифф С. Вера (Миссис Владимир Набоков). М., 2010. С.249.
[Закрыть], Булгаков – «Мастера и Маргариты» (1930). Эта перекличка имела и свое продолжение: в «жизни действительной» «Лолиту» от гибели в огне спасла любимая преданная жена, Муза писателя, Вера Набокова, а в художественной реальности макротекста «Мастера и Маргариты» роман мастера пыталась спасти от уничтожения, но неудачно, его возлюбленная Маргарита. Перед нами, выражаясь словами Набокова, – «прелестный пример того», как действительность подражает искусству[73]73
См.: Набоков В.В. Предисловие к английскому переводу романа «Дар» С.50.
[Закрыть].
Есть еще одна перекличка, уже на уровне межтекстовом. Известный эпизод из «Мастера и Маргариты»: Римский и Варенуха обсуждают внезапное исчезновение Степы Лиходеева, и, словно в ответ на каждый поворот их ищущей мысли, мгновенно приходит телеграмма, которую каждый раз приносит ирреального вида почтальон:
«женщина в форменной куртке, в фуражке, в черной юбке и в тапочках» [Б., T.5, c.103].
Трудно представить себе почтальона, который бы мог в городе, по асфальту ходить целый день «в тапочках». Аналогичная нестыковка детали и обстоятельств обнаруживается в «Приглашении на казнь». Здесь – эпизод с матерью Цинцинната Ц., Цецилией Ц.: она явилась к сыну в мокром макинтоше, но сухих башмачках.
«Ведь это небрежность, – раздраженно бросает ей Цинциннат. – Передайте бутафору» [Н., T.4, c.126][74]74
В качестве источника используется следующее издание: Набоков В.В. Собрание сочинений русского периода: В 5 т. СПб., 2001–2004.
Здесь и далее русскоязычные сочинения писателя цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы и с пометой Н.
[Закрыть].
В обоих случаях – странная, неправдоподобная в данной ситуации обувь. Потусторонние силы пытаются создать иллюзию реальности, но допускают промах – мелкий, на первый взгляд, но разрушающий иллюзию правдоподобия сотворенного мира. «Вторая» реальность оказывается состряпанной «наспех», возникает эффект «плохого» искусства. Различие в том, что у Булгакова инобытийна реальность мистическая, а в «Приглашении на казнь» – миражно-физическая.
Инобытийная бутафория в декорациях «Приглашения на казнь», как и в приведенном эпизоде у Булгакова, восходит к эстетике Н. Евреинова, экспериментами которого в области драматургии Набоков был увлечен[75]75
См.: Толстой Ив. Набоков и его театральное наследие // Набоков В. Пьесы. М., 1990. С.5—42; Alexandrov V.E. Nabokov and Evreinov // The Garland Companion to Vladimir Nabokov. N.Y.&L., 1995. P. 402–405; Медведев А. Перехитрить Набокова // Иностранная литература. 1999, № 12. С.217–229; Бабиков А. «Событие» и самое главное в драматической концепции В.В. Набокова // В.В. Набоков: Pro et contra. Т.2. СПб, 2001. C.558–586; он же: Изобретение театра // Набоков В. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме. СПб. 2008. С.5—42; Сендерович С., Шварц Е. Набоковский парадокс о еврее // Парадоксы русской литературы. СПб, 2001. С.299–317; Злочевская А.В. Драматургия русского зарубежья в контексте литературного процесса XX в. // Русская литература, 2004. № 3. С.86—109; Корнева Н.Б. Театральность творчества В.В. Набокова и проблемы сценического воплощения его прозы. Автореферат дис. … канд. искусствоведения. М., 2010 и др.
[Закрыть], а М. Булгаков по крайней мере с ними знаком[76]76
Cм.: Петровский М.С. Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова. СПб, 2008. С.116–125.
[Закрыть].
Наконец, третья сторона треугольника – Г. Гессе и М. Булгаков – еще менее очевидна, тем более что знакомство этих писателей с произведениями друг друга крайне маловероятно, практически исключено.
Правда, современный автор С. Фаизов убежден, что в
Однако при внимательном рассмотрении этимология отмеченных С. Фаизовым общих у Булгакова с Гессе мотивов – убийства невесты на свадьбе и ножа, светящейся надписи, «живых шахмат» – почти во всех случаях оказывается различной. Так, у Гессе мотив убийства невесты на свадьбе и ножа образуют единый комплекс и оба являются явной реминисценцией из «Идиота», в то время как образ-мотив ножа у Булгакова вполне самостоятелен, как по семантике, так и по функциональной нагрузке. Образ живых шахмат Булгаковым заимствован из повести В. Ирвинга «Легенда об арабском звездочете»[78]78
См.: Яблоков Е.А. Художественный мирМихаила Булгакова. М., 2001. С.163–164; Яновская Л. Последняя книга, или треугольник Воланда. М., 2014. С.280.
[Закрыть]. Ее, надо полагать, знал и Гессе. Что же касается мотива светящейся надписи, то она, конечно, из Библии: роковые письмена, вспыхнувшие на стене в роскошных палатах вавилонского царя Валтасара и предрекшие его скорую, внезапную гибель: «Мене, мене, текел, упарсин» (Дан. 5).
Собственно небрежность автора при построении параллелей не стоила бы упоминания, если бы в статье С. Фаизова не была допущена серьезная и достаточно распространенная методологическая ошибка. Дело в том, что сам по себе факт межтекстовых перекличек на уровне образов, мотивов, приемов и сюжетных ходов вовсе не доказывает факта творческого влияния одного писателя на другого. Необходимы факты, подтверждающие как минимум знакомство с произведениями друг друга. С. Фаизов исходит из того общего соображения, что Булгаков не мог не знать «классика» Гессе. Однако в 1920-е—1930-е гг., когда М. Булгаков сочинял «Мастера и Маргариту», «Степной волк», написанный в 1927 г., еще не успел стать «классическим текстом». Нобелевская премия была присуждена Гессе лишь в 1946 г. При жизни Булгакова в Советской России «Степной волк», как и его автор, не был известен. Во всяком случае, никаких данных у нас на этот счет нет, а творческие контакты между советскими и европейскими писателями в Советской России, в силу ее культурной изоляции, были, как известно, в высшей степени затруднены.