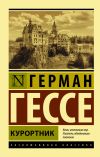Текст книги "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"

Автор книги: А. Злочевская
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава II. «Роман как космологическая структура»
Живой космос художественного произведения – «роман как космологическая структура» – рождается у Гессе – Набокова – Булгакова в процессе креативной игры. Это главный и желанный плод их творческой деятельности. Структурообразующей в этой жанровой модели – с весьма размытыми границами, как увидим в дальнейшем, – следует признать трехчастную модель мира: реальность материальная – трансцендентная – художественная.
Развилась эта структура из «художественного двоемирия» мистического реализма XX в., генетические истоки которого – в эстетике йенских романтиков. Метаморфоза модели «двоемирия» в трехуровневую структуру реализует себя в трансформации внутренней композиции «Степного волка», «Дара» и «Мастера и Маргариты».
Итак, исходная модель – «двоемирие». В подтексте «жизни действительной» писатель видит реальность иррационально-мистическую. Мир физический – не что иное, как проклятая радиомузыка жизни [Г., Т.2, с.397]. Это, как объясняет Гарри Галлеру Моцарт,
«превосходный символ жизни вообще. Слушая радио, вы слышите и видите извечную борьбу между идеей и ее проявлением, между вечностью и временем, между божественным и человеческим» [Г., Т.2, с.393].
«Радиомузыка жизни» безбожно искажает свой оригинал – живую музыку инобытия, его истинный прекрасный образ. Но в то же время и намекает на него, дает некоторое, хотя и весьма отдаленное, представление о чудесной «потусторонности».
Еще более отчетливо проявляет себя структура «двоемирия» в романе Булгакова: здесь каждое явление или событие земной реальности имеет свой аналог в инобытии: здесь разоблачаются обманы [Б., Т.5, с.367] и все явления земной реальности, обнаруживая свою духовную сущность, предстают «в своем настоящем обличье» [Б., Т.5, с.368].
Так больной и затравленный советской критикой писатель преображается в мастера XVII–XIX вв., обладающего тайным знанием, а его убогая двухкомнатная квартирка в полуподвале – в уютный домик, увитый плющом, где герой будет сочинять и где верные любовники соединятся навсегда. И напротив, казавшаяся столь презентабельной клиника Стравинского в реальности сновидческой предстает в своей истинной убогости:
«Приснилась неизвестная Маргарите местность – безнадежная, унылая <…> мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая осина, а далее, – меж деревьев, – бревенчатое зданьице, не то оно – отдельная кухня, не то баня, не то черт знает что. Неживое все кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека!» [Б., Т.5, с.212]
В то время как в земном измерении в «нехорошей квартире» всю ночь раздавались крики и играл патефон, «в пятом измерении» бесконечно длился «великий бал у сатаны». А в финале романа, когда «утонула в туманах колдовская нестойкая одежда» [Б., Т.5, с.367], свершается преображение Воланда и его свиты, и сам властелин тьмы, будто растворившись в ней, становится ею:
«…только глыба мрака, и грива этого коня – туча, а шпоры всадника – белые пятна звезд» [Б., Т.5, с.369].
Безродный бродячий философ-арестант Иешуа Га-Ноцри оказывается Верховным правителем Вселенной и высшим Цензором, в то время как бывшего могущественного прокуратора всей Иудеи Понтия Пилата мы видим несчастным пленником (кем, впрочем, он и был по сути в течение своей земной жизни), заточенным в «проклятые скалистые стены» (инобытийный аналог роскошного дворца Ирода Великого), где он обречен «двенадцать тысяч лун» смотреть на невысыхающую черно-красную лужу (инобытийный аналог пролитого его рабом красного вина), которая напоминает о совершенном им преступлении, о самом страшном – «что казнь была» [Б., Т.5, с.310]… И обречен страстно желать невозможного: чтобы не было того, что уже свершилось. Эта «лужа» пролитого вина, превратившаяся в кровавое пятно, – связующее звено между реальностями земной – художественной – трансцендентной.
Отсюда – внезапные «наплывы» из инобытия в будничное течение земной жизни: видение ада – на картину мирного ужина в ресторане «У Грибоедова», или страшная мысль о «бессмертии» и погибели – в сознании Пилата в тот момент, когда он выносит приговор Иешуа.
Набоковский профессор Пнин также в моменты сердечных приступов воспринимал своего рода «наплывы» видений из инобытия. В произведениях Набокова грань между реальностями инобытийной и земной почти прозрачна, а его любимым героям свойственно
«постоянное чувство, что наши здешние дни – только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать проценты в виде снов, слез счастья, далеких гор» [Н., Т.4, с.344].
Художественная модель «двоемирия» предполагала и особого героя – личность, живущую не в реальности «жизни действительной», а на грани «двоемирия», на пороге инобытия и субъективно устремленную в «потусторонность». Это «люди <…> с одним лишним измерением» [Г., Т.2, с.334], и в жизни для них «дело шло не о жалких грошах, а о звездах» [Г., Т.2, с.324]. Или, как писал Набоков в романе «Пнин»: «Люди – как числа, есть среди них простые, есть иррациональные» [Н1., Т.3, с.40]. Такие люди живут в мире абсолютно бесполезных мыслей, знаний, умозаключений и размышлений, и ничто иное их не интересует. Они чувствуют «себя по-настоящему непринужденно лишь в теплом мире подлинной учености» [Н1., Т.3, с.40] и потому «непрозрачны» для грубого и пошлого большинства.
Герои Гессе, Набокова и Булгакова противостоят окружающему миру пошлости и мещанства – миру усредненности и посредственности. Мир считает их «сумасшедшими», ибо они далеки «от „всех“» [Г., Т.2, с.257], они забрели «в чужой непонятный мир», где не находят себе «ни родины, ни пищи, ни воздуха» [Г., Т.2, с.257].
Типология такого героя, бесспорно, восходит к мироощущению романтиков. Так, исследователи неизменно связывают творчество Г. Гессе межвоенного периода, начиная с романа «Демиан» (1919), с романтической традицией немецкой литературы, лишь скорректированной трагическим опытом человека, пережившего Первую мировую войну[125]125
См., например: Lůtzkendorf F. Hermann Hesse als religiöser Mensch in seinen Beziehungen zur Romantik und Osten. Burgdorf, 1932; Weibel K. Herman Hesse und die deutsche Romantik. Winterthur, 1954; Böttger F. Hermann Hesse. Berlin, 1982. S.340; Березина А.Г. Герман Гессе. Л., 1976. С.21; Аверинцев С. Путь Германа Гессе // Гессе Г. Избранное. М., 1977. С.3—26; Мюнстер Е. Гессе и романтизм //www.hesse.ru/articles/muenster/read/?ar=rm&page=1–3; Григорян А. Закат романтизма: Гессе и Новалис // Вопросы литературы. 2014, № 2. С.352–368; Ханмурзаев К.Г. Роман Германа Гессе «Степной волк» и немецкая романтическая традиция // Вестник Университета Российской академии образования. 2015, № 3. С.74–81 и др.
[Закрыть]. «Степной волк», как отмечает немецкий автор, «обновляет романтический роман на современном психологическом уровне»[126]126
Laaths E. Geschichteder Weltliteratur. Můnchen. 1953. S.729.
[Закрыть]. Не случайно, конечно, и то, что самое популярное определение булгаковского героя, ставшее почти формулой, – это «трижды романтический мастер» [Б., Т.5, с.371]. Генетическая связь Федора Годунова-Чердынцева непосредственно с романтическим типом культуры не столь очевидна, однако с героем литературы эпохи модернизма проявляет себя вполне отчетливо[127]127
См., например: Липовецкий М. Эпилог русского модернизма. Художественная философия творчества в «Даре» Набокова) // Вопросы литературы. 1994. Вып.3. С.72–95.
[Закрыть].
Стеной волк Гессе – это и есть неоромантический герой-одиночка, чуждый каких бы то ни было сообществ или «собраний»:
«Как же не быть мне Степным волком и жалким отшельником в мире, ни одной цели которого я не разделяю, ни одна радость которого меня не волнует! – размышляет о своей судьбе Гарри Галлер. – Я долго не выдерживаю ни в театре, ни в кино, не способен читать газеты, редко читаю современные книги, и не понимаю, какой радости ищут люди на переполненных железных дорогах, в переполненных отелях, в кафе, оглашаемых душной, назойливой музыкой, в барах и варьете элегантных, роскошных городов, на всемирных выставках, на праздничных гуляньях, на лекциях для любознательных, на стадионах – всех этих радостей, которые могли бы ведь быть мне доступны и за которые тысячи других бьются, я не понимаю, не разделяю» [Г., Т.2, с.216].
В сущности, то же и у Булгакова. Так, на вопрос А. Афиногенова, почему он не посещает заседания Союза советских писателей, он ответил вполне серьезно, хотя и не без доли сарказма: «Я толпы боюсь»[128]128
Булгакова Е.С. Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С.65.
[Закрыть].
Иронично-весело звучит та же мысль в устах Набокова:
«Я не принадлежу ни к какому клубу или группе. Я не рыбачу, не стряпаю, не танцую, не ставлю своего знака на книгах, не подписываю коллективные декларации, не ем устриц, не напиваюсь, не хожу в церковь, не хожу к психоаналитикам, а также не участвую в демонстрациях <…> Я не без гордости считаю себя человеком, не представляющим интереса для публики. За всю свою жизнь я ни разу не напился. Я никогда не использую скабрезных словечек из школьного жаргона. Я никогда не работал в конторе или в угольной шахте. Я никогда не принадлежал к какому-либо объединению или клубу. Никакое вероисповедание или „направление“ не оказало на меня решительно никакого влияния <…> Меня не интересуют литературные группы, движения, направления и так далее <…> Я никогда не состоял ни в какой политической партии, но всегда с отвращением и презрением относился к диктатурам и полицейским государствам, как и к любой другой разновидности угнетения. То же самое относится к регламентации мышления, правительственной цензуре, расовым и религиозным преследованиям и прочему в этом роде <…> Полагаю, что мое безразличие к религии имеет ту же природу, что и моя нелюбовь к групповой деятельности» [Н1., Т.2, с.576, 578, 579, 585–586].
Таков и набоковский герой – Цинциннат Ц. Его преступление заключается в том, что он «непрозрачен» для окружающих, т. е. недоступен их пониманию, ибо неспособен жить по закону «общих мнений». Раскаяться в своей «гносеологической гнусности» [Н., Т.4, с.87], признав, что «любит то же самое, что мы с вами» [Н., Т.4, с.141], – вот условия, на которых общество согласно принять личность в свои «объятия». Так формируется центральный экзистенциальный конфликт набоковского романа: трагическое противостояние индивидуального сознания – коллективному.
Одиночество во враждебном мещанском окружении, а в конце – эшафот: этот путь предуказан любой «яркой личности» и в романе Гессе. Ибо
«человеку, способному понять Будду, имеющему представление о небесах и безднах человечества, не пристало жить в мире, где правят здравый смысл, демократия и мещанская образованность» [Г., Т.2, с.250].
Так и в «Курортнике» автор-герой, сам Герман Гессе, вдруг чувствует, что окружающая его «действительность» – этот якобы существующий мир – на самом деле всего лишь иллюзия, мнимая действительность, опутывающая [Г., Т.2, с.389] человека, а населяют этот мир «бумажные» существа. Как только герой осознает это, мир перестает давить на него и наступает освобождение [Г., Т.2, с. 174–176]. Миражные, ненастоящие люди окружают и Цинцинната Ц.
Такой же «одиночка» и булгаковский мастер: вместо того, чтобы, как все «нормальные» члены Массолита писать на заказ и «к сроку» и за это получать «творческие» путевки в Перелыгино и питаться в «У Грибоедова», пишет роман на какую-то «странную» тему – о Христе.
Все земное существование этих героев устремлено к бессмертию. Там, в вечности, в царстве «по ту сторону времени и видимости» [Г., Т.2, с.335], там их родина, туда устремляется их сердце [Г., Т.2, с.335]. А единственный «вожатый» в земной жизни – «тоска по дому» [Г., Т.2, с.336].
Для человека «с одним лишним измерением», для того, кто «требует вместо пиликанья – музыки, вместо удовольствия – радости, вместо баловства – настоящей страсти» [Г., Т.2, с.333], – для него инобытие, «потусторонность» – истинный дом и родина, «небеса обетованные».
Смелый прорыв в инобытие совершает Цинциннат Ц. Герой чувствует, что эта «темная тюрьма, в которой заключен неуемно воюющий ужас, держит <…> и теснит» его [Н., Т.4, с.101], а прекрасное, манящее «там» – «там», где «все поражает чарующей очевидностью, простотой совершенного блага», – сулит его духовной сущности освобождение. И как только Цинциннат Ц. спросил себя: «Зачем я тут?» [Н., Т.4, с.186], – бутафория материального мира рухнула, а духовный человек, сбросив физическое тело-тюрьму, направился «в ту сторону, где <…> стояли существа, подобные ему» [Н., Т.4, с.187].
Смерть здесь – освобождение духа, а бессмертие – самоочевидная истина, восхитительная в своей бездоказательности: «Как безумец полагает, что он Бог, так мы полагаем, что мы смертны» [Н., Т.4, с.47] – утверждал Набоков словами им же выдуманного философа Делаланда.
Формулируя в романе «Пнин» суть экзистенциальной двойственности, на которую обречена человеческая душа в продолжение своей земной жизни, Набоков пишет:
«Не знаю, отмечал ли уже кто-либо, что главная характеристика жизни – это отъединенность? Не облекай нас тонкая пленка плоти, мы бы погибли. Человек существует, лишь пока он отделен от своего окружения. Череп – это шлем космического скитальца. Сиди внутри, иначе погибнешь. Смерть – разоблачение, смерть – причащение. Слиться с ландшафтом – дело, может быть, и приятное, однако тут-то и конец нежному эго» [Н1., Т.3, с.22].
Для Гессе не только физическая оболочка, но и сама личность человека есть не что иное, как «тюрьма, в которой вы сидите» [Г., Т.2, с.357]. Только там, в инобытии или в предстоянии его раскрываются тайны внутренней жизни человека.
Большинство набоковских героев остаются на пороге инобытия, лишь ощущая и прозревая нечто, но не переступая грань. Исключение в этом смысле Цинциннат Ц., для которого «трансцендентная гимнастика» – занятие успокоительное и едва ли не обыденное[129]129
«Трансцендентная гимнастика» Цинцинната Ц. предвосхитила самоуничтожающую медитацию Вайльда в романе «Лаура» [НЛ., с. 82–88, 94–96, 98, 108].
[Закрыть]:
«Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что осталось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух. Цинциннат сперва просто наслаждался прохладой; затем, окунувшись совсем в свою тайную среду, он в ней вольно и весело – Грянул железный гром засова, и Цинциннат мгновенно оброс всем тем, что сбросил, вплоть до ермолки <…> Цинциннат, тебя освежило преступное твое упражнение» [Н., Т.4, с.61].
Гессе проникает за грань мира физического гораздо смелее, чем Набоков. «Отважиться <…> на прыжок в космос» [Г., Т.2, с.241] – для писателя значит постичь себя. Он даже представляет читателям жизнь бессмертных: Моцарта, Гете и др.
В художественном мире Набокова своеобразно проросла еще одна тема Гессе – роль животного, сексуального начала в человеке. Возможно, к одному из эпизодов романа Гессе «Нарцисс и Гольдмунд» восходит и генезис эротико-садистских сцен «Ады», где герои, Ада и Ван, для обострения своих сексуальных ощущений во время любовных игр клали между собой младшую сестру Ады Люсетту, еще девочку, и через ее посредничество передавали друг другу ласки. Аналогичная, в сущности, сцена эротики втроем – в романе Гессе «Нарцисс и Гольдмунд»: любвеобильный герой оказывается в постели с двумя девушками одновременно, причем одна из них несовершеннолетняя. У Набокова психологический рисунок этих сцен гораздо более напряженно-сексуальный, однако структурно сцены аналогичны. Динамика легко объяснима: эротическое напряжение в литературе, как и все в нашем мире, не стояло на месте, а развивалось, нарастало, все более усложняясь.
Для Гессе «двойственность» человеческой природы – дихотомия животного, воплощенного в образе Степного волка, и божественного – во многом мнима, ибо на самом деле граница между этими двумя ипостасями размыта, а сами «сущности» взаимопроникающи. И все же двойственность существует.
Когда в «Магическом театре» перед героем было поставлено первое зеркало, дающее как бы абрис его личности, он увидел
«жуткую, внутренне подвижную, внутренне кипящую и мятущуюся картину – себя самого <…>, а внутри этого Гарри – степного волка, дикого, прекрасного, но растерянно и испуганно глядящего волка, в глазах которого вспыхивали то злость, то печаль <…> Печально, печально глядел <…> текущий, наполовину сформировавшийся волк своими прекрасными дикими глазами» [Г., Т.2, с. 356–357].
Это видение героя Гессе удивительным образом перекликается с рассказом Набокова о первой пульсации «Лолиты» в его творческом воображении: это был образ, якобы навеянный реальным документом – газетным сообщением
«об обезьяне в парижском зоопарке, которая после многих месяцев улещиваний со стороны ученых наконец набросала углем первый рисунок, когда-либо исполненный животным, и этот рисунок, воспроизведенный в статье, изображал решетку клетки, в которой бедный зверь был заключен» [Н1., Т.2, с.573].
Образ несчастного зверя, заключенного в клетке и осознающего, что он в ней заключен, – таков «начальный озноб вдохновения» [Н1., Т.2, с.573], предварявший появление Гумберта Г.
Без параллели с печальным зверем в клетке Германа Гессе связь этого набоковского видения с образом Гумберта Г. не совсем понятна[130]130
Анализ роли этого образа в философско-эстетической системе романа «Лолита» см.: Злочевская А.В. Русский Эрос в романе Владимира Набокова «Лолита» // Вестник Моск. ун-та. Серия 9. Филология. 2004. № 4. С.44–56.
[Закрыть]. И поскольку тот газетный текст о нарисовавшей собственную клетку обезьяне, на который ссылается Набоков, не найден, можно с большой долей уверенности предположить, что именно герой Гессе и явился толчком к рождению образа Гумберта Г., а рассказ о газетной заметке – столь любимый Набоковым игровой отвлекающий маневр.
Именно Степной волк – тайный литературный праобраз Гумберта Г. След генетической связи Гумберт Г. – Гарри Галлер – общий у обоих героев вензель Г.Г. (у Гессе это еще и вензель Автора). Анаграммы, вензеля и т. п. у Набокова, как известно, случайными не бывают – они всегда значимы. Параллель Гумберта Г. со Степным волком проясняет многое.
Оба героя глубоко несчастны, ибо, живя в цивилизованном мире, вынуждены подавлять те естественные желания, влечения и страсти, которые общественная мораль признает порочными. В своей земной жизни герой Гессе, в силу условностей полученного воспитания, сам ужасался животным позывам своей натуры, в глубине души за них себя презирая и признавая их недостойными звания человека. Но в продолжение романного повествования свершается освобождение Степного волка: высвобождение анархических порывов души героя происходит сперва в течение «подготовительного периода», пройденного под руководством Гермины, и окончательно – в «Магическом театре» самосознания. Не ограниченное запретами цивилизованного разума, сознание героя перестает стыдиться и выпускает на волю зверя из клетки. Герой с наслаждением погружается в эдем (и ад одновременно) чувственных радостей. Хорошо или ужасно такое освобождение дьявольского начала в человеке? У Гессе этот вопрос остается, по существу, открытым. Во всяком случае, даже если освобождение и ужасает, то оно и необходимо, ибо без этого невозможно постижение самого себя. А не познав себя, нельзя надеяться когда-нибудь сыграть «в эту игру получше».
Аналогичный путь проходит в романе и герой Набокова. Но нравственный итог пути оказывается иным. Гумберт Г. с самого начала значительно более скептично, чем Гарри Галлер, относился к запретам общественной морали, считая их смехотворными и лицемерными. Выпустить на волю своего зверя он хотел всегда, а потому и делает это сразу, как только предоставляется удобный случай, без нравственных колебаний и сомнений. Ему «подготовительный период» был не нужен. И так же, как герой Гессе, он погружается в фантасмагорический мир «за пределом счастья» [Н1., Т.2, с.206], где блаженство неотделимо от ужаса, а рай от ада. Позднее блаженные блуждания по тайным уголкам эдема сексуальных радостей, как гетеро-, так и гомосексуальных и лесбийских, были воссозданы Набоковым в «Аде» – в грандиозной метафоре Ардиса, воплотившей ту волну «двуполой магии» [Г., Т.2, с.293], которая захлестнула и героя Гессе.
В «Лолите» Набоков прихотливо варьирует и без того сложный рисунок убийства – самоубийства из «Степного волка». И набоковский Г.Г., как и Г.Г. Германа Гессе, убил любовью свою возлюбленную. А тем самым – и самого себя. Предсказание убийства Гумбертом Г. Лолиточки (прозвучавшие в начале романа слова из модной песенки о Кармен: «Выхватил <…> небольшой кольт и всадил пулю крале в лоб» – [Н1., Т.2, с.279]) оказалось ложной подсказкой. Физически Г.Г. убивает не свою возлюбленную, а ее «соблазнителя», а на самом деле – своего зеркального двойника К. Куильти.
У Набокова остается сострадание к бедному зверю «за решеткой», ноосвобождение его не несет в себе ничего положительного – оно преступно и греховно. Вопрос о соотношении греха и свободной воли человека – центральный в «Лолите». Может ли человек быть свободен от нравственного Закона? Может ли «разрешить» внутри себя, «по совести» то, что грехом считать принято, но что сам он таковым не считает? Набоков, вслед за Достоевским, который в «Преступлении и наказании» подобным образом испытывал заповедь «Не убий», организует экспериментальное испытание заповеди, актуальной для современного человека, – «Не прелюбодействуй». Результаты набоковского эксперимента вполне аналогичны выводам Достоевского: нарушение нравственного закона в интимной жизни карается столь же неотвратимо, как и во всех иных сферах. Этот Закон объективен и неотменяем, ибо задан, очевидно, свыше.
В этом Набоков, как писатель русский по духу, ближе к нелюбимому им Достоевскому, чем Гессе, искренне его почитавший. Ибо в мире Гессе, по существу, отсутствует само понятие греха. Здесь есть лишь примитивная, а потому презираемая общественная мораль. И в этом принципиальное отличие этической позиции Гессе от набоковской.
Принципиально различно и отношение Гессе и Набокова к своим героям. Гарри Галлер – alter ego автора, его проблемы – это и проблемы Германа Гессе, хотя они и предстают в мистико-аллегорическом, преображенном творческой фантазией художника виде. Гумберт Г. – личность, чуждая автору.
«„Лолита“<…>, – сказал Набоков в Интервью Би-би-си 1962 г., – была самая трудная для меня книга – книга, в которой рассматривалась тема столь чуждая, далекая от моей собственной эмоциональной жизни, что мне доставляло особенное удовольствие использовать весь свой комбинаторный талант, чтобы сделать ее реальной» [Н1., Т.2, с.572].
В своем воображении истинный художник решает кардинальные проблемы бытия, как земного, так и инобытийного. Модель «двоемирия» оптимальна для решения этой творческой задачи.
Но метафизические проблемы увидены и показаны Г. Гессе, В. Набоковым и М. Булгаковым сквозь призму напряженных раздумий о творчестве, о подлинном искусстве, о настоящем художнике и его судьбе в современном мире. В этом – принципиальное отличие исследуемых писателей от романтиков XIX и неоромантиков XX вв.: в «Степном волке», «Даре» и «Мастере и Маргарите» свершается выход из мира физического через трансцендентное инобытие в метареальность, где и находят свое решение, порой весьма сложное и неоднозначное, высшие проблемы бытия человеческого духа, волновавшие их творцов. Проза мистического реализма трансформируется в мистический метароман. Помимо реальности физической и инобытийной, возникает третье измерение – метареальность.
Поэтому в центре романов Гессе, Набокова и Булгакова – образ творческой личности, наделенный автобиографическими чертами.
В «Степном волке» – это искусствовед, музыкальный критик и активный публицист-пацифист Гарри Галлер. Собственно артистическая деятельность героя какой-либо значимой роли в романе не играет, однако эта скрытая энергия художника-Демиурга нашла свое выражение в метафикциональной реальности «Магического театра».
В «Даре» и «Мастере и Маргарите» герои-писатели автобиографического типа – Годунов-Чердынцев и мастер. Наиболее близок автору образ булгаковского мастера. Помимо общеизвестных «общих точек» в судьбе – сожжения рукописи и истории большой любви, – это мистическое значение числа 13 в жизни Булгакова[131]131
Об этом см., например: Яновская Л. Последняя книга, или треугольник Воланда. С.84.
[Закрыть] и генезис самого имени героя – мастер. В первых редакциях (начиная со второй) герой был безымянен и однажды обозначен личным местоимением 1-го лица [БР.,с.100][132]132
В качестве источника используется следующее издание: Булгаков М.А. Собрание сочинений: В 8 томах. СПб., 2004. Т.7.
Здесь и далее рукописи цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы и с пометой БР.
[Закрыть], затем, на протяжении третьей редакции, назывался поэтом [БР.,с.229–264], мелькнуло реминисцентно-типологическое – Фауст[133]133
См.: Чудакова М. Архив М.А. Булгакова. Материалы для творческой биографии писателя. М., 1976. С.106. Ср.: Петелин В.В. Вступительная статья (БР., с.10).
[Закрыть]. И наконец, приходит имя мастер: оно мелькнуло [БР.,с.253, 259] и, прежде чем утвердиться окончательно, вновь уступило место поэту. Л. Яновская предположила, на мой взгляд, вполне убедительно, что «мастер» произошло от «Твой М.»– так Булгаков подписывал свои открытки, адресованные Е.С. Булгаковой[134]134
Яновская Л. Последняя книга, или треугольник Воланда. С.92–93.
[Закрыть].
Образы писателя Федора и мастера типологически схожи: обоих отличает позиция Solus rex по отношению к пошлому окружению, бытовому и литературному. Сатирическому изображению литературной среды в обоих метароманах отведено большое место, ведь в полемическом противостоянии ей и рождается истинное искусство. Для обоих героев-писателей творчество составляет смысл жизни и главное наслаждение. И в обоих случаях их творческие интересы ориентированы в прошлое. И дело не только в том, что и мастер и Годунов-Чердынцев сочиняют романы об исторических личностях. Гораздо важнее другое: само их мирочувствование ориентировано в прошлое. Там их идеалы, а в современности они – чужие.
В жизни обоих писателей есть тайная любовь, а линии творчества и любви тесно переплетены как в «Даре», так и в «Мастере и Маргарите». Рядом с мастером и Годуновым-Чердынцевым – их прекрасные подруги, Маргарита и Зина Мерц. Обеих героинь связывает с главным героем не только большая любовь, но и духовная близость. Обе женщины страстно поклоняются таланту своих любимых и их творениям. У обеих героинь – жгучая, до кровомщения ненависть к критикам, которые осмелились не оценить гений их возлюбленных.
Перед нами история тайной духовной жизни и тайного счастья творческой личности в окружающем враждебном мире.
История написания и публикации романов, сочиненных набоковским и булгаковским героями, очень похожи. В обоих случаях они проходят две фазы: счастье творчества, «золотой век» – и разгромная критика, травля по выходе произведения в свет. Мастер и Годунов-Чердынцев написали «странные» в идеологическом смысле романы. Как в «Даре», так и в «Мастере и Маргарите» даны обзоры критических откликов на публикацию романов, и все они поражают не только примитивностью суждений, но и языковой безграмотностью. Перед нами великолепные образчики идеологизированного восприятия искусства, абсолютного непонимания его законов. Автор, озабоченный не сиюминутным и злободневным, а вечными проблемами бытия и воплощением в своих сочинениях экзистенциальных ценностей, обречен на остракизм, если не физический, как в древности, то морально-психологический.
Так, советской критике не нужен прекрасный роман о добре и милосердии, о трагедии человека от государства, человека, оказавшейся в тисках государственной идеологии, а нужно графоманское сочинение, где бы Иисус был очерчен черными красками, а Понтий Пилат сатирически обличаем. А критике русской эмиграции не нужен роман о драме личности, посвятившей себя и пожертвовавшей своей жизнью идеалам ложным и примитивным, роман, проникнутый сочувствием к страданиям этого несчастного человека, а нужен раскрашенный трафаретный портрет-икона, хотя и давно набивший оскомину, но зато всем понятный.
Обе истории о написании и выходе в свет двух романов убедительно доказывают правоту раздумий Набокова о судьбе художника в обществе.
«Две силы, – писал он, – одновременно боролись за душу художника, два критика судили его труд, и первым была власть. Другой силой, стеснявшей его, оказалась антиправительственная, общественная, утилитарная критика, все эти политические, гражданские, радикальные мыслители. Левого критика занимало исключительно благосостояние народа, а все остальное: литературу, науку, философию – он рассматривал лишь как средство для улучшения социального и экономического положения обездоленных и изменения политического устройства страны»[135]135
Набоков В.В. Писатели, цензура и читатели в России // Набоков В.В. Лекции по русской литературе. С.16–17.
[Закрыть].
Самый чудовищный вариант, по убеждению Набокова, – в тоталитарных режимах и прежде всего в СССР, где обе силы, противостоящие писателю, – государство и левая оппозиция, объединились.
Собственно, пространство свободы художника в любом обществе, даже самом демократическом, весьма ограниченно: в лучшем случае он может иметь возможность писать (но отнюдь не публиковать!) то, что он хочет, и ему может быть позволено не писать «на заказ» того, чего он не хочет. Но тем ценнее этот оазис независимости и тем большее значение приобретает постулат внутренней духовной свободы художника: ведь это единственное, чем он обладает.
В сущности, различие судеб героев Булгакова и Набокова предопределено именно тем, что писатель Федор живет в стране относительно свободной. Поэтому роман его все же был опубликован, хотя и по чистой случайности и по прихоти одного бездарного графомана. И сам он все же остался жив, здоров и полон творческих сил и планов. Роман мастера обруган критикой, по существу, не будучи даже опубликован, а его автор остается больным, опустошенным и смертельно уставшим, уже не желающим ни любви, ни жизни, ни творчества.
Тайное, но чрезвычайно важное звено, связующее в произведениях Гессе, Набокова и Булгакова земную, инобытийную и художественную реальности, – это смех.
Стихия смеха вообще заключает в себе великую тайну – по существу, это феномен трансцендентный. И гротесково-сатирическое видение мира у истинного художника всеобъемлюще, ибо оно проникает в духовно-мистический подтекст бытия. Сатирика отличает лишь особый угол зрения: он видит уродливые сбои, искажения духовного идеала, которые и определяют нарушения нравственной нормы в «жизни действительной».
Не случайно великие сатирики, такие как Рабле, Свифт или Мольер, были и великими мыслителями-философами.
У Гессе «вечный, божественный смех» [Г., Т.2, с.337] – главный закон бытия бессмертных. Это смех, «рожденный неведомым человеку потусторонним миром выстраданного <…> юмора» [Г., Т.2, с.385], холодный, ужасный, нестерпимый для человеческого слуха смех потустороннего мира [Г., Т.2, с.385]. Герою Гессе в его земной жизни доступен лишь отсвет этого волшебного напитка – человеческий юмор, слабый и прекрасный отблеск смеха божественного, инобытийного.
«Божество бесстрастно» (О. Хаксли) – оттого и холоден смех бессмертных. Человеку это не дано, но он может достичь некоего подобия равнодушной вознесенности над несовершенством мира – благодаря юмору.
«Один только юмор, великолепное изобретение тех, чей максимализм скован, кто почти трагичен, кто несчастен и при этом очень одарен, один только юмор <…> совершает невозможное, охватывая и объединяя лучами своих призм все области человеческого естества. Жить в мире, словно это не мир, уважать закон и все же стоять выше его, обладать, „как бы не обладая″, отказываться, словно это никакой не отказ, – выполнить все эти излюбленные и часто формулируемые требования житейской мудрости способен один лишь юмор“» [Г., Т.2, с.385].
Юмор – связующая нить между человеком и Богом, ибо, как писал Набоков в рецензии на роман М.А. Алданова «Пещера», «усмешка создателя образует душу создания» [Н., Т.4, с.593].