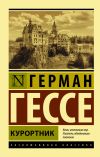Текст книги "Три лика мистической метапрозы XX века: Герман Гессе – Владимир Набоков – Михаил Булгаков"

Автор книги: А. Злочевская
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Поэтому, если в случае В. Набокова типологические переклички его произведений со «Степным волком» свидетельствуют о знакомстве с этим романом, то в случае с М. Булгаковым они не свидетельствуют ни о чем, кроме факта филиации художественных идей в рамках единого литературного явления или процесса.
Все совпадения и переклички между художественными стилями Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова – лишь вершина айсберга. Подводная его часть – глубинное родство писателей в рамках мистической метапрозы XX в.
И последнее замечание. Предоставленный наследием Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова материал для анализа несопоставим по объему: это практически все творчество Набокова – от «Защиты Лужина» до «Посмотри на арлекинов!», с одной стороны, и лишь «Степной волк» и «Игра в бисер» Г. Гессе, «Театральный роман» и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова – с другой.
Поэтому я сосредоточусь на сравнительно-типологическом анализе «Степного волка», «Дара» и «Мастера и Маргариты», как наиболее ярких образцах металитературной версии мистического реализма XX в.
Глава I. «Фиктивная реальность» или «Реальность фикции»?
Основные принципы эстетики мистической метапрозы XX в. нашли свое выражение во взглядах Гессе, Набокова и Булгакова на искусство. При этом креативно – эстетические концепции писателей типологически схожи, хотя различны их дискурсы: это критико-литературоведческий у Набокова (лекции, интервью, статьи), а также отчасти у Гессе (эссе и статьи об искусстве вообще и о писателях в частности), и непосредственно художественный, в самой творческой практике у Булгакова.
Как индивидуальные стили писателей, так и эстетическая концепция искусства каждого из них обнаруживают явные признаки металитературности.
Одно из базисных положений эстетики метафикш – признание паритетных отношений между двумя реальностями – мира физического и художественного.
Острое переживание иллюзорности и призрачности физического бытия свойственно Набокову и осмыслено в его стратегии писателя-творца.
«Реальность – вещь весьма субъективная, – сказал писатель в Интервью Би-би-си 1962 г. – Я могу определить ее только как своего рода постепенное накопление сведений и специализацию. Можно, так сказать подбираться к реальности все ближе и ближе; но все будет недостаточно близко, потому что реальность – это бесконечная последовательность ступеней, уровней восприятия, двойных донышек, и потому она неиссякаема и недостижима <…> Стало быть, мы живем в окружении более или менее призрачных предметов» [Н1., T.2, c.568].
«Реальность», подчеркивал он, вообще «странное слово, которое ничего не значит без кавычек» [Н1., T.2, c.379], ибо мир материальный не существует вне субъективно-личностного восприятия человека.
Автору «Дара» был чужд сам принцип реалистического творчества. И это понятно: новое искусство, металитература в том числе, уже не может
«следовать вековым канонам мимесиса, делать вид и убеждать читателя, будто все в нем написанное – истинная правда, продолжение жизни, только выраженное типографскими литерами, упакованное в переплет и обложку»[79]79
Амусин М.Ф. Остров Эко и литературная вселенная // Амусин М.Ф. Зеркала и Зазеркалья. С.244.
[Закрыть].
Эстетическая концепция Набокова антиреалистична по своей сути.
«Роковой ошибкой» критиков и читателей считал Набоков привычку «искать в романах так называемую „жизнь“»[81]81
Набоков В.В. Лекции о «Дон Кихоте». М., 2002. С.27.
[Закрыть]. Главный объект саркастических выпадов Набокова – теория реализма, а главный адресат полемики – критики и ими воспитанные читатели, желающие видеть в произведении искусства отражение «жизни», все те, кто думают почерпнуть из сочинений писателя полезную информацию о реальном положении дел, кто читает французские и русские романы, «чтобы что-нибудь разузнать о жизни в веселом Париже или в печальной России»[82]82
Набоков В.В. О хороших читателях и хороших писателях. С.28–29.
[Закрыть]. Для автора «Дара» подобный взгляд на искусство – не что иное, как вопиющая пошлая чушь[83]83
Подробнее об антиреалистической концепции В. Набокова см.: Злочевская А.В. Художественный мир Владимира Набокова и русская литература XIX века. С.162–183.
[Закрыть].
Истинное постижение произведения искусства предполагает четкое различение «фиктивной реальности» и «реальности фикции»[84]84
Набоков В.В. Лекции о «Дон Кихоте». С.27.
[Закрыть].
Отсюда – характерная для мироощущения Набокова-художника параллель между приемами литературного сочинительства и приемами, «которыми пользуется человеческая судьба» [Н1., T.1, c.101]. Для Набокова сама жизнь обычно «бывает помощником режиссера» [Н1., T.3, c.188], то есть Сочинителя. Эта модель соотношения двух реальностей – «действительной» и сотворенной писателем – переносится в его художественный мир. Более того,
Вспомним замечание Зины Мерц по поводу образа Чернышевского в романе ее возлюбленного, писателя Федора Годунова-Чердынцева: «подлинная его жизнь в прошлом представлялась ей чем-то вроде плагиата» [Н., T.4, c.384].
И у Гессе, в вымышленной реальности «Магического театра», самое страшное преступление – оскорбить «высокое искусство, спутав <…> прекрасную картинную галерею с так называемой действительностью», осквернив «славный мир образов пятнами действительности» [Г., T.2, c.395].
В своих статьях и эссе Гессе различал сочинителей трех уровней: Dichter – писатель-поэт, художник слова, творец, Schriftsteller – профессиональный литератор, Literat – графоман, эстетствующий писатель[86]86
Cм.: Снежинская Г. «В этот край я снова возвращаюсь…» // Гессе Г. Магия книги. С.12.
[Закрыть].
Интересно, что у Булгакова «реалистическую» эстетическую программу «озвучил» Воланд. Убеждая больного и предельно уставшего мастера продолжать сочинительство, он говорит: «Но ведь надо же что-нибудь описывать?» [Б., T.5, c.284]. В той же реплике Воланда – и второе ключевое слово концепции реализма – «изображать»: «если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы этого Алоизия» [Б., T.5, c.284]. «Изображать» и «описывать» – таковы основополагающие, «кодовые» слова реалистической литературы. И оба звучат из уст Воланда[87]87
Замечательна и еще одна перекличка «идей» между Воландом и советской идеологией культуры. Сперва редактор удивлялся, кто надоумил мастера «сочинить роман на такую странную тему?» [Б., T.5, c.140]. Затем тот же по существу вопрос задает Воланд: «В наши дни? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы?» [Б., T.5, c.278]. Надо заметить, подозрительно много у Воланда «общих точек» с советской идеологией. Впрочем, не только советский редактор, но и современный булгаковед задается вопросом аналогичным: странно, что булгаковский «герой обходит полным молчанием причины и цели создания им книги» (Яблоков Е.А. Художественный мирМихаила Булгакова. С.240). Но художник сочиняет просто потому, что ему интересно и хочется этим заниматься, без конкретных целей и причин. Удивительно, что это простое объяснение не пришло в голову столь достойному ученому.
[Закрыть].
Однако ведь и сам мастер также употребил слово «описывать» применительно к своему творчеству: «Я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь» [Б., T.5, c.146], – объяснял он Ивану Бездомному свою творческую усталость. Может показаться, что речь идет об одном и том же: оба, и мастер и Воланд, употребляют слово «описывать» применительно к литературному труду. На самом деле сходство это лишь кажущееся.
Воланд явно не видит разницы между «описыванием» Понтия Пилата и Алоизия. А разница эта весьма существенная, если не сказать – принципиальная. Сочиняя роман о Пилате, мастер «описывал» героя вымышленного – плод собственного творческого воображения. Воланд же предлагает «описывать» персонажа из «жизни действительной» – того, кого мастер своими глазами видел и с кем общался, иными словами, предлагает копировать действительность. Так коллеги писателя Максудова «описывали» всё, что на глаза попадалось: один – своего «деверя» из Тетюшей[88]88
Деверь, как известно, может быть только у женщины, так как это – брат мужа. Ошибка ли это Булгакова, или невежество его персонажа? Надо думать, последнее.
[Закрыть], другой – Париж, где случилось жить, а также его жителей, третий – самого Максудова и т. д.
Но почему же мастер, говоря о герое вымышленном, тоже употребляет слово «описывать»? Ответ – в сцене сочинения своей пьесы писателем Максудовым.
«Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. <…> Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. <…> С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля <…> И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же ее описать? А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцвечивается <…> Я вижу вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют „Фауста“. Вдруг „Фауст“ смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет? Вон он выходит из дверей с гитарой в руке. Слышу – напевает. Пишу – напевает» [Б., T.4, c.434–435].
Вот оно! Оказывается, «описывать» – значит вовсе не изображать окружающий мир, но правдиво («чего не видишь, писать не следует») воссоздавать то, что является воображению художника. И когда мастер говорит, что он потерял способность «описывать», он имеет в виду, что ему перестали являться «волшебные картинки» и он утратил дар их воссоздавать в своих книгах.
Творческий процесс здесь – «объективация снов», ибо являются «волшебные картинки» писателю в творческих снах:
«– Он [роман – А.З.] зародился однажды ночью, когда я проснулся после грустного сна, – рассказывал писатель Максудов. – Мне снился родной город, снег, зима, гражданская война <…> Во сне прошла передо мною беззвучная вьюга, а затем появился старенький рояль и возле него люди, которых нет уже на свете. Во сне меня поразило мое одиночество, мне стало жаль себя. И проснулся я в слезах <…> Так я начал писать роман. Я описал сонную вьюгу. Постарался изобразить, как поблескивает под лампой с абажуром бок рояля. Это не вышло у меня. Но я стал упорен» [Б., T.4, c.405].
Другая пьеса – мы знаем, что она станет «Зойкиной квартирой», – также зародилась в некоем странном видении – творческой галлюцинации:
«…из-под полу по вечерам доносился вальс, один и тот же (кто-то разучивал его), и вальс этот порождал картинки в коробочке, довольно странные и редкие. Так, например, мне казалось, что внизу притон курильщиков опиума, и даже складывалось нечто, что я развязно мысленно называл – „третьим действием“. Именно сизый дым, женщина с асимметричным лицом, какой-то фрачник, отравленный дымом, и подкрадывающийся к нему с финским отточенным ножом человек с лимонным лицом и раскосыми глазами. Удар ножом, поток крови. Бред, как видите! Чепуха! И куда отнести пьесу, в которой подобное третье действие?»[Б., T.4, c.519].
И «ершалаимские» главы «Мастера и Маргариты» возникают как «живые картинки», являясь уже более сложным образом, чем то было в «Театральном романе», – из реальности мистико-трансцендентной или метафикциональной.
Уже на первых страницах романа из уст Воланда звучит таинственное: «И доказательств никаких не требуется <…> Все просто: в белом плаще…» [Б., T.5, c.19] – и является сцена на балконе дворца Ирода Великого. Так же зачинается история Иешуа и Понтия Пилата – фрагментом той же кодовой фразы, которая и обрамляет роман мастера. Затем в воображении Маргариты возникает метареальность романа ее возлюбленного, как бы вызванная к жизни первой фразы:
«…до самого рассвета, могла Маргарита шелестеть листами тетрадей, разглядывать их и целовать и перечитывать слова: „Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город … Да, тьма“» [Б., T.5, c.289–290].
А вот с видениями Ивана Бездомного все обстоит гораздо сложнее:
«Ему стало сниться, что солнце уже снижалось над Лысой Горой, и была эта гора оцеплена двойным оцеплением <…> в ночь полнолуния» он «видит неестественного безносого палача, который, подпрыгнув и как-то ухнув голосом, колет копьем в сердце привязанного к столбу и потерявшего разум Гестаса…» [Б., T.5, c.167, 383].
Здесь явно оживает художественная реальность романа мастера. Но вот сон, навеянный вспрыскиванием морфия:
«…в ночь полнолуния <…> к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне…» [Б., T.5, c.383].
Из какой реальности приходит это видение – из художественной или мистико-трансцендентной? Очевидно, из обеих: ведь сцена примирения жертвы со своим палачом берет свое начало в тексте мастера, как бы продолжая сон Пилата. В то же время она ирреальна, поскольку могла произойти только в инобытии – после прощения героя мастером и Высшим Цензором, а следовательно, уже за пределами романа мастера. В первом случае прощение Пилата воплощает страстное и несбыточное желание героя, а во втором – решение его судьбы в инобытии.
Если же представить, что свидетельство очевидца Воланда и сочинение мастера истинны и «на самом деле» было так, как они говорят (ведь мастер писал о том, «чего никогда не видал, но наверно знал, что оно было» [Б., T.5, c.355]), то получится нечто совсем уже неожиданное: все приведенные случаи – переход сюжета об Иешуа и Пилате из одной реальности в другую, из настоящего в прошлое и наоборот.
Или реальность вообще одна – материально-трансцендентно-художественная? Я склоняюсь к последнему.
У Набокова концепция творчески продуктивной «сновидческой» реальности разработана более подробно. Так, в «Аде» возникает ее образный аналог – развернутая метафора «организованного сна» как симбиоза реальности – воображения – памяти [Н1., T.4, c.345–351]. «Организованный сон» – это образ-ген, который затем развернется в художественный текст.
В эссе «Вдохновение» писатель рассказал о таком «творческом сне», который он «записал», преобразовав позднее в связный текст:
«Море, бьющее и отступающее с шелестом гальки, Гуан и прелестная молодая блудница – какое имя ему назвали, Адора? кто она – итальянка, румынка, ирландка? – уснувшая у него на коленях, накрытая его оперным плащом, свеча, чадящая в цинковой плошке на подоконнике рядом с обернутым в бумагу букетом длинностебельных роз, его цилиндр на каменном полу, рядом с лунным пятном, – все это в углу обветшалого, некогда походившего на дворец веселого дома, Виллы Венус, на скалистом берегу Средиземного моря, за приотворенной дверью виднеется нечто схожее с освещенной луной галереей, на деле же – полуразрушенная гостиная с обвалившейся наружной стеной, за огромным проломом которой уныло ухает и уходит, клацая мокрой галькой, голое море, будто вздохи разлученного с временем пространства» [Н1., T.4, c.608–609].
Из этой сновидческой реальности структурировался роман «Ада», где, как воспоминание о сне-гене, возникнут перетасованные и несколько видоизмененные его фрагменты, предваряющие рассуждения Ван Вина об «организованном сне» [Н1., T.4, c.344–345].
Концепция «организованного сна» отражает набоковское понимание отношений между двумя реальностями – художественной и эмпирической. Доминантная роль в процессе преображения «реальной» жизни в произведение искусства принадлежит Мнемозине – креативной памяти.
Феномен креативной памяти следует рассматривать в более широком культурологическом аспекте – в контексте проблемы «культурной памяти». Тема, начатая в классических трудах М. Хальбвакса и Я. Ассмана[89]89
См.: Halbwachs M. Les cadres sociaux de memoire. Paris, 1925; Halbwachs M. La topographic legendaire des Evangeless en Terre Sainte. Etude de memoire collective. Paris, 1941; Assmann J. Das kulturelle Gedachtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identitat in den fruhen Hochkulturen. Miinchen, 1992; Assmann J. Moses der Agypter: Entzifferung einer Gedachfnisspur. Miinchen [u. a.], 1999. Русский перевод появился сравнительно недавно. См.: Ассманн Я. Культурная память. Письмо и память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.
[Закрыть], получила развитие уже 1990-е гг. в работах Ю. Лотмана[90]90
См., например: Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Таллинн. Т.1. 1992. С.200–202; Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. СПб, 2015. С.319–410. См. также: Кнабе Г.С. Вторая память Мнемозины // Вопросы литературы. 2004, № 1. С.3—24.
[Закрыть] и продолжает оставаться актуальной по сей день[91]91
Так, в конце 2011 г. в Москве прошла Международная конференция «Художественный текст и культурная память» («Поспеловские чтения – X»), организованная кафедрой «Теории литературы» филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
[Закрыть]. Авторы классических трудов тему «культурной памяти» разрабатывали по преимуществу в культурологическом ключе, имея в виду memoria коллективную, этно– и социополитически детерминированную. Литературоведческий ее аспект предполагает изучение индивидуальной творческой памяти, а также модели ее взаимодействия с памятью групповой.
В этом контексте метапроза Владимира Набокова, и роман «Дар» в особенности, представляет несомненный интерес как пример функционирования категории «культурной памяти» внутри индивидуального сознания художника-Демиурга[92]92
Ср.: Аверин Б. Гений тотального воспоминания: О прозе Набокова // Звезда. Владимир Набоков. К 100-летию со дня рождения. 1999. № 4. С.158–164; он же: Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб, 2003 и др.
[Закрыть].
Критики сразу обратили внимание на то, что в сочинениях В. Сирина воспоминание играет ведущую роль. М. Кантор полагал, что сосредоточенность на воспоминаниях неизбежно ограничивает перспективы молодого писателя: когда потенциал прошлого будет исчерпан, наступит творческий кризис. Единственная возможность преодолеть кризис – сбросить «бремя памяти», выйдя за пределы воспоминаний[93]93
Кантор М. Бремя памяти (о Сирине) // В.В. Набоков: pro et contra. Т.1. С.234–237.
[Закрыть]. Главная ошибка М. Кантора заключалась в том, что категорию памяти он рассматривал в традиционных параметрах реалистического искусства, понимая ее как воспоминание о бывшем на самом деле. Потенциал таких воспоминаний у каждого человека действительно ограничен. Но в мире Набокова память неисчерпаема, ибо она есть память креативная.
«Присяга на верность Мнемозине означает для Набокова, – писал М. Шульман, – готовность к творческому акту, а не консервацию, – воспоминание и вымысел действуют по одному закону, их неожиданно объединяющему, – закону творчества»[94]94
Шульман М. Набоков, писатель. Манифест. М., 1998. С.34.
[Закрыть].
Содержание этого понятия в мире Набокова многозначно. Одно из значений буквально: цепкая память позволяет писателю точно и живо воссоздавать реальность мира физического во всех ее подробностях. Ведь
«…художник должен знать данный ему мир, – сказал Набоков в Интервью в журнале „Playboy“, 1964 г. – Воображение без знания ведет лишь на задворки примитивного искусства, к каракулям ребенка на заборе или речам безумца на рыночной площади» [Н1., T.3, c.575].
Сам Набоков, как известно, обладал памятью феноменальной – абсолютно точной в деталях и подробностях.
На следующем этапе память обретает функции креативности. Для Набокова сама реальность – «это форма памяти» [Н1., T.3, c.605].
«Воображение зависит от ассоциативной силы, а ассоциации питаются и подсказываются памятью. Когда мы говорим о живом личном воспоминании, мы отпускаем комплимент не нашей способности запомнить что-либо, но загадочной предусмотрительности Мнемозины, запасшей для нас впрок тот или иной элемент, который может понадобиться творческому воображению, чтобы скомбинировать его с позднейшими воспоминаниями и выдумками» [Н1., T.3, c.605–606].
Начиная с «Дара», «страстная энергия памяти» [Н1., T.5, c.186] обрела статус творческой доминанты: «ключом к воссозданию прошлого оказывается ключ искусства»[95]95
Набоков В.В. Марсель Пруст // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. С.277.
[Закрыть].
Но есть в набоковской эстетике и иной, тайный лик Мнемозины — мистико-трансцендентный.
«– В моем случае, – сказал писатель в интервью А. Аппелю, – утверждение о существовании целостной, еще не написанной книги в каком-то ином, порою прозрачном, порою призрачном измерении является справедливым, и моя работа состоит в том, чтобы свести из нее на землю все, что я способен в ней различить, и сделать это настолько точно, насколько оно человеку по силам. Величайшее счастье я испытываю, сочинительствуя, когда ощущаю свою способность понять – или, вернее, ловлю себя на такой неспособности (без допущения об уже существующем творении), – как или почему меня посещает некий образ, или сюжетный ход, или точно построенная фраза» [Н1., T.3, c.596].
В эстетике Набокова иррационально-мистический лик креативной памяти проявляет себя отчетливо: благодаря ей, художник вспоминает то, что видел и знал в реальности инобытийной. Он «рассказывает» свои воспоминания не только из «жизни действительной», но и из сферы трансцендентной.
Набоковская концепция памяти сфокусировала сущностные характеристики индивидуального художественного стиля писателя. Креативная память, во всей ее многоликости, соединяет в одно целое металитературную и мистико-иррациональную линии его креативно-эстетической концепции, а также верность правде жизни – в органичном сплаве с вымыслом и иррационально-трансцендентными прозрениями художника-Демиурга. Если непосредственная память о событии творит иллюзию жизнеподобия, то другие ипостаси Мнемозины – креативная, мистико-трансцендентная и культурно-реминисцентная – ткут волшебную ткань художественной сказки.
В то же время концепция памяти, характерная для индивидуального стиля Набокова-сочинителя, отнюдь не автономна, но тесно связана с коллективной памятью культурной среды русской эмиграции. Так, в «Даре» креативная память, реализуя потенциал Мнемозины непосредственного воспоминания и культурно-реминисцентной памяти, выполняет как функцию воскрешения прошлого, так и связи с культурной традицией классического русского искусства.
То же, по существу, мы видим и в художественном мире Булгакова. В «Театральном романе» креативная память воссоздает в воображении писателя действительное прошлое его жизни, а в «Мастере и Маргарите» Мнемозина иррационально-мистическая позволяет мастеру, сочиняя, угадывать «то, чего никогда не видал, но наверно знал, что оно было». Здесь уже
«…рассказ об Иешуа и Пилате, – по справедливому замечанию современных авторов, – существует <…> как некий нерукотворный пратекст, мистически открывшийся Мастеру, частично привидевшийся во сне Ивану Бездомному и частично рассказанный Воландом»[96]96
Лесскис Г.А., Атарова К.Н. Москва – Ершалаим. Путеводитель по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». М., 2014. С.322.
[Закрыть].
Подлинный художник не только обладает знанием реальным, но наделен и сверхъестественным всеведением сочинителя-Демиурга.
Трехчастная структура креативной памяти в мистической метапрозе отражает понимание ее создателями отношения искусства к «действительности»: художник, благодаря творящему воображению, постигает мистический подтекст мира физического.
На уровне иррационально-мистической креативной памяти в произведениях Гессе, Набокова и Булгакова возникает мотив тайного задания, полученного писателем от высших сил и реализуемого им в своем творчестве.
Но главная фаза сочинительства последняя – сотворение новой, художественной реальности, не менее действительной, чем мир материальный. Именно в этой завершающей фазе свершается волшебство воскрешения художником прошлого.
Для Набокова цель искусства – создание произведения, подобного Вселенной и возникшего, как она, по воле автора в результате управляемого взрыва[97]97
Набоков В.В. Джейн Остен // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. С.37.
[Закрыть]. Свершается «волшебство» и рождаются новые миры. Писатель наделен волшебной способностью «творить жизнь из ничего» [Н1., T.1, c.498], точнее, из самой плоти языка: «Перед нами поразительное явление: словесные обороты создают живых людей» [Н1., T.1, c.459]. Метафоры здесь «оживают»: «постепенно и плавно <…> образуют рассказ <…> затем <…> вновь лишаются красок» [Н1., T.4, c.593] – этот принцип, намеченный еще в «Лолите», организует поэтику «Ады».
Образные метаморфозы здесь возможны весьма изощренные. Так, физические упражнения Вана-эквилибриста, с которыми он выступает перед домашней публикой Ардиса, а затем гастролирует по фантастическим меж(=вне)национальным территориям, – это не что иное, как «живая картина», представляющая метафору «поставить <…> с ног на голову» [Н1., T.4, c.180]. А та реализует себя в столь любимом Набоковым и его героем искусстве словесного цирка, где артистами выступают «слова-акробаты» и «фокусы-покусы» [Н1., T.4, c.213]. И когда повествователь говорит, что
«на сцене Ван производил фигурально то, что в позднейший период жизни производили фигуры его речи, – акробатические чудеса, никем не жданные и пугающие малых детей» [Н1., T.4, c.180–181],
это, конечно же, не столько о Ван Вине, сколько о самом В.В. (на этой странице Ван Вин и назван инициалами). Арена сего увлекательного действа – фантастическое пространство художественного сна.
Следующая фаза сотворения «второй реальности» в «Аде» – когда цепочки слов, прихотливо сплетаясь с литературными реминисценциями, дают импульс зарождению сюжетов. Из фонетических ассоциаций возникла и сама история инцеста:
«Инцест меня ни с какого боку не интересует, – писал Набоков. – Мне просто нравится звук „бл“ в словах близнецы, блаженство, обладание, блуд» [Н1., T.4, c.594].
Сказано не без доли эстетского кокетства, разумеется.
И все же… Цепочка слов: insect – scient – nicest – incest (насекомое – ученый – милейший – инцест), родившись из игры в английские анаграммы [Н1., T.4, c.88, 258, 381], и в самом деле оказалась сюжетообразующей. Экспозиция: милейшая героиня романа – юный ученый-натуралист – поглощена своими насекомыми, а в Ардисе ожидается ежегодное нашествие особых, билингвистических «кровососов» – камаргинского комара (Moustiques moskovites) [Н1., T.4, c.76]. Затем лексический ряд insect’а вплетается в тему incest’а: одно из первых острых эротических переживаний Вана – от близости с девочкой, склонившейся над диковинным рисунком, в котором цветок «Венерино зеркало» неуловимым образом преображается в бабочку, а затем скарабея (этот образный ряд вновь воскреснет, как знак нового витка эротического напряжения, уже между Ваном и Люсеттой). Нарастание сладострастия соотносится с мотивом зуда от укусов реминисцирующих «шатобриановых комаров». Кульминация наступает спустя несколько дней после игры в анаграммы, когда реализует себя ключевая пара слов insect – incest:
«в последних числах июля в этих местах с дьявольским постоянством появлялись самки шатобриановых комаров» [Н1., T.4, c.105].
И наконец в «Ночь Неопалимого Овина» свершился инцест. Так аллюзия с романами Шатобриана – одна из доминантных в «Аде» – вплетается в образно-лексический комплекс инцеста.
Анаграмма insect – incest вызывает и другой ряд литературных ассоциаций – с Достоевским. Ряд «ударных слов»[98]98
Cм.: Чичерин А.В. Идеи и стиль. М., 1965. С.179.
[Закрыть] безобразие – сладострастие – насекомое (таракан, клоп, тарантул, фаланга) организует центральный образно-семантическийкомплекс романа «Братья Карамазовы». А мотив о самке насекомого, поедающей своего самца [Н1., T.4, c.133–134], восходит к эссе Достоевского о царице Клеопатре:
«…в прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического, страшного гада: это душа паука, самка которого съедает <…> своего самца в минуту своей с ним сходки. Всё это похоже на отвратительный сон» [Д., T.19, c.136].
Образ Ады, по существу, реализовал эту матрицу, предначертанную Достоевским.
Однако образ героини Набокова по отношению к Достоевскому полемичен, ибо осуждение порока в духе христианской морали Набокову чуждо. Ему ближе понимание страсти, воплощенное в монологе Дмитрия Карамазова. Отсюда – скрытая на уровне подтекста связь общей ситуации «Ады» со строками из «Оды к радости» Шиллера, которые декламировал Дмитрий:
У груди благой природы
Всё, что дышит, радость пьет;
Все созданья, все народы
За собой она влечет;
Нам друзей дала в несчастье,
Гроздий сок, венки харит,
Насекомым – сладострастье…
Ангел – Богу предстоит [Д., T.14, c.99].
Герои романа Достоевского живут в фокусе сверхвысокого напряжения магнитных силовых линий, возникающего между полюсами мирового Добра и Зла:
«Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут» [Д., T.14, c.100].
Но главная и самая страшная в своей изначальной амбивалентности тайна для человека – красота, ибо в сердце его идеал содомский с идеалом Мадонны нераздельны.
«Красота – это страшная и ужасная вещь! <…> Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей» [Д., T.14, c.100].
Набоков воссоздает, но уже в контексте современных писателю XX в. этических и эстетических координат, по существу такое же, как у Достоевского, понимание красоты и чувственной любви: опаляющая красота Ады – «красота сама по себе, воспринимаемая здесь и сейчас» [Н1., T.4, c.75], а образ героини, подсвечиваемый попеременно то демоническим, то ангельским светом, существует в точке сопряжения идеала содомского и идеала Мадонны. Свою концепцию красоты и страсти Набоков воплотил в композиционной модели, построенной на сплетении образно-ассоциативных линий: Ада – scient – insect – incest [Н1., T.4, c.88], ada – ardor [Н1., T.4, c.47], ada – ardors – arbors [Н1., T.4, c.77], ardor – Ардис – Парадиз (Ардис – это не только «стрекало стрелы» [Н1., T.4, c.217], но и неточная анаграмма Парадиза), ада – «из ада» [Н1., T.4, c.39]. Имя героини – в точке пересечения доминантных образно-лингвистических линий романа и в центре оси, соединяющей полюса мироздания – Ад и Рай. Фантасмагорический мир «за пределом счастья» [Н1., T.2, c.206], где блаженство неотделимо от ужаса, а рай от ада, – мир нимфолепсии, уже был изображен в «Лолите», с которой «Ада» генетически связана. Принцип организации внутренней композиции романа родствен поэтическому мышлению Достоевского.
В «Аде» сексуальное начало, подсвеченное сюрреалистическим мерцанием, оплодотворяет творчество (ср. эссе «Вдохновение» [Н1., T.4, c.608]).
«Существует некая точка духа, – писал А. Бретон, – в которой жизнь и смерть, реальное и воображаемое, прошлое и будущее, передаваемое и непередаваемое, высокое и низкое уже не воспринимаются как противоречия. И напрасно было бы искать для сюрреалистической деятельности иной побудительный мотив, помимо надежды определить наконец такую точку»[99]99
Бретон А. Второй манифест сюрреализма // Антология французского сюрреализма. М., 1994. С.290.
[Закрыть].
В «Аде» такой точкой стала «новая нагая реальность», которая открывается героям через «язвящие наслаждения, огонь, агонию» страсти [Н1., T.4, c.212], поднимая «животный акт на уровень даже высший, нежели уровень точнейшего из искусств или неистовейшего из безумств чистой науки» [Н1., T.4, c.212]. Она питается соками художественной реальности, но и требует запечатления в ней, ибо сама по себе хотя и «допускала воспроизведение», но «существовала лишь миг» [Н1., T.4, c.212].
Но если раньше, в мире В. Сирина высшее наслаждение давало вдохновение сборного, музыкально-математически-поэтического типа [Н., T.5, c.319], то у Набокова к этому триединству подключилась стихия чувственности. Метаморфоза весьма знаменательная: она предрекала наступление эры сексуального взрыва.
Сексуальное и творческое начала сливаются в одно нераздельное целое – и это еще одна из нитей, протягивающихся между креативными системами Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова.
«Я имел также счастье пережить возможность одухотворения чувственности. Из этого возникает искусство» [Г., T.3, c.261], – говорит герой романа «Нарцисс и Гольдмунд». И в продолжение своих жизненных странствий Гольдмунд, страстный женолюб и художник, стремился к кощунственной с точки христианской морали цели – создать образ, «полный любви и тайны» [Г., T.3, c.264], запечатлев в фигуре Мадонны образ своей матери, Евы-матери, воплощавшей для него жизнь, любовь, сладострастье [Г., T.3, c.261].
Культ «одухотворенной чувственности» царит на страницах романов Гессе, прежде всего, «Степного волка».
В «Аде» любимые занятия героев, наряду с любовными (но и они не лишены филологического привкуса), – лингвистические игры и чтение. Или, что лучше, жизнь в произведении, когда герои словно проживают изнутри различные ситуации из мировой литературы – скажем, столь частые у «русских романистов» сюжетные мотивы игры и дуэли [Н1., T.4, c.168–174, 294–302]. Сама история любви Ады и Вана, прокомментированная многочисленными научными трудами по энтомологии и энциклопедическими словарями и «подсвеченная» роскошным эстетическим фоном [Н1., T.4, c.135, 138–139], не просто варьирует один из древнейших эротических сюжетов мирового искусства – она на наших глазах рождается из художественных текстов (Библия, «Дафнис и Хлоя» Лонга, «Езда в остров любви» В. Тредиаковского, «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Рене» и «Атала» Шатобриана, «Манон Леско» Прево, «Сильна как смерть» Мопассана и многие другие).
«Библиотека предоставила декорации для незабываемой сцены Неопалимого Овина; она распахнула перед детьми свои застекленные двери; она сулила им долгую идиллию книгопоклонства; она могла бы составить главу в одном из хранящихся на ее полках старых романов; оттенок пародии сообщил этой теме присущую жизни комедийную легкость» [Н1., T.4, c.136].
Но движение художественной реальности на этом не прервалось: история любви Ады и Вина проросла в памяти людей и сама стала легендой [Н1., T.4, c.395–396].