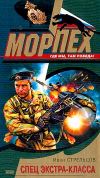Текст книги "Избранные произведения. Том 5"

Автор книги: Абдурахман Абсалямов
Жанр: Литература 20 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Неделю Газинур оставался в поле, караулил лошадей. При помощи Григория Ивановича и специально присланных из Бугульмы зоотехников удалось уберечь колхозный табун от эпидемии. Заболевшие лошади стали поправляться. Разговоры об этом происшествии улеглись как-то сами собой. Но сегодня Газинура опять зачем-то вызвали в правление – впервые после той взбучки, которую он получил от Гали-абзы и Ханафи.
Председатель колхоза Ханафи Сабиров разговаривал с Салимом. За столом напротив Альфия, в алой косынке, повязанной за уши, сверяла какие-то квитанции, скользя голубыми, как цветочки льна, глазами по бумагам. Возле, на подоконнике, распустилась фуксия – длинные тычинки её цветов, как и серьги девушки, походили на падающие капли воды.
Не только стол Альфии, но и вся комната правления блещет чистотой, во всём видны проворные девичьи руки. Портрет Ленина украшен полевыми цветами. Занавески на окнах снежно-белые. На стенах развешаны диаграммы, плакаты, они доказывают полезность многопольной системы, учат, как поднять урожай, улучшить породы скота, рассказывают о новых фермах, клубах, о колхозных электростанциях, которые будут построены в деревнях в ближайшие годы.
Войдя в эту уютную, светлую комнату, люди чувствуют себя свободно, как дома, и, приветливо кивая молодой девушке, сосредоточенно перебирающей костяшки счётов, говорят:
– И не поймёшь, то ли это Альфия так красит комнату, то ли сама комната хороша…
А те, кто побойчее, добавляют:
– И кому только на счастье растёт этакая жемчужинка…
Если же иногда кто из стариков присаживался поближе к столу Альфии, так другой посмеивался:
– Подвинься-ка, Котбетдин-абзы. У тебя ведь нет сыновей, можешь и подальше где сесть. А у меня сын жених, дай-ка лучше я подсяду поближе к Альфие, а к весне, коли суждено, возьму её к себе в дом невесткой.
Альфия, не переставая между делом прислушиваться к беседе Ханафи с Салимом, отложила квитанции, раскрыла большую конторскую книгу и взяла перо. Как раз в это время и появился Газинур. Вошёл он, как обычно, с шумом, ещё с порога бросив Альфие какую-то шутку, от которой та густо покраснела. Но, повернувшись к председательскому столу, стал серьёзным: рядом с Ханафи сидел Салим, и Газинуру подумалось невольно, не подымают ли заново историю с лошадьми. Он насторожился.
– Так вот, Салим, – говорил Ханафи, глядя прямо в глаза парню, – правление решило освободить тебя от должности ветфельдшера. Почему – сам знаешь, обижаться нечего. Раз получилась осечка, её уже никак не скроешь. Я насчёт тебя много размышлял. Не хотелось бы, чтобы ты и в будущем остался такой – ни яблоко, ни хурма. Сегодня пришла из района бумага, просят выделить людей на социалистические стройки. Может, поедешь? – И, увидев на лице Салима растерянность, добавил: – Ты человек молодой, поглядишь, чем живёт страна. Подумай. Не надолго, всего на год. А год, как говорит наш Газинур, даже заячья шкурка выдерживает.
Ханафи помолчал, ожидая ответа.
– С удовольствием поехал бы, Ханафи-абы… – начал Салим, стараясь не смотреть в глаза председателю. – С большим удовольствием… Но ты ведь знаешь, я… человек больной… Поэтому я и с учёбы ушёл. Потом я ведь…
– Хочу жениться на Миннури… – вставил Газинур.
Ему показалось, что губы Ханафи под большими чёрными усами дрогнули в улыбке. Но председатель погрозил Газинуру пальцем: дескать, сиди смирно. Не тебя спрашивают.
– А я и не знал до сих пор, что ты болен, – сказал Ханафи, и Газинур увидел, как в его глазах заплясали лукавые искорки. – Так чем же ты хвораешь?
Салим сидел, потупив глаза, краснея и не находя, что ответить.
– У него такая хворь, Ханафи-абы, что нельзя сказать при Альфие. Ты спроси его об этом за дверью, – снова раздался насмешливый голос Газинура.
Эти слова были для Салима словно пощёчина. Побагровев, он вскочил, отвислые губы его дрожали. Он искал слов, которые сразили бы Газинура на месте, но они не находились.
– С-свинопас! – прошипел он сквозь зубы.
Газинур рассмеялся.
– Правдивое слово не зазорно, Салим. Пусть бы у колхоза было побольше таких «красавчиков», каких мне довелось пасти. Правильно я говорю, Ханафи-абы? Знаешь, сколько доходу получает от них колхоз «Прогресс»? Сто тысяч! Зачем же стесняться работы, которая могла бы принести колхозу сто тысяч рублей доходу.
Председатель согласно кивнул головой и добавил, что с осени в «Красногвардейце» будет своя свиноферма. Потом опять повернулся к Салиму.
– Пока на этом кончим, Салим. А завтра съездишь, покажешься врачу. Альфия даст направление. Если ты действительно не годен к строевой, что ж поделаешь!.. У нас людей достаточно.
Это уже было последней каплей, которая доконала Салима. Он вышел, ни на кого не глядя, забыв даже взять со стола свою шляпу.
– Ну и опозорил ты парня, Газинур! – не в силах удержаться от смеха, сказал Ханафи. – Да к тому же ещё при Альфие.
– Газинур-абы всегда так, – сказала Альфия, покраснев. – Если уж невзлюбит кого, до того доведёт, что людям на глаза не покажешься.
– Смотри, смотри, Ханафи-абы, как она защищает его! – подмигнул Газинур председателю. – На, Альфиякай, шляпу, догони, отдай её своему ухажёру. Скажи, пусть не теряет голову, ещё пригодится.
– Хватит, Газинур, – прервал его балагурство Ханафи. – Поговорим о деле. Знаешь, зачем я тебя вызвал?
– Не знаю, но догадываюсь, Ханафи-абы, – усмехнулся Газинур.
– Догадываешься?
– Куда-то на работу собираешься послать? На каменоломню или на лесопилку? Или, может, на шахту, уголь добывать? Если на шахту, я поехал бы. Альфия, как это поётся в шахтёрской песне? «Рубит уголь шахтёр молодой…»
По правде говоря, Сабирову совсем не хотелось отпускать Газинура. Хорошие работники очень нужны были и в колхозе. Он уже собирался посоветоваться по поводу этого с Гали-абзы. Как и все в «Красногвардейце», Ханафи прислушивался к его мнению. Но Гали-абзы сам предложил включить Газинура в число отъезжающих.
– Если этот парень увидит город да побывает на производстве, он станет опорой колхоза, – заверил он и принялся неторопливо объяснять Ханафи: – Разве плохо будет для твоего колхоза, если через год-два в нём появятся механики, электрики или другие специалисты! Сейчас в твоём хозяйстве всего и есть что кузнец. Сам знаешь, как нужен колхозу ну хотя бы механик. Не приходилось бы тогда ездить в Бугульму за слесарями, чуть надо наладить новую жнейку. А ведь жнейка – самая нехитрая машина в колхозном хозяйстве. В ближайшие же годы у тебя будет и свой движок, и молотилка, и электростанция, и радиоузел, и своя телефонная сеть, и разные другие вещи… Нет, Ханафи-друг, скоро тебе очень понадобятся люди, знающие ремесло, квалифицированные специалисты. Именно они станут ведущими людьми колхоза. Не теряй перспективы, друг, гляди вперёд, когда принимаешь решения.
И Ханафи вынужден был с ним согласиться.
– Правильные у тебя догадки, Газинур. Стройки нашей страны требуют много людей, – сказал Ханафи, не спуская глаз с сияющего улыбкой лица парня. Горечь, оставшаяся у него на душе после разговора с Салимом, постепенно развеивалась. – Только речь идёт не о шахте и не о каменоломне, а о леспромхозе. Поедешь?
– А почему нет, Ханафи-абы? – ни на минуту не задумался Газинур. – Только об одной вещи я хочу спросить, Ханафи-абы. Старики говорят: «Прежде чем пуститься в путь, спроси о попутчиках, прежде чем купить дом, спроси о соседях». Дом у меня есть, соседи хорошие, а вот кто будет моими товарищами?
– Будь твой язык из рогожи, давно бы он у тебя износился, Газинур… – улыбнувшись, покачал головой Ханафи. – Только что ушли отсюда, дав согласие ехать, Гарафи-абзы, Хашим, Газзан…
– Раз Гарафи-абзы с Хашимом едут, я не останусь. А куда ехать и когда?
– На Урал, в Соликамские леса. Через неделю-другую надо будет выезжать.
– Так скоро? А почему не с осени? Уборка ведь приближается. Не трудновато ли будет, Ханафи-абы, если мы уедем?
– Конечно, трудно бывает, если рота теряет отделение. Но ведь она всё равно выполняет задачу, Газинур. А если колхоз будет гнуть только свою линию, мы далеко не уедем. Вспомни, сколько машин даёт нам город! Давно ли вы с Хашимом привезли веялку? А сегодня уже прибыли новые сеялки.
– Новые сеялки?!
– Да. И в ближайшие дни поступят ещё соломорезки.
В это время вошёл Морты Курица.
– Можно, Ханафи-абы? – спросил он, покачиваясь.
Он был пьян. Узкое, словно зажатое меж двух досок, лицо его в поту, ворот рубахи расстёгнут, штаны – ниже пояса, на босых ногах незастёгнутые сандалии.
– Ханафи-абы, я слышал, нужны рабочие в отъезд. Пошли меня! – Он сжал кулаки, выпятил грудь. – По любой специальности могу…
– Я же не вызывал тебя, – нахмурил брови Ханафи. – Если уж выпил, хоть не кудахтай… Мешаешь работать.
– Я выпил?.. Неверно. У меня сердце горит, Ханафи-абы… понимаешь, горит!.. – гримасничая, колотил он себя в грудь. – Жжёт сердце!.. Почему никуда меня не посылаете? Чем я хуже других? Рябого Газинура на почётное место сажаешь, разговариваешь с ним, а меня… Ух!..
– Обожди, дойдёт и до тебя черёд, – сказал председатель. – А сейчас ступай выспись. Когда протрезвишься, придёшь объяснишь, почему на работу не вышел.
– Мне можно идти? – поднялся Газинур.
Ему было противно видеть этого человека, слушать его пьяные выкрики.
– Иди. Посоветуйся с отцом и родными. А потом придёшь, скажешь, что решил.
Пока Газинур сидел в правлении, небо затянуло тяжёлыми, грозовыми облаками. Но на душе у Газинура было так ясно, что он даже не заметил чёрных туч, надвигавшихся с севера. Ещё бы! Впереди – новые места, новые города, заводы… Разве может себе представить что-нибудь более интересное парень, который не видел в своей жизни ничего, кроме Бугульмы, ни разу ещё не ездил в поезде?! Да и как он может отказаться ехать, если ему предложил это сам Ханафи! Ну и дурак Салим! Другой на его месте, если бы даже в самом деле был болен, постарался бы скрыть болезнь да поехать. А он… Вот уж действительно, тычешь бестолкового носом в миску, а его тянет к корыту. Будто нарочно про Салима сказано. Ну да, Газинур крепко его отхлестал, вовек не забудет.
Вдруг Газинуру пришла в голову неожиданная мысль: «А не смотрит ли этот «хворый» дальше, чем я? Я уеду, а он останется здесь… с Миннури…»
Впервые обуяла его такая ревнивая подозрительность. Не в характере Газинура было плохо думать о людях. Так уж он был устроен, что в каждом человеке предполагал скорей хорошее, чем плохое. А всё потому, что у него самого не набралось бы грязных мыслей и с булавочную головку. Раз всё в жизни стало таким ясным, последовательным и понятным с тех пор, как образовались колхозы, значит, рассуждал он, такими же ясными, чистыми, построенными на обоюдном доверии должны быть и чувства людей, любовь. А вот есть ещё, оказывается, осенняя муха – ревность.
«Постой-ка, постой! В самом ли деле любит тебя твоя дикая роза? А может, только притворяется, что любит?» Но тут же Газинур вспомнил, как склонила вчера Миннури ему на грудь свою голову, пред ним возникли её полные слёз глаза, и подозрение его показалось чудовищным. Устыдившись того, что он посмел так обидеть Миннури, Газинур невольно бросил взгляд в сторону дома Гали-абзы. Окна на улицу открыты, но что делается внутри, не видать – подоконники заставлены горшками с душистым тимьяном. А вон и сама Миннури – снимает бельё, развешанное во дворе. И, видно, очень торопится. Длинные волосы её распущены. Поднявшийся внезапно ветер раздувает их в разные стороны, играет подолом её платья. Через минуту Миннури скрылась за дверью. И тотчас же сверкнула молния, загремели громовые раскаты. Газинур в недоумении поднял голову. Всё небо покрылось иссиня-чёрными тучами. Деревня как бы притихла в полумраке.
Снова блеснула молния, и почти одновременно над самой головой грохнул гром. «Не ударила ли куда молния?» Встревоженный Газинур побежал вдоль широкой улицы, по которой кружились вихри пыли, к конному двору.
Он уже открыл двери конюшни, когда всё в ней – длинный узкий проход посередине, стойла – осветила вспышка ослепительной молнии. На одно мгновение возникли из темноты настороженно поднятые морды коней, замерший в дальнем углу с лопатой в руках Сабир-бабай и какие-то женщины. Следом раздался грохот такой силы, что, казалось, обрушились горы. Газинур втянул голову в плечи и невольно попятился. Ему показалось – молния ударила прямо в конюшню.
Батыр, стоявший в деннике, отделённом от остального помещения дощатой перегородкой, при каждом раскате грома взвивался на дыбы, бил задними копытами, пытаясь порвать железную цепь, проломить перегородку и вырваться на волю.
С другого конца конюшни Сабир-бабай кричал кому-то:
– Двери закройте… двери!
Но тут снова сверкнул огненный зигзаг, и снова почти одновременно грохнул гром. Женщина, побежавшая было закрыть двери, так и села в проходе между стойлами. Неподалёку что-то сильно хлопнулось об землю, – видно, ураган сорвал крышу с дома или с сарая. Вдоль улицы полетела подхваченная вихрем солома. Женщина, съёжившаяся на корточках в проходе, накрылась платком.
Только тут Газинур бросился закрывать двери конюшни. На улице яростно хлестал дождь. За густой его сеткой пропали не только дома на противоположной стороне, но даже пожарный сарай, стоявший в каких-нибудь тридцати шагах. С гор в овраг хлынули мутные потоки воды.
Жеребцу, должно быть, удалось освободиться от цепи – он так начал бить в перегородку, что щепки полетели.
– Батыр цепь порвал! – крикнул Газинур.
Подбежавший Сабир-бабай, увидя, что Газинур открывает дверь денника и хочет войти к разъярённому коню, закричал предостерегающе:
– Не входи – насмерть лягнёт! Слышишь, что говорю? Не входи! О двух головах ты, что ли, Газинур…
Но Газинур смело шагнул в денник. Конь дрожал всем телом, глаза налились кровью. Увидев возле себя человека, он на мгновение притих. Этим и воспользовался Газинур – он поймал цепь, продел её в кольцо. Но, почувствовав, что цепь натянулась и его снова лишают свободы, конь, напрягшись всем телом, ударил грудью в колоду, потом взвился на дыбы. Из раздувшихся чуть не с кулак ноздрей коня в лицо Газинуру пахнуло жаром. Ухватившись обеими руками за болтавшийся конец цепи, Газинур повис на ней.
– Закрутку, Сабир-бабай, давай скорее закрутку! – закричал он.
Встав на цыпочки, Сабир-бабай достал закрутку, заложенную за наличник двери, и бросил её Газинуру. Газинур одной рукой на лету подхватил её и начал скручивать жеребцу верхнюю губу. Батыр пытался отбросить его в сторону, но Газинур стоял как влитой, продолжая делать своё дело. Боль заставила коня смириться. Он сразу притих. Газинур спрыгнул с колоды и, вытерев пот со лба, вышел из стойла.
– Горим! – вдруг раздался голос Сабира-бабая.
Сквозь щели в задних дверях конюшни Газинур увидел взметнувшееся высоким языком багровое пламя. Пылал одиноко стоявший у подножия горы сарай, в котором хранился зимний инвентарь колхоза. Туда же на днях поставили новую веялку, которую Газинур с Хашимом привезли из Бугульмы.
Мимо конюшни на пожарной телеге с насосом промчался Гафиатулла-бабай – он стоял во весь рост и размахивал над головой вожжами, что есть духу погоняя коня. Следом за ним показался Халик с бочкой воды. Он тоже стоял во весь рост на телеге и тоже размахивал вожжами над головой. Прямо в лицо им бил косой дождь. Скакавшие во весь опор кони влетели в огромную выбоину, полную до краёв воды, вмиг перемахнули её и снова поскакали вперёд. Крикнув стоявшему на пороге Сабиру-бабаю, чтобы тот закрыл за ним двери конюшни, Газинур кинулся за отцом и младшим братом к сараю. «Не забудь убрать закрутку», – уже на бегу бросил он. Неподалёку показалась невысокая фигура Хашима. Он был на овцеферме, когда заметил огонь. К месту пожара спешили всё новые люди.
– Веялка… Новая веялка сгорит! Хашим, надо спасти веялку! – повторял на ходу Газинур.
Когда Газинур с Хашимом добежали до сарая, огонь охватил уже крышу.
Схватив с пожарной телеги топор, Газинур сбил с сарая замок. Ворота распахнулись. К этому времени подоспели и остальные. Одни по очереди качали насос, другие бегали с вёдрами.
– Эй, крышу сносите! Крышу, говорю, растаскивайте баграми! – распоряжался Гафиатулла-бабай.
Вид у него был устрашающий: он весь насквозь промок, шапка слетела, лицо перекошено, глаза лихорадочно блестят. Он совсем не был похож на того бессильного старика, который ходил свесив голову, вечно что-то бормоча себе под нос.
Газинур с Хашимом бросились внутрь сарая. Огонь уже успел охватить его со всех концов. Будто огромный костёр, пылали сложенные горкой сани. Горела новая веялка. Молния угодила, должно быть, прямо в неё.
Защищая локтём лицо, Газинур в два прыжка очутился возле горящей веялки и попытался сдвинуть её с места. Хашим помогал ему. В сарай вбежало ещё несколько человек. Но в эту секунду с улицы послышались голоса:
– Назад! Назад!.. Крыша рушится!
Газинур с Хашимом выскочили последними – на них начала уже тлеть одежда. Едва они показались, крыша рухнула. Огонь забушевал ещё сильнее…
Общими усилиями пожар быстро погасили. Колхозники стали расходиться.
– Пусть к добру будет это несчастье, – приговаривали старики.
Скоро Газинур остался у сарая один. Рубаха, штаны – всё на нём было мокрое. Обожжённые, покрытые волдырями руки больно ныли, но Газинур не чувствовал боли. Потрясённый, стоял он возле веялки, от которой уцелели лишь металлические части, и из его больших чёрных глаз текли обжигающие слёзы. Давно ли они с Хашимом привезли эту голубую, будто игрушка, красавицу машину из Бугульмы! «Я первый попрошусь на новую веялку», – мечтал Газинур. И вот что от неё осталось…
Гроза всё не утихала. По-прежнему шумел проливной дождь. Горизонт озаряла молния, издали доносило глухой громовой гул. Но Газинур ничего этого не чувствовал, не видел, не слышал.
VIIПоследний раскат грома проплыл над головой, напомнив отдалённый шум телеги, подпрыгивающей по булыжной мостовой, и замер где-то далеко, не то над Бавлами, не то в голубовато-мглистом небе Башкирии. Вокруг начинало проясняться. Нависшие над землёй серые тучи, будто оглядываясь, уходили всё дальше и дальше. Если посмотреть на небо, оно голубое, чистое, будто вымытое. А вокруг такое спокойствие, такая тишь, что кажется, природа устала после длительной трудной борьбы и сейчас отдыхает, набирая силы. Посвежевший воздух как-то особенно прозрачен, лёгок. Трава, деревья, радуясь солнцу, сверкают миллионами дождевых капель.
Косые закатные тучи, пронизав деревню от одного конца до другого, придают ей неповторимую красоту. Белёные домики, выглядывающие из зелени садов, похожи на атласные коробочки, высокие журавли колодцев, недвижно выстроившиеся вдоль улицы, сдаётся, погружены в какие-то свои думы, даже длинные строения колхозных ферм, напоминающие казармы, сияя белизной своих стен, выглядят празднично. А за деревней, точно ворота сказочного дворца, поднялась, заиграла всеми оттенками радуга.
Но тишина после бури не бывает долгой. Не успеют ещё затихнуть вдали последние раскаты грома, выходит, вылетает из своих убежищ всё живое, и снова начинается деловая суета, поднимается суматоха и гомон. Ещё у соседей с юга – в Яктыкуле, Туйралы, Наратлы – шёл дождь, а на залитые солнцем дворы «Красногвардейца», на улицу, к оврагу, куда с шумом стекали потоки дождевой воды, со всех ног, будто сорвавшиеся с привязи стригунки, бежали с засученными по колено штанами ребятишки. Председатель Ханафи и бригадир Габдулла верхом на конях поехали осматривать посевы. Заработали сепараторы на ферме.
С коромыслом на плече прошла на родник за водой молодая девушка в белом платке и белом переднике, в новеньких, блестящих калошах. Ниже родника разлилось целое озеро жёлтой пенистой воды. По ней с гоготом, с кряканьем плавали гуси и утки. Открылись широкие двери конюшни. Оттуда выскочил рыжий жеребёнок, остановился, повёл вокруг головой, словно удивляясь происшедшей перемене, и, задрав хвост и наддавая задом, принялся играть и резвиться. Заржала мать, подзывая его. Через некоторое время в широко открытых дверях конюшни показались Сабир-бабай и Газинур. Они подошли к бочке с водой, стоявшей под жёлобом на углу конюшни. Рукой, перевязанной тряпицей, Газинур смахнул со скамейки набравшуюся в небольшом углублении дождевую воду, усмехнулся.
– Прошу, Сабир-бабай, на почётное место!.. Давай закурим. Пусть не наши сердца – табак горит.
Оба они порядком-таки устали за сегодняшний неспокойный, полный неожиданных неприятностей день. Особенно Сабир-бабай. Газинур пытался уговорить его отдохнуть. Да куда там! Старик только нетерпеливо отмахивался от него.
– Всё равно глаз не сомкну, пока Ханафи с Габдуллой не вернутся… Лучше бы мне самому поехать… А вдруг побило хлеба?.. Целы ли кони? Страшный ведь ураган был. Помню, как-то давно такой же вот ураган пронёсся, так хлеба совсем полегли. И сгнили. А коней три дня разыскивали, за тридцать вёрст их занесло от непогоды.
– Да не тревожь ты себя раньше времени, Сабир-бабай. Лучше закури. Пока выкурим по одной, Ханафи-абы с бригадиром как раз и вернутся.
– Что вернутся, это я и без тебя знаю. С доброй ли вестью, вот о чём разговор.
Сабир-бабай негнущимися стариковскими пальцами свёртывает самокрутку, то и дело поглядывая на овраг. Дно оврага, по которому бурлят сейчас водяные потоки, кишит ребятишками. Шесть-семь лет тому назад овраг едва намечался. А сейчас – эк его размыло! – в ширину три, а кое-где и четыре метра будет, да и в глубину, пожалуй, не меньше двух-трёх метров. Дождевые и снеговые воды, устремляющиеся с гор, со всех сторон обступивших «Красногвардеец», год от году всё больше размывают его.
– Вот сила эта вода! Мало сказать – землю, и камень точит, – вслух принимается размышлять Сабир-бабай, чтобы хоть как-нибудь отвлечься от сосущего беспокойства за посевы и коней, и тихонько качает головой. – Эх, жизнь, жизнь…
Газинур тоже курит и тоже поглядывает на овраг. Но его интересует совсем другое. Вон чернявый мальчонка вытащил корыто, в котором мать стирает бельё, и пытается забраться в него, чтобы поплыть, как на лодке. Но не успевает влезть – корыто перевёртывается, и мальчонка срывается в воду. Газинур от души смеётся.
– Не отступай, Апкали, не отступай, – получится!
Сабир-бабай не обращает внимания на его выкрики, он занят своим.
– Эх, была бы у нас речка, пусть бы даже не шире этого потока! – мечтательно, почти шёпотом произносит он. – И скотина бы не мучилась, и огороды было б чем поливать, и ребятишкам удовольствие…
А Газинур всё наблюдает за мальчуганом.
– Апкали, блошка ты этакая, забрался-таки!.. Смотрите-ка, поплыл, в корыте катается, бесёнок! – в восторге кричит он.
Взгляд его падает на Сабира-бабая, и только тут до него доходит смысл сказанных стариком слов.
– Не горюй, бабай, подожди, станем немного на ноги, запрудим овраг – всё лето вода не будет пересыхать. Да ещё и деревья посадим вокруг. Липы!.. Как зацветут, по всему колхозу запах разнесётся.
На обветренное, морщинистое лицо Сабира-бабая падают последние лучи солнца. Он отодвигается немного в сторону и всё тем же задумчивым голосом повторяет:
– Запруду, говоришь? Не знаю, выйдет ли что-нибудь из твоей запруды. Как дерево без корня не может расти, так и озеро без родника или высыхает, или загнивает. В городах в фонтанах и то воду обновляют. А вот насчёт деревьев дело говоришь. Дерево землю укрепляет.
Старик надолго уходит в себя, словно что-то вспоминает, потом продолжает свою мысль:
– Мы здесь новые люди, плохо знаем историю этих мест. Но землю вокруг своего Шугура и Азнакая знаю хорошо. Узенькие канавки, которые я в детстве перепрыгивал, превратились сейчас в большие овраги с голыми глинистыми склонами. Семьдесят лет уж тому…
– Да, за семьдесят лет небось много воды утекло, – поддакивает Газинур.
– Ещё бы не утечь! И вода текла, и пот лился, и кровь со слезами, Газизнур[12]12
Газизнур – полное имя Газинура: газиз – дорогой, нур – луч.
[Закрыть], сынок. Эх, рассказать бы тебе всё, что было пережито!
Газинур мягко, чтобы не обидеть старика, говорит:
– Та вода, что утекла, вспять не повернёт. Не терзай себя воспоминаниями о прошлом, Сабир-бабай. Лучше смотри в будущее да приговаривай: «Вот возьму да ещё семьдесят проживу!»
Ссохшееся лицо Сабира-бабая проясняется. Растроганный, он покручивает своими искривлёнными пальцами округлую белую бороду.
– Щедрая у тебя душа, Газинур, ой, щедрая! Семьдесят лет не только мне – и тебе-то, верно, не прожить, сынок.
Услышав это, Газинур вспыхивает. В волнении сдвигает кепку на самый затылок. Чёрные волосы падают на его широкий, выпуклый лоб.
– Знаешь, Сабир-бабай, мне иногда кажется – я никогда не умру, так и буду жить вечно, – горячо говорит он.
– Такое уж существо человек, любит он жизнь, – говорит старик тихо. И вдруг поднимается. – Засиделись мы что-то с тобой…
Он подходит к углу конюшни и, приложив руку к глазам, долго, неотрывно всматривается в раскинувшиеся перед ним поля. Около кладбища, на горе, как будто что-то движется.
– Газинур, сынок, не наши ли там возвращаются? Посмотри-ка, у тебя глаза зорче.
– Наши, Сабир-бабай, наши едут, – став рядом с ним и посмотрев в ту сторону, подтверждает Газинур.
Заволновавшись, Сабир-бабай прикладывает к глазам то одну руку, то другую, словно ещё издали надеется рассмотреть выражение лиц возвращающихся. Старый конюх, который в обычное время придирчиво попрекал всякого, кто позволял себе погонять коней, сейчас страдал оттого, что председатель с бригадиром ехали шагом. В каком состоянии хлеба, не затопила ли их вода, не побило ли градом? Не случилась ли какая беда с лошадьми? Неожиданная болезнь лучших колхозных коней грузом легла на сердце старика. Он и сейчас всё боится, как бы эта страшная болезнь не перекинулась на других лошадей.
Наконец председатель с бригадиром подъехали настолько близко, что можно было разглядеть их спокойные лица. Лицо старика сразу просветлело. Но всё же он не удержался, чтобы не спросить:
– Какие вести везёшь, Ханафи, сынок? Кажется, миновала нас беда?.. А кони, все целы?
Председатель слез с седла и передал поводья Газинуру.
– Обстановка не угрожающая, Сабир-бабай. И кони, и хлеба в порядке. Пшеница, правда, полегла немного, ну, да это ничего, поднимется ещё.
Газинур повёл коней в конюшню.
– Газинур! – крикнул вслед парню Ханафи. – Завтра зайди ко мне в правление. Доложишь о своём решении по поводу нашего последнего разговора.
– Хорошо, Ханафи-абы, – сказал Газинур, не оборачиваясь.
В конюшне он снял с коней сёдла, отнёс их в сарай, где хранилась сбруя, коней поставил в стойла. Потом, взяв метлу, погнал по проделанным канавкам воду, набравшуюся после дождя. Как всегда, он работал с песней. Сабир-бабай молча замешивал мякину для ночного рациона. Так работали они довольно долго: приняли вернувшихся с работы лошадей, развели их по местам. Освободились они, когда уже совсем стемнело. Опёршись грудью о засов, задвинутый поперёк открытых дверей, конюхи отдыхали.
– Здорово ты, Сабир-бабай, боишься, оказывается, молнии. Смотрю, душа-то у тебя в пятки шмыг! – шутил Газинур.
Но Сабир-бабай и сам не прочь пошутить, он сейчас в прекрасном настроении. Много ли надо старому человеку: урожай не пострадал, кони целёхоньки…
– Может, и было что, не припомню, – смеётся он и вдруг переходит на серьёзный тон: – А всё-таки, Газинур, бесшабашная ты голова. Войти к взбесившемуся жеребцу! Да он тебя мог убить!.. Как я кричал: «Не входи!..»
– Нельзя было не войти, – оправдывался Газинур. – Не утихомирь я Батыра, он бы загубил себя. И без того с конями нехорошо получилось. Если бы я ещё и тут струсил… Веялку вот жалко, не смогли спасти.
– Что ж делать, пусть будет к счастью этот случай. Не человек ведь. Председатель говорит, в этом же году справим новую. Страховые получим. Наша Альфия, умница, уже успела оформить документы. Лучше скажи, как твои руки. Ожоги ведь сильно болят.
Газинур вытягивает забинтованные руки и беззаботно смеётся.
– Кожа у меня на руках, Сабир-бабай, что собачья шкура. Завтра к утру всё заживёт.
Тонкое гудение, непрерывно доносившееся со стороны коровников, вдруг затихло. Это закончили свою работу доярки. В избах хозяйки затопили печи. Из труб потянулись к небу беловатые дымки.
Газинур объяснил Сабиру-бабаю, на какой разговор намекал недавно председатель. Из города пришла бумага. Просят у колхоза людей на заготовку леса. Завтра будут составлять поимённый список отъезжающих.
– Я хоть и дал согласие Ханафи-абы, а из колхоза всё-таки не хочется уезжать. Ты иного видел, Сабир-бабай, посоветуй, как быть.
Стариковское сердце совсем размягчилось. Ведь не потому просит совета Газинур, что к слову пришлось, – от души спрашивает. «Спасибо, сынок! – растроганно думает Сабир-бабай. – У старика, который в своей жизни взбирался на Карпаты, воевал в Порт-Артуре и, подгоняемый нуждой, измерил с мешком за плечами вдоль и поперёк просторы России, найдётся кое-что посоветовать молодому парню».
– В молодости, Газизнур, – сказал он, второй раз за сегодняшний день называя Газинура, в знак уважения, его полным именем, – только и повидать свет. В движении камень шлифуется, а лежачий мхом обрастает, говорили в старину. Мой совет тебе – ехать.
Газинур слушал старика, и перед его глазами вставали дальние города, незнакомые бескрайние леса. Душа его встрепенулась.
– Поеду, коли так, – сказал он решительно. – Зайду ещё за советом к Гали-абзы и поеду. Отец всегда говорит: «Повидать, что в мире делается, – долг настоящего мужчины».
– Правильные слова. А всё-таки внимательнее всего прислушайся к тому, что скажет тебе Ахмет-Гали. Мы с твоим отцом уже отживаем свой век, больше смотрим вниз, чем вверх. Да. Прислушаешься к нашим словам – спасибо, не прислушаешься – тоже, как говорится, в обиде не будем. А вот советов Ахмет-Гали слушайся. Этот человек смотрит далеко вперёд.
На деревне зажигают огни. В темнеющем небе одна за другой загораются крупные звёзды. Тихонько отфыркиваясь, кони мерно похрустывают сеном. Один Батыр беспокойно топчется, то и дело позвякивая ввинченной в стену железной цепью.
– В моей усадьбе волки завыли, – похлопывая себя по животу, со смехом говорит Газинур. – Сходить, пожалуй, перекусить немного. Мать говорила – лапшу будет варить.
– Иди, иди, – с живостью отозвался старик, – я один здесь побуду.
Увидев собравшихся перед амбаром односельчан, Газинур остановился, вытащил туго набитый кисет.
– Кто хочет курить – угощайся!
Кисет пошёл по рукам.
– Вот здорово! – крикнул Газинур, получая пустой кисет обратно. – Значит, в день моей свадьбы бурану не бывать, чисто выскребли!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?