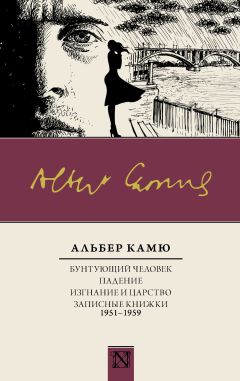
Автор книги: Альбер Камю
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Тут и рождается болезненная зависть, которую столь многие люди испытывают к другим. Глядя на чужое существование со стороны, они видят цельность и единство, которых на самом деле нет, но которые наблюдателю представляются очевидными. Он видит лишь верхнюю линию горного кряжа, понятия не имея о тех разрушительных процессах, которые происходят внутри его. И тогда мы превращаем эти чужие существования в искусство. Мы просто-напросто их романизируем. В этом смысле каждый из нас стремится превратить свою жизнь в произведение искусства. Мы желаем, чтобы любовь длилась вечно, но знаем, что она быстротечна; но даже если случится чудо и любовь будет длиться всю жизнь, она все равно останется незавершенной. Возможно, в своей неутолимой жажде длиться мы лучше бы поняли сущность земного страдания, если бы знали, что оно вечно. Похоже, иногда великие души ужасаются не столько самой боли, сколько тому, что она преходяща. За неимением бесконечного счастья «сделать» судьбу могло бы длительное страдание. Но нет, даже худшие пытки рано или поздно закончатся. Однажды утром, пережив столько разочарований, мы проснемся с непреодолимым желанием жить, которое подскажет нам, что все кончено и что в страдании не больше смысла, чем в счастье.
Страсть к обладанию – всего лишь другая форма желания длиться, именно она ответственна за бессильный любовный бред. Ни одно существо, даже самое любимое и отвечающее нам взаимностью, никогда не становится предметом нашего полного обладания. На жестокой земле, где любовники иногда умирают в разлуке, а рождаются всегда разъединенными, полное обладание живым существом, полная общность с ним на протяжении всей жизни – недостижимое чаяние. Страсть к обладанию настолько неутолима, что может пережить и саму любовь. Тогда любовь превращается в стремление обесплодить любимое существо. Постыдное страдание любовника, оставшегося в одиночестве, проистекает не столько оттого, что он больше не любим, сколько от знания, что другой может и должен любить кого-то еще. Человек, доведенный до крайней степени отчаяния стремлением длиться и обладать, желает существам, которых когда-то любил, бесплодия или смерти. Это и есть истинный бунт. Тот, кто ни разу, дрожа от тоски и бессилия перед невозможным, не выдвигал к миру и живым существам требования абсолютной девственности, кто, без конца возвращаясь к своей тоске по абсолюту, не разрушил себя в попытках любить наполовину, тот не поймет реальности бунта и его неукротимой тяги к разрушению. Но живые существа постоянно от нас ускользают, как и мы ускользаем от них, у них нет четких очертаний. С этой точки зрения жизнь лишена стиля. Жизнь – это тщетный поиск формы. Мятущийся человек напрасно ищет форму, благодаря которой обретет границы мира, чтобы стать в нем царем. Если бы хоть что-то живое на земле имело форму, он бы примирился с этим миром!
Наконец, нет ни одного живого существа, которое, достигнув определенного уровня сознания, не силится найти формулировки или установки, которые придадут его существованию недостающее единство. Казаться или делать, быть денди или революционером – все это требует цельности: ради бытия и ради бытия в этом мире. Как у трогательных и жалких пар, которые подолгу не распадаются потому, что один из партнеров ждет завершающего слова, жеста или поступка, чтобы история закончилась на правильной ноте, так и каждый из нас ищет или сам придумывает для себя завершающее слово. Недостаточно просто жить – надо прожить судьбу, причем не дожидаясь смерти. Поэтому справедливо сказать, что человек думает о мире, который был бы лучше здешнего. Но «лучший» в этом случае не означает «другой», «лучший» означает «единый». Лихорадка, заставляющая сердце подняться над расколотым миром, избавиться от которого нет никакой возможности, объясняется страстным желанием единства. Она выражается не в бездарном бегстве от мира, а в требовательном упорстве. Любое человеческое действие – религия или преступление – в конце концов подчиняется этому неразумному желанию, надеясь придать жизни форму, которой она лишена. То же побуждение, что толкает человека к поклонению перед небесами или к разрушению, ведет к сочинению романов, делая это занятие вполне серьезным.
Действительно, что такое роман как не вселенная, в которой действие обретает форму, завершающие слова произносятся вслух, одни существа отдаются другим, а жизнь приобретает обличье судьбы[99]99
Даже если в романе говорится о тоске, отчаянии и неосуществимости желаний, он все равно создает форму и дарит спасение. Назвать безнадежность по имени – значит преодолеть ее. Литература, вселяющая чувство безнадежности, есть противоречие в терминах.
[Закрыть]? Романный мир – это версия здешнего мира, исправленная в соответствии с глубинными чаяниями человека. Ведь на самом деле речь идет об одном и том же мире, с теми же страданиями, той же ложью и той же любовью. Герои говорят на нашем языке, имеют наши слабости и нашу силу. Их вселенная не лучше и не назидательнее, чем наша. Но они по крайней мере всегда проживают свою судьбу до конца; мало того, самые запоминающиеся герои – это как раз те, кто во всем идет до конца, как Кириллов и Ставрогин, мадам Граслен, Жюльен Сорель или принц Клевский. Вот здесь мы утрачиваем общую с ними меру, потому что они всегда довершают то, что мы бросаем на полдороге.
«Принцесса Клевская» родилась из живого опыта госпожи Лафайет. Очевидно, что госпожа Лафайет и есть принцесса Клевская, но в то же время она ею не является. В чем между ними различие? Различие в том, что госпожа Лафайет не ушла в монастырь, а никто из ее близких не умер от тоски. У нас нет сомнений, что ей пришлось пережить те же мучительные мгновения беспримерной любви. Но в этой любви не была поставлена финальная точка. Она ее пережила и, перестав переживать, продлила. Наконец, никто, в том числе она сама, не увидел бы очертаний этой любви без четкого силуэта, приданного с помощью безупречного языка. Пожалуй, трудно назвать более романтическую и прекрасную историю, чем история Софии Тонской и Казимира из «Плеяд» Гобино. София – красавица и тонко чувствующая натура, заставляющая нас поверить Стендалю, когда он говорит, что только женщины с сильным характером способны его осчастливить, – вынуждает Казимира к признанию в любви. Привыкшая к всеобщему обожанию, она приходит в неистовство из-за человека, который видит ее каждый день, но тем не менее продолжает вести себя раздражающе спокойно. Казимир действительно признается, что любит ее, но говорит о своей любви языком судебного протокола. Он достаточно хорошо изучил ее, как изучил и себя, и пришел к выводу, что эта любовь, без которой он не мыслит себе жизни, не имеет будущего. Поэтому одновременно с признанием в любви, предвидя ее тщетность, он делает ей следующее предложение: он отдаст ей все свое состояние – она богата, и для нее этот жест ничего не значит, – с тем чтобы она выплачивала ему скромное содержание, которое позволит ему поселиться на окраине выбранного наугад города (это будет Вильна) и доживать свои дни в бедности, пока его не настигнет смерть. Впрочем, Казимир признает, что идея получать от Софии средства, необходимые для жизни, – это уступка человеческой слабости, единственная с его стороны, если не считать чистого листа бумаги, который он будет вкладывать в конверт с именем Софии и время от времени отсылать ей. София возмущается, затем приходит в смятение, затем огорчается и, наконец, соглашается. Все происходит так, как задумал Казимир. Он умрет в Вильне от своей несчастной любви. У романа своя логика. В хорошей истории должна быть внутренняя связность, в реальных жизненных ситуациях не встречающаяся и знакомая нам по мечтам, которые всегда отталкиваются от реальной действительности. Если бы Гобино на самом деле поехал в Вильну, он либо вскоре сбежал бы от скуки, либо как-нибудь устроил там свою жизнь. Но Казимиру неведомы ни желание перемен, ни надежды на исцеление. Он идет до конца, как Хитклиф, которому и смерть нипочем и который готов шагнуть прямиком в преисподнюю.
Таков воображаемый мир, создаваемый как исправленная версия реального: боль в этом мире может продолжаться до смерти, было бы желание; страсти в нем никогда не выдыхаются, а люди привязаны к идефиксу и постоянно присутствуют в жизни друг друга. Человек в этом мире наконец придает себе форму и устанавливает устраивающие его границы, чего в реальном мире добиться невозможно. Роман кроит судьбы по мерке человека. Таким образом он соперничает с творением и временно торжествует над смертью. Подробный анализ самых знаменитых романов показал бы, всякий раз под новым углом зрения, что сущность романа заключается в этом постоянном, всегда направленном в одну и ту же сторону исправлении художником собственного опыта. Не обязательно высокоморальная или чисто формальная, эта «правка» прежде всего нацелена на достижение цельности и тем самым является выражением метафизической потребности. На этом уровне роман – это упражнение для ума на службе тоскующего или возмущенного чувства. Этот поиск цельности можно было бы проследить по французским аналитическим романам, а также по романам Мелвилла, Бальзака, Достоевского или Толстого. Но для наших целей будет достаточно краткого сравнения двух противоположных тенденций, проявляющихся, с одной стороны, в творчестве Пруста, а с другой – в американском романе последних лет.
Американский роман[100]100
Речь, разумеется, идет о «жестком» романе 1930—1940-х годов, а не о восхитительном американском цветнике XIX века.
[Закрыть] претендует на обретение цельности посредством сведения человека либо к его элементарной основе, либо к его внешним поведенческим реакциям. В отличие от наших классических романов, он не делает выбора в пользу какого-то одного чувства или страсти, чтобы дать его исчерпывающий образ. Он отказывается от анализа и поиска психологических пружин, объясняющих и определяющих поведение персонажа. Вот почему цельность этого романа – это цельность осветительного прибора. Его основной прием заключается во внешнем описании людей, включая самые незначительные их черты, в воспроизведении – без комментариев – их речи со всеми повторами[101]101
Даже у Фолкнера, великого представителя этого поколения писателей, внутренний монолог воспроизводит лишь внешнюю оболочку мыслей.
[Закрыть], наконец, в таком показе людей, словно они полностью определяются повседневными привычными действиями, доведенными до автоматизма. На этом «машинальном» уровне люди и правда кажутся похожими друг на друга. И нам становится легко объяснить эту странную вселенную, где все персонажи взаимозаменяемы, несмотря на физические различия. Подобный метод называют реализмом только по недоразумению, тем более что реализм в искусстве – и ниже мы в этом убедимся – понятие бессмысленное, следовательно, этот романный мир стремится вовсе не к простому и точному воспроизведению действительности, а к его произвольной стилизации. Он рождается из уродования – и уродования сознательного – реальности. Достигаемая таким путем цельность есть цельность ущербная, нивелирующая и людей, и мир. Судя по всему, для этих писателей внутренняя жизнь лишает человеческие поступки связности и воздвигает между людьми стену отчуждения. Отчасти это подозрение небезосновательно. Но бунт, служащий этому искусству источником вдохновения, находит удовлетворение только через обретение цельности на основе внутренней реальности, а не через ее отрицание. Тотальное отрицание отсылает нас к вымышленному человеку. Черный роман – это в то же время и «розовый» роман, если судить по поставленной цели. Он по-своему учит жизни[102]102
Бернарден де Сен-Пьер и маркиз де Сад – оба создатели пропагандистского романа, только с разным знаком.
[Закрыть]. Жизнь плоти, сведенная сама к себе, парадоксальным образом порождает абстрактную и беспричинную вселенную, в свою очередь постоянно отрицаемую реальностью. Этот очищенный от внутренней жизни роман, в котором мы словно наблюдаем за людьми, находящимися за стеклом, в конце концов – что вполне логично – сводится к единственному сюжету, где предположительно средний человек вытесняется патологической личностью. Этим объясняется значительное число «простаков», используемых в этой вселенной. Простак – идеальный персонаж в рамках подобного замысла, поскольку весь целиком определяется через свое поведение. Он является символом этого пугающего мира, в котором живут несчастные люди-автоматы, машинально поддерживающие между собой какие-то отношения. Американские писатели подняли этот символ перед лицом современного мира, чем выразили свой исполненный пафоса, но бесплодный протест.
Что касается Пруста, то он сделал попытку создать на основе досконально изученной реальности уникальный замкнутый мир, который принадлежал бы только ему и который знаменовал бы его победу над текучестью вещей и смертью. Он использовал для этого прямо противоположные средства. Прежде всего – сознательный отбор, скрупулезное собирание отдельных лучших моментов, взятых из тайников собственного прошлого. Поэтому из жизни оказались выброшены огромные пустые пространства, не оставившие по себе воспоминаний. Если мир американского романа – это мир лишенных памяти людей, то мир Пруста для автора – одно сплошное воспоминание. Просто перед нами один из самых трудных и самых требовательных видов памяти, отказывающейся от дисперсного мира, какой он есть, и находящей в полузабытом аромате секрет новой и прежней вселенной. Пруст делает выбор в пользу внутреннего мира, а внутри внутреннего мира – того, что является его сердцевиной, и отвергает то, что в реальном мире подвержено забвению, то есть машинальное бытие и мир слепцов. Но, отказываясь от реального мира, он его не отрицает. Он не допускает ошибки, симметричной по отношению к американскому роману, и не уничтожает машинальность. Напротив, он объединяет в высшем единстве утраченную память и нынешнее ощущение, подвернутую ногу и дни былого счастья.
Трудно вернуться в места, где был счастлив и молод. Девушки в цвету вечно смеются и щебечут на берегу моря, но тот, кто занят их созерцанием, понемногу утрачивает право их любить, а те, кого он любил, теряют возможность быть любимыми. Это и есть прустовская меланхолия. Она была достаточно мощной, чтобы из нее хлынул отказ от всякого бытия. Но любовь к лицам и свету всегда привязывала его к миру. Он не согласился с тем, чтобы счастливые каникулы были утрачены навсегда. Он взял на себя труд воссоздать их и вопреки смерти показать, что прошлое находится в конце времен в неувядаемом настоящем, еще более достоверное и богатое, чем было изначально. Психологический анализ в «Утраченном времени» – это всего лишь сильнодействующее средство. Подлинное величие Пруста в том, что он написал «Обретенное время», в котором собрал рассеянный мир и наполнил его, готовый распасться, смыслом. Его трудная победа накануне смерти в том, что он сумел силами одной только памяти и ума извлечь из вечной текучести форм трепещущие символы человеческого единства. Самый явный вызов, который произведение подобного рода может бросить творению, заключается в том, чтобы предстать перед ним в виде целого, замкнутого и объединенного мира. Это и есть определение произведений, не нуждающихся в покаянии.
Некоторые говорили, что мир Пруста – это мир без Божества. Если это и так, то не потому, что у Пруста никогда не говорят о Боге, а потому, что этот мир претендует на роль идеального и закрытого и придает вечности облик человека. «Обретенное время», во всяком случае по замыслу, – это вечность без Бога. В этом отношении творчество Пруста является одной из самых дерзких и самых значимых человеческих акций, протестующих против нашего состояния смертных. Пруст доказал, что искусство романа переиначивает само творение в том виде, в каком оно нам навязано и нами отвергаемо. Это искусство, по меньшей мере в одном из своих аспектов, состоит в выборе твари, а не творца. Но оно гораздо глубже потому, что объединяется с красотой мира и живых существ против сил смерти и забвения. Поэтому его бунт созидателен.
Бунт и стиль
Способом, каким художник обращается с реальностью, он утверждает свою силу отрицания. Но то, что он оставляет в творимой им вселенной от реальности, свидетельствует о его приятии хотя бы части реального мира, вытянутой им из будущего и освещенной творческим огнем. По большому счету, если отрицание носит тотальный характер, реальность изгоняется полностью, и тогда мы получаем чисто формальное искусство. Если, напротив, художник по причинам, часто не имеющим к искусству никакого отношения, предпочитает прославлять грубую реальность, мы получаем реализм. В первом случае исходный творческий порыв, в котором тесно переплетены бунт и соглашательство, утверждение и отрицание, искажается в пользу отказа. Это приводит к категорическому бегству от действительности, примеры этого в огромном количестве поставляет наше время; мы уже показали его нигилистическую природу. Во втором случае художник стремится придать миру целостность, отказываясь рассматривать его в той или иной заданной перспективе. Тем самым он выражает свою жажду единства, пусть и извращенную. Но одновременно он отказывается от первого и главного требования художественного творчества. Чтобы подчеркнуть отрицание относительной свободы творческого сознания, он утверждает непосредственную тотальность мира. В обоих случаях акт художественного творения отрицает сам себя. Изначально он отвергал всего один аспект реальности в его временном измерении либо утверждал другой его аспект. Но, отрицая всю реальность как таковую либо утверждая, что ничего, кроме реальности, не существует, он в обоих случаях отрицает сам себя, впадая либо в абсолютное отрицание, либо в абсолютное утверждение. Как видим, этот анализ в эстетическом плане совпадает с тем, что мы проделали в плане историческом.
Но точно так же как не бывает нигилизма, который в конце концов не предполагал бы наличия какой-либо ценности, и материализма, который, осмысливая себя, не вступал бы сам с собой в противоречие, формальное и реалистическое искусство суть абсурдные понятия. Никакое искусство не способно полностью отречься от реальности. Горгона Медуза, бесспорно, полностью фантастическое создание, но ее жуткая физиономия и змеи на голове заимствованы у природы. Формализм может все успешнее освобождаться от реального содержания, но рано или поздно наталкивается на некую грань. Даже чистая геометрия, в которую иногда скатывается абстрактная живопись, заимствует у внешнего мира краски и законы перспективы. Подлинный формализм – это молчание. Точно так же реализм не способен обойтись без минимума произвольного толкования. Лучшая из фотографий уже есть предательство по отношению к реальности, поскольку является результатом выбора и ставит границы тому, что не имеет границ. Художник-реалист и художник-формалист ищут цельности там, где ее нет – в сырой реальности или в воображении, претендующем на изгнание всякой реальности. Напротив, цельность в искусстве появляется в результате преобразования, которое художник навязывает реальности. Цельность не может обойтись ни без реальности, ни без воображения. Эта коррекция[103]103
Делакруа отмечал – и это его наблюдение чрезвычайно важно, – что необходимо «вносить коррективы в неумолимую перспективу, которая (в реальности) искажает вид объектов в силу своей правильности».
[Закрыть], которую художник осуществляет с помощью языка или путем распределения элементов, заимствованных у реальности, называется стилем и придает воссозданной вселенной и единство, и границы. Каждый бунтарь стремится – отдельным гениям это удается – дать миру свой закон. «Поэты, – сказал Шелли, – это непризнанные законодатели мира».
Искусство романа по самой своей природе не может не служить примером подобного предназначения. Роман не может ни полностью принять реальность, ни полностью от нее отвернуться. Чистого воображения не существует, но даже если бы оно существовало, идеальный, абсолютно развоплощенный роман не имел бы никакой художественной ценности, поскольку первое, что требуется духу в поисках цельности, – это возможность сообщить эту цельность другим. С другой стороны, чисто рациональная цельность является ложной цельностью, поскольку она не опирается на реальность. «Розовый» (или черный) роман, как и нравоучительный роман, отдаляются от искусства в той большей или меньшей мере, в какой они нарушают этот закон. Напротив, подлинно творческий роман использует реальность и ничего, кроме реальности, наполняя ее своим теплом и своей кровью, своей страстью или своей болью. Просто он добавляет в реальность нечто такое, что ее преобразует.
Точно так же то, что принято называть реалистическим романом, стремится к непосредственному воспроизведению реальности. Но воспроизведение всех подряд элементов реальности, будь такое возможно, означало бы бесплодную попытку повторить творение. Тогда реализм должен быть не более чем средством выражения религиозного гения, предчувствие чего дает восхитительное испанское искусство, либо, впадая в другую крайность, искусством обезьянничанья, довольствующегося имитацией того, что есть. В действительности искусство никогда не бывает реалистическим, но иногда впадает в искус реалистичности. Чтобы быть по-настоящему реалистическим, описание должно продолжаться без конца. Там, где Стендаль одним предложением описывает появление в гостиной Люсьена Левена, писатель-реалист должен был бы, следуя своей логике, посвятить несколько томов описанию персонажей и окружающей обстановки и все равно не передал бы всех подробностей сцены. Реализм – это бесконечное перечисление. Из этого следует, что его подлинная цель – это достижение не цельности, а тотальности реального мира. Отсюда понятно, почему он стал официальной эстетикой революции тотальности. Но эта эстетика уже доказала свою несостоятельность. Реалистические романы вынуждены волей-неволей отбирать из реальности отдельные элементы, поскольку выбор и возвышение над реальностью являются условием мышления и выражения мысли[104]104
Что подтверждает еще одна глубокая мысль Делакруа: «Чтобы реализм был не бессмысленным словом, надо, чтобы все люди думали одинаково и одинаково воспринимали вещи».
[Закрыть]. Писать – значит делать выбор. Следовательно, существует произвол по отношению к реальности, как и по отношению к идеалу, что делает реалистический роман имплицитно тенденциозным. Свести цельность романного мира к полной реальности можно лишь путем утверждения априорного суждения, отсекающего от реальности все, что не укладывается в заданную схему. Так называемый социалистический реализм самой логикой своего нигилизма обречен аккумулировать в себе преимущества нравоучительного романа и пропагандистской литературы.
Не важно, событие порабощает творца или творец стремится к отрицанию события как такового, в обоих случаях творчество опускается до искаженных форм нигилистического искусства. Это в равной мере относится как к творчеству, так и к культуре в целом: предполагает постоянное напряжение между формой и материей, становлением и духом, историей и ценностями. Если это равновесие нарушается, наступает диктатура или анархия, пропаганда или формалистский бред. В обоих случаях творчество, которое есть разумная свобода, невозможно. Либо оно уступает обмороку абстракции и сумраку формализма, либо призывает к кнуту самого грубого и самого примитивного реализма; современное искусство почти целиком представляет собой не искусство творцов, а искусство тиранов и рабов.
Произведение, в котором содержание выплескивается за рамки формы или форма подчиняет себе содержание, если и представляет собой цельность, то куцую и недовольную собой. В этой области, как и во всякой другой, единство, не являющееся стилем, есть уродование. Какую бы перспективу ни избрал художник, общим для любого вида творчества остается принцип стилизации, предполагающий одновременное наличие реальности и духа, придающего этой реальности форму. Посредством стилизации творец пересоздает мир – всегда с легким смещением, которое и есть признак искусства и протеста. Он может, как Пруст, рассматривать человеческий опыт в микроскоп, увеличивая каждую деталь, или, наоборот, уменьшать своих персонажей, доходя до абсурда, как это делает американский роман; в любом случае он в каком-то смысле искажает реальность. Творческое плодотворное начало содержится как раз в этом смещении, задающем произведению стиль и тональность. Искусство – это требование невозможного, облеченное в форму. Когда идущий из глубин души крик обретает свою выразительность, это отвечает подлинному побуждению бунта, который в верности себе черпает творческую силу. Несмотря на столкновение с предрассудками времени, величайший стиль в искусстве – это всегда выражение высочайшего бунта. Как истинный классицизм – это не более чем усмиренный романтизм, так и гениальность – это бунт, создающий собственную меру вещей. Следовательно, вопреки тому, что мы слышим сегодня, в отрицании и чистом отчаянии никакой гениальности нет.
Одновременно это означает, что большой стиль не сводится к простой добродетели формализма. Он обладает этой добродетелью, если в ущерб реальности ищет себя ради себя же, но тогда он перестает быть большим стилем. В этом случае он ничего не изобретает, а лишь – как всякий академизм – имитирует, тогда как подлинное творчество всегда по-своему революционно. Стилизация обязана заходить далеко, ибо она выражает вмешательство человека, волю художника к исправлению воспроизводимой реальности, но она должна оставаться незаметной, чтобы протест, дающий рождение искусству, проявлялся в крайнем и наиболее напряженном виде. Великий стиль – это невидимая, то есть сущностная стилизация. «В искусстве, – говорит Флобер, – не надо бояться преувеличений». Но он же добавляет, что преувеличение должно быть «последовательным и соразмерным самому себе». Если стилизация чрезмерна и заметна, то произведение превращается в чистую ностальгию: цельность, к которой оно стремится, чужда всякой конкретики. Если, напротив, реальность преподносится в сыром виде, без всякой стилизации, перед нами конкретика, лишенная целостности. Великое искусство стиля, которое является подлинным лицом бунта, находится между этими двумя ересями[105]105
В зависимости от сюжета меняется и «правка» реальности. В произведении, верном описанной здесь эстетике, со сменой сюжета будет меняться и стиль, но авторский язык (тональность) останется общим, что позволяет добиться стилевого разнообразия.
[Закрыть].
Творчество и революция
В искусстве бунт завершается и продолжается в акте подлинного творения, а не в критике и не в комментарии. Со своей стороны, революция самоутверждается только в культуре, а не в терроре или тирании. Два вопроса, которые современность ставит перед нашим зашедшим в тупик обществом, возможно ли творчество и возможна ли революция, на самом деле есть один и тот же вопрос, касающийся возрождения цивилизации.
Революция и искусство XX века – данники одного и того же нигилизма и существуют в рамках одного и того же противоречия. Они отрицают ровно то, что утверждают самим своим существованием, и ищут невозможный выход в терроре. Современная революция верит, что открывает новый мир, тогда как на самом деле представляет собой противоречивое завершение мира прежнего. Капиталистическое и революционное общество суть одно и то же в той мере, в какой и то и другое подвержено порабощению одним и тем же способом – промышленным производством – и одними и теми же посулами. Только первое строит свои посулы на формальных принципах, которые не способно воплотить в жизнь и которые находят отрицание в самих используемых им средствах. Второе оправдывает свое пророчество верностью реальности, но в итоге ее калечит. Общество промышленного производства способно производить, но не способно творить.
Точно так же современное искусство, будучи искусством нигилизма, бьется между формализмом и реализмом. Впрочем, реализм так же буржуазен – только в черном цвете, – как и социализм, и превращается в назидание. Формализм в равной мере принадлежит к обществу прошлого, когда переходит в бесплодную абстракцию, и к обществу предполагаемого будущего – тогда он задает тон пропаганде. Язык, разрушенный иррациональным отрицанием, теряется в словесном бреде; подчиненный идеологии детерминизма, он вырождается в лозунг. Искусство находится между этими двумя крайностями. Если бунтарь должен одновременно отвергать и ярость небытия, и согласие с тотальностью, то художник вынужден одновременно избегать и буйства формализма, и тоталитарной эстетики реализма. Современный мир един, это правда, но его единство – это единство нигилизма. Культура возможна только в том случае, если мир, отказываясь от нигилизма формальных принципов и беспринципного нигилизма, ступает на путь творческого синтеза. Точно так же в искусстве время вечного комментирования и репортажа вступает в стадию агонии, возвещая наступление эпохи творчества.
Но для этого искусство и общество, так же как творчество и революция, должны вернуться к источнику бунта, при котором отказ и согласие, единичное и всеобщее, индивидуум и история взаимно уравновешивают друг друга в условиях наивысшего балансирования. Сам по себе бунт не является элементом культуры, но он есть предварительное условие возникновения культуры. Только бунт позволяет надеяться, что мы найдем выход из нынешнего тупика и настанет будущее, о котором мечтал Ницше и в котором «вместо судьи и угнетателя будет творец». Это не значит, что осуществится смехотворная иллюзия града, управляемого художниками. Это значит лишь, что в нашу драматическую эпоху труд, целиком подчиненный производству, перестал быть творческим. Индустриальное общество откроет путь цивилизации только в том случае, если вернет работнику достоинство творца, то есть если его интерес к труду и мысли о труде будут не менее важны, чем продукт труда. Необходимая нам цивилизация уже не сможет провести классовую или индивидуальную разделительную черту между работником и творцом – так же как художественное творчество не пытается разделить форму и содержание, дух и историю. Таким образом она признает за каждым достоинство, подтвержденное бунтом. Было бы несправедливо – впрочем, это утопия, – если бы Шекспир управлял обществом сапожников. Но точно таким же кошмаром обернется общество сапожников, полагающих, что им не нужен Шекспир. Шекспир без сапожника оправдывает тиранию. Сапожник без Шекспира поглощен тиранией, если еще не способствует ее распространению. Всякое творчество само по себе служит отрицанием мира господ и рабов. Отвратительное общество тиранов и рабов, в котором мы живем, умрет и преобразуется только благодаря творчеству.
Но необходимость творчества не означает его возможность. В искусстве эпоха творчества определяется порядком стиля, наложенным на беспорядок времени. Она придает страстям современников форму и облекает их в формулы. Поэтому творцу уже недостаточно повторять госпожу Лафайет, поскольку у нынешних мрачных принцев на любовь не остается времени. Сегодня, когда коллективные страсти возобладали над индивидуальными, все еще возможно подчинить искусству неистовство любви. Но неизбежно возникает проблема, как подчинить коллективные страсти и возобладать над исторической борьбой. Предмет искусства, несмотря на стенания подражателей, расширился от психологии до состояния человека. Когда страсть эпохи ставит на кон целый мир, творчество стремится подчинить себе судьбу как таковую. Но тем самым оно противопоставляет лику тотальности свое утверждение единства. Просто в этом случае творчество оказывается под угрозой, исходящей, во-первых, от самого творчества, а во-вторых, от духа тотальности. Современное творчество – опасная штука.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































