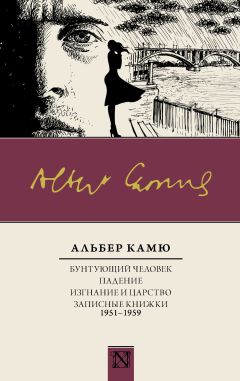
Автор книги: Альбер Камю
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Отметим также, что убийство находит себе оправдание не в ницшеанском отрицании кумиров, а в идее принуждения к слиянию, венчающей творчество Ницше. Если мы говорим «да» всему – это подразумевает, что мы говорим «да» убийству. Есть два способа соглашаться с убийством. Если раб говорит «да» всему, он говорит «да» существованию хозяина и собственному страданию – Иисус учит смирению. Если хозяин говорит «да» всему, он говорит «да» рабству и чужому страданию – это тиран, прославляющий убийство. «Разве не смешно, что если ты веришь в священный незыблемый закон, то ты не будешь лгать, не будешь убивать в таком существовании, сама суть которого – вечная ложь, вечное убийство?» Действительно, это так, и метафизический бунт в своем первом проявлении был просто протестом против лжи и преступности существования. Ницшеанское «да», забывшее об изначальном «нет», отрицает бунт как таковой, одновременно отрицая мораль, отрицающую мир в том виде, в каком он существует. Ницше всеми силами призывает римского кесаря с душой Христа. Тем самым он говорит «да» и рабу, и хозяину. Но, говоря «да» и тому и другому, он в конечном итоге освящает право наиболее сильного, то есть хозяина. Кесарь неизбежно откажется от господства духа и выберет фактическое царствование. «Как извлечь пользу из преступления?» – спрашивал Ницше, демонстрируя похвальную верность своей методе. Кесарь ответит: умножая преступления. «Когда цели велики, – к несчастью, пишет Ницше, – человечество пользуется иной меркой и уже не считает преступление таковым, пусть бы даже оно применяло еще более страшные средства». Он умер в 1900 году, на пороге века, который превратит эту идею в смертоносную. Напрасно в минуту просветления он воскликнул: «Легко говорить о всякого рода аморальных поступках, но найдутся ли силы вынести их? Например, я не смог бы перенести, если бы я нарушил слово или убил: не знаю, долго ли я бы мучился, но в конце концов умер бы от этого. Такова была бы моя участь». Стоит лишь принять как допустимый весь человеческий опыт, и появятся другие, те, кто и не подумает томиться, а станет упорствовать во лжи и убийстве. Ницше несет ответственность за то, что из высших соображений верности методу узаконил, пусть на краткий миг, в зените своей мысли право на бесчестье, о котором говорил еще Достоевский, уверенный, что люди, получив его, не замедлят им воспользоваться. Но невольная ответственность Ницше еще шире.
Ницше – действительно тот, кем он себя признавал: оголенная совесть нигилизма. Решительный шаг, который с его помощью сделал бунтарский дух, заключается в скачке от отрицания идеала к секуляризации идеала. Раз спасение человека не в Боге, значит, оно должно свершиться на земле. Раз мир никем не управляется, значит, человек, принимая этот мир, должен взять на себя и управление им, что приводит к идее сверхчеловека. Ницше претендовал на управление будущим человечества. «На нашу долю выпадет задача управлять землей». И еще: «Приближается время, когда надо будет бороться за власть на земле, и эта борьба будет вестись от имени философских принципов». Тем самым он предвосхитил приход XX века. Но если он его возвещал, значит, понимал внутреннюю логику нигилизма и знал, что одним из его воплощений станет империя. Тем самым он готовил приход империи.
Для человека без Бога, каким его видел Ницше, то есть одинокого, свобода есть. Есть полуденная свобода, когда мировое колесо останавливается и человек говорит «да» сущему. Но то, что есть, пребывает в становлении. Надо сказать «да» и будущему. Свет в конце концов погаснет, дневная ось наклонится. Тогда история начнется заново и придется искать свободу в истории, придется сказать «да» истории. Ницшеанство как учение о воле к личной власти неизбежно приходит к идее воли к тотальной власти. Без власти над миром он ничто. Скорее всего, Ницше с ненавистью воспринимал вольнодумцев и гуманитаристов. Выражение «свобода духа» он понимал в его крайнем значении – как божественность индивидуального духа. Но Ницше не мог помешать вольнодумцам, оттолкнувшимся от того же исторического факта, что и он, то есть от смерти Бога, прийти к тем же выводам. Ницше прекрасно видел, что гуманитаризм – это не более чем христианство, лишенное высшего обоснования, хранящее верность конечным целям и отказавшееся от цели исходной. Но он упустил из виду, что социалистические учения об освобождении в силу внутренней логики нигилизма неизбежно должны были взять на себя ответственность за то, о чем мечтал он сам, – за сверхчеловека.
Философия занимается обмирщением идеала. Но вскоре после прихода тиранов происходит обмирщение философских учений, которые предоставили им это право. Ницше предугадал, что подобная колонизация произойдет с Гегелем, чей оригинальный вклад, по его мнению, заключался в изобретении пантеизма, при котором зло, заблуждение и страдание больше не могут служить аргументами против божественного начала. «Но государство и власть держащие немедленно использовали эту грандиозную инициативу». Впрочем, он и сам изобрел систему, в которой преступление больше не могло служить аргументом против чего бы то ни было, а единственная ценность заключалась в божественности человека. Эта грандиозная инициатива тоже просилась в употребление. В этом смысле национал-социализм – всего лишь случайный наследник нигилизма в его наиболее злобной и наглядной форме. По-своему логичны будут те, у кого достанет амбиций исправить Ницше с помощью Маркса, чтобы сказать «да» только истории, а не творению как таковому. Бунтарь, которого Ницше заставлял преклонить колени перед космосом, отныне будет стоять на коленях перед историей. Что тут удивительного? Они оба – Ницше, по крайней мере с его учением о сверхчеловеке, а до него Маркс со своей классовой теорией – заменили потустороннее тем, что наступит позже. В этом Ницше изменил древним грекам и проповеди Христа, которые, по его мнению, заменяли потусторонний мир тем, что происходит немедленно. Маркс, как и Ницше, мыслил стратегически и, как и Ницше, ненавидел формальную добродетель. Оба эти бунта, одинаково приводящие к слиянию с определенным аспектом реальности, растворятся в марксизме-ленинизме и найдут свое воплощение в касте, о которой говорил еще Ницше и которая должна «заменить священника, учителя, врача». Кардинальная разница между ними состоит в том, что Ницше в ожидании сверхчеловека предлагал говорить «да» тому, что есть, а Маркс – тому, что будет. Для Маркса природа – это то, что следует покорять ради повиновения истории, а для Ницше – то, чему повинуются ради покорения истории. Этим же христианин отличается от древнего грека. Ницше, по крайней мере, сумел предвидеть, что произойдет: «Современный социализм стремится создать своего рода мирской иезуитизм, превратить всех людей в средство». И еще: «Благосостояние – вот чего желает современный социализм… Поэтому приходят к такому духовному рабству, какого еще не видел мир… Интеллектуальный цезаризм нависает над всей деятельностью торговцев и философов». Поварившись в тигле ницшеанской философии, бунт в своем безумном стремлении к свободе приходит к биологическому или историческому цезаризму. Абсолютное «нет» подтолкнуло Штирнера к одновременному обожествлению преступления и индивидуума. Но абсолютное «да» привело к одновременной универсализации убийства и самого человека. Марксизм-ленинизм действительно взял на вооружение волю Ницше, проигнорировав отдельные ницшеанские добродетели. Так великий бунтарь своими собственными руками творит, чтобы замкнуться в нем, безупречное царство необходимости. Едва вырвавшись из божественной тюрьмы, он первым делом сооружает тюрьму историческую и умственную, маскируя и освящая нигилизм, который Ницше, как ему казалось, победил.
Мятежная поэзияЕсли метафизический бунт отказывается говорить «да» и ограничивается абсолютным отрицанием, он умозрителен. Если он безудержно восхищается тем, что есть, отказываясь подвергать сомнению хотя бы часть реальности, он вынужден рано или поздно переходить к действию. Посередине стоит фигура Ивана Карамазова, олицетворяющая мучительное попустительство. Мятежная поэзия конца XIX – начала XX века также постоянно колебалась между двумя этими крайностями: литературой и волей к власти, иррациональным и рациональным, безнадежной мечтой и решительным поступком. Последним примером могут служить поэты, особенно сюрреалисты, в сжатой и наглядной форме указавшие нам путь от умозрительности к поступку.
Готорн, рассуждая о Мелвилле, писал, что тот, не веруя в Бога, не мог остановиться в своем неверии. Точно так же об этих поэтах, бросившихся на штурм небес, можно сказать, что они, желая опрокинуть существующий порядок, одновременно выражали отчаянную тоску по порядку. Доводя противоречие до крайней степени, они стремились найти разумное обоснование безрассудства и превратить иррациональное в метод. Эти великие наследники романтизма полагали, что сумеют сделать поэзию образцом к подражанию и обретут в ее рвущем душу воздействии подлинную жизнь. Они обожествили святотатство и превратили поэзию в эксперимент и способ действия. Действительно, до них все, кто, во всяком случае на Западе, считал, что способен воздействовать на события и человека, делали это во имя рациональных правил. Напротив, сюрреализм после Рембо искал конструктивное правило в безумии и разрушении. Рембо своим творчеством (и только творчеством) указал путь, вернее начало тропы, на краткий миг осветив его, словно вспышкой молнии. Сюрреализм проложил этот путь и расставил на нем опознавательные знаки. То заходя за грань, то отступая, он сформулировал последнюю пышную версию практической теории иррационального бунта – в то самое время, когда мятежная мысль, двигавшаяся по другому пути, воздвигала культ абсолютного разума. Как бы то ни было, его вдохновители – Лотреамон и Рембо – показали нам, каким образом иррациональное желание казаться может привести бунт к самым губительным для свободы действиям.
Лотреамон и банальность
Лотреамон показывает, что желание бунтаря казаться прячется за стремление к банальности. Желает ли он возвыситься или унизиться, в обоих случаях бунтарь хочет быть не тем, кто он есть, хотя и заявил о себе, с тем чтобы добиться признания в своем истинном бытии. Богохульство и конформизм Лотреамона служат еще одной иллюстрацией трагического противоречия, которое он разрешает в стремлении обратиться в ничто. Это вовсе не палинодия, как обычно думают, это ярость разрушения, объясняющая также и призыв Мальдорора к великой первозданной ночи, и тщательно отделанные банальности «Стихотворений».
Благодаря Лотреамону мы понимаем, что бунт – явление подростковое. Наши великие бунтари – и бомбисты, и поэты – едва-едва расстались с детством. «Песни Мальдорора» – это книга, написанная почти гениальным школьником, ее пафос рождается из противоречий детского сердца, восстающего против творения и против себя самого. Подобно Рембо, штурмовавшему в «Озарениях» границы мира, поэт предпочитает апокалипсис и разрушение приятию невозможного правила, согласно которому он есть то, что он есть, в том мире, каким он нам дан.
«Я явился, чтобы защитить человека», – без ложной скромности заявляет Лотреамон. Значит ли это, что Мальдорор – это ангел сострадания? В некотором смысле – да, поскольку он сострадает сам себе. Почему? Это еще предстоит выяснить. Но разочарованное, оскорбленное, непризнанное и непризнаваемое сострадание заставляет его доходить до чрезвычайных крайностей. Мальдорор, по его собственным словам, получил жизнь как рану и запретил самоубийству врачевать ее шрам (sic). Как и Рембо, он страдает и восстает, но, загадочным образом не желая говорить, что он восстает против себя, какой он есть, он выдвигает вечное алиби мятежника – любовь к людям.
Просто-напросто тот, кто выдает себя за защитника человека, в то же самое время пишет: «Покажи-ка мне действительно доброго человека». Это вечное метание и есть признак нигилистического бунта. Бунтарь восстает против несправедливости, причиненной ему самому и человеку вообще. Но в момент просветления, когда приходит одновременное осознание законности бунта и его бессилия, рождается ярость отрицания, распространяющаяся на то, что бунтарь якобы собирался защищать. Неспособный исправить несправедливость установлением справедливости, он предпочитает хотя бы утопить ее в еще более широкой несправедливости, которая в конечном итоге сливается с полным уничтожением. «Зло, которое вы мне причинили, слишком велико, и слишком велико зло, причиненное мною вам, чтобы считать его беспричинным». Чтобы не возненавидеть самого себя, пришлось бы объявить себя безгрешным – нахальство, недоступное одиночке, который слишком хорошо себя знает. Но тогда можно хотя бы объявить безгрешными всех, пусть даже их считают виновными. Получается, что Бог – преступник.
Таким образом, единственный реальный прогресс на пути от романтиков к Лотреамону заключается в тональности. Лотреамон в очередной раз воскрешает с кое-какими улучшениями фигуру Бога Авраама и образ бунтаря Люцифера. Он помещает Бога «на троне из человеческих экскрементов и золота», где «с идиотским высокомерием, облаченный в саван из грязных простыней, восседает тот, кто именует себя Творцом». Этот «Предвечный в змеином обличье», «хитрый бандит», «раздувающий пожары, где гибнут старики и дети», валяется в канаве мертвецки пьяный или таскается по борделям в поисках гнусных удовольствий. Бог не умер, он пал. По сравнению с падшим божеством Мальдорор предстает типичным рыцарем в черном плаще. Он – Отверженный. «Ничьи глаза не должны узреть уродство, каким Высшее существо с исполненной ярой ненависти улыбкой отметило меня». Он отрекся от всего – «от матери и отца, от провидения, любви, идеала, для того чтобы думать только о себе одном». Терзаемый гордыней, этот герой наделен обаянием метафизического денди: «Лицо сверхчеловеческое, печальное, словно Вселенная, прекрасное, словно самоубийство». Как и романтический бунтарь, не верящий в божественную справедливость, Мальдорор встает на сторону зла. Мучить других и от этого мучиться самому – вот его программа. «Песни» – это подлинная литания злу.
На этом этапе покончено даже с защитой человека как Божьей твари. Напротив, «всеми средствами травить его, как дикого зверя, а заодно и его Творца…» – вот путь, к которому призывают «Песни». Потрясенный осознанием того, что его враг – Бог, опьяненный глубочайшим одиночеством великих преступников («я один против всего человечества»), Мальдорор набрасывается на творение и его Создателя. «Песни» прославляют «святость преступления», возвещают бесконечную череду «славных злодеяний», а двадцатая строфа Второй песни содержит настоящее руководство по преступлению и насилию.
Но подобный пыл был в ту эпоху привычным, и цена ему грош. Подлинная самобытность Лотреамона совсем в другом[19]19
Она особенно бросается в глаза при сопоставлении опубликованной отдельно Первой песни, выдержанной в банальном духе байронизма, и остальными «Песнями», пронизанными риторикой монстра. Значение этого разрыва справедливо отметил Морис Бланшо.
[Закрыть]. Романтики зорко следили за фатальным противопоставлением человеческого одиночества и божественного равнодушия; литературным выражением этого одиночества служили образы денди и отгороженного от мира замка. Но творчество Лотреамона раскрывает более глубокую драму. Судя по всему, ему было невыносимо это одиночество, и, восстав против творения, он мечтал разрушить его границы. Менее всего он стремился окружить царство человеческое резными башнями – он хотел перемешать все царство. Его стараниями творение было низведено до первозданных морей, где мораль утрачивает смысл одновременно со всеми проблемами, в том числе ужасной, по его мнению, проблемой бессмертия души. Он хотел не создать яркий образ бунтаря или денди, противостоящего творению, а уравнять человека и мир в едином процессе уничтожения. Он штурмовал даже ту границу, что отделяет человека от Вселенной. Полная свобода, в частности свобода совершать преступления, предполагает разрушение человеческих границ. Недостаточно обречь на проклятие всех людей, включая себя. Надо еще низвести царство человеческое до уровня, управляемого инстинктами. Мы находим у Лотреамона отказ от рационального разума и возврат к стихийному началу, которое является одним из признаков цивилизации, восстающей против себя. Речь идет не о том, чтобы громадным усилием разума создавать видимость, а о том, чтобы перестать существовать в качестве разума.
Все персонажи «Песен» – земноводные, потому что Мальдорор отвергает землю с ее границами. Замок Мальдорора покоится на воде. Его родина – древний океан. Океан – это двойной символ, одновременно место уничтожения и примирения. Он по-своему утоляет неуемную жажду душ, обреченных на презрение – свое собственное и чужое, жажду прекратить быть. Можно назвать «Песни» нашими «Метаморфозами», в которых античная насмешка заменена смехом исполосованного бритвой рта как образом принужденного и скрипящего зубами юмора. Этот бестиарий не в состоянии скрыть все смыслы, которые нам хотелось бы в нем найти, но он, по крайней мере, показывает волю к уничтожению, уходящую корнями в самую черную сердцевину бунта. Паскалевское «Уподобьтесь тварям!» у Лотреамона приобретает буквальное значение. Нам представляется, что Лотреамон не вынес той холодной суровой ясности, без которой нельзя долго жить. «Я сам – Творец, и этого слишком много для моего рассудка». И он предпочел свести жизнь и ее творение к беспорядочному метанию каракатицы, плавающей в чернильном облаке. Прекрасный эпизод, в котором Мальдорор совокупляется посреди моря с самкой акулы «в объятиях долгих, целомудренных и отвратительных», и особенно знаменательный рассказ о том, как Мальдорор, обернувшись спрутом, нападает на Творца, суть яркие образы бегства за пределы бытия и судорожной атаки против законов природы.
Те, кто не находит себе места в мире гармонии, где наконец взаимно уравновешиваются справедливость и страсть, предпочитают одиночеству горестное царство, в котором слова больше не имеют смысла, а всем правят сила и инстинкт слепых тварей. В то же самое время этот выбор означает умерщвление плоти. Во Второй песне ангел гибнет в битве и его тело разлагается. Тогда земля и небо, смешавшись, возвращаются в состояние первобытной жидкой бездны. Так, человек-акула «обрел новую форму рук и ног только в качестве искупительной кары за какое-то неведомое злодеяние». Действительно, плохо изученная жизнь Лотреамона была отмечена каким-то реальным или иллюзорным преступлением (гомосексуальностью?). Читателю «Песен» трудно избавиться от ощущения, что книге не хватает «Исповеди» Ставрогина.
За ее неимением нам остается видеть в «Стихотворениях» проявляющуюся с удвоенной силой загадочную тягу к искуплению. Стремление, свойственное некоторым формам бунта и заключающееся, как мы увидим, в обретении разума через безрассудство и порядка через хаос и в навешивании на себя цепей еще более тяжких, чем те, от которых хотелось освободиться, в этом произведении выражено с таким упрощением и цинизмом, что это не может быть бессмысленным. За «Песнями», восславляющими абсолютное «нет», последует теория абсолютного «да», а за беспощадным бунтом – безоговорочный конформизм. Все это – вполне осознанно. И правда, лучшее пояснение к «Песням» мы находим в «Стихотворениях». «Отчаяние, упорно питающееся этими фантасмагориями, неуклонно ведет литератора к упразднению всех божественных и социальных законов, а также к теоретической и практической злобе». «Стихотворения» изобличают «виновность писателя, с радостными возгласами ступившего на скользкий склон небытия и злорадно презирающего себя самого». Но в качестве лекарства от этой болезни они могут предложить только метафизический конформизм: «Если в поэзии сомнения мрачная безысходность и теоретическая злоба доводятся до крайней степени, это означает, что такая поэзия в корне фальшива; фальшива уже потому, что в ней оспариваются принципы, которые оспаривать нельзя» (письмо к Дарассе). Все эти прекрасные доводы, в сущности, служат выражением морали мальчика из церковного хора и армейской инструкции. Но одержимость конформизмом способна приобретать необычные формы. Воспевая победу злобного орла над драконом надежды, можно упорно твердить, что воспеваешь только надежду, и написать: «Мой голос, в котором звучит торжество победных дней, призывает тебя в мою пустынную обитель, о славная надежда», но надо еще, чтобы твои слова звучали убедительно. Утешать человечество, относиться к нему по-братски, вернуться к Конфуцию, Будде, Сократу и Иисусу Христу, «этим моралистам, которые шли по городам и весям, умирая от голода» (что исторически сомнительно), – все это проекции отчаяния. Так в самом сердце порока появляется аромат тоски по добродетели и упорядоченной жизни. Лотреамон отвергает молитву и Христа, считая его лишь моралистом. Он предлагает нам, вернее себе, агностицизм и исполнение долга. К несчастью, столь прекрасная программа предполагает покинутость, мирные вечера, сердце без горечи и размышления без принуждения. Когда Лотреамон вдруг восклицает: «Я знаю только одну благодать – благодать быть рожденным на свет», в его голосе прорывается волнение. Но затем он добавляет: «Непредвзятый ум находит ее полной», – и мы догадываемся, что это произнесено сквозь зубы. Перед жизнью и смертью невозможно сохранить непредвзятость. Бунтарь Лотреамона бежит в пустыню. Но это пустыня конформизма, и она уныла, как Харрар. Привкус абсолюта и ярость разрушения подчеркивают ее бесплодность. Если Мальдорор стремился к всеобъемлющему бунту, то Лотреамон по тем же причинам провозглашает абсолютную банальность. Если вначале он пытался утопить вопль совести в первобытном океане, заглушив его звериным рыком, а затем растворить в восхищении математикой, то теперь хочет подавить его унылым конформизмом. Тогда бунтарь притворяется глухим к призыву бытия, скрывающегося в глубине его бунта. Главное – перестать быть: либо отказываясь быть кем бы то ни было, либо соглашаясь стать все равно кем[20]20
Точно так же Фантазио хочет стать первым попавшимся буржуа.
[Закрыть]. В обоих случаях речь идет об условности и мечте. Банальность – это тоже поза.
Конформизм представляет собой один из нигилистических соблазнов бунта, подчинивших себе значительную часть нашей интеллектуальной истории. Во всяком случае, он показывает, как бунтарь, переходящий к действию, но забывший о своих корнях, становится перед сильнейшим искушением конформизма. Тем самым он служит объяснением XX веку. Лотреамон, которого обычно приветствуют как певца чистого бунтарства, на самом деле – провозвестник добровольного интеллектуального рабства, распространяющегося в нашем мире. «Стихотворения» – не более чем предисловие к «будущей книге», и все принялись мечтать об этой будущей книге как об идеальном финале литературного бунта. Но, вопреки Лотреамону, эта книга пишется сегодня в миллионах экземпляров по приказу администрации. Бесспорно, гений неотделим от банальности. Но речь идет не о банальности других, к которой творец тщетно пытается присоединиться и которая в случае надобности сама присоединяется к нему полицейскими методами. Речь идет о собственной банальности творца, которую ему предстоит создать от начала до конца. В каждом гении присутствуют одновременно и оригинальность, и банальность. Если он обладает каким-то одним из этих качеств, то он пустышка. Рассуждая о бунте, мы должны помнить об этом. У бунта есть свои денди и свои лакеи, но он не признает в них своих законных детей.
Сюрреализм и революция
Мы почти не будем говорить здесь о Рембо. О нем все уже сказано – по большей части, к прискорбию. Тем не менее уточним – поскольку это уточнение прямо касается нашей темы, – что Рембо выступал поэтом бунта исключительно в своем творчестве. Его жизнь нисколько не оправдывает связанного с ней мифа, а лишь наглядно показывает (стоит беспристрастно ознакомиться с письмами из Харрара) его приятие наихудшей из форм нигилизма. Рембо боготворили за то, что он отказался от собственного гения, как будто этот отказ предполагал сверхчеловеческую добродетель. Рискуя разоблачить алиби наших современников, укажем, что все обстоит ровно наоборот: только гений, а вовсе не отказ от гения предполагает добродетель. Величие Рембо не в крикливом шарлевильском дебюте и не в харрарской торговой деятельности. Оно проявляется в тот момент, когда он, первым одарив бунт самым странным, но самым точным языком, одновременно выражает его торжество и его страх; жизнь, оторванную от мира, и невозможность от него отрешиться; стремление к недостижимому и шершавую реальность, не поддающуюся шлифовке; отказ от морали и непреодолимую тоску по долгу. В этот миг, неся в себе самом просветление и ад, оскорбляя и приветствуя красоту, он превращает неразрешимое противоречие в двойственный переменчивый гимн и становится величайшим поэтом бунта. Порядок, в котором появились на свет обе концепции, не имеет значения. В любом случае между первой и второй прошло слишком мало времени, и любой художник, опираясь на абсолютную уверенность, рожденную жизненным опытом, понимает, что Рембо вынашивал «Одно лето в аду» и «Озарения» одновременно. В этом убийственном для него противоречии и заключался его подлинный гений.
Но в чем же добродетель того, кто отворачивается от противоречия и, не выстрадав свой гений до конца, предает его? Молчание Рембо – отнюдь не еще один, новый способ взбунтоваться. По крайней мере, после публикации харрарских писем мы больше не можем это утверждать. Его метаморфоза, конечно, выглядит загадочно. Но не менее загадочна банальность того, как блестящие юные девушки, выйдя замуж, превращаются в бездушные машины, которых интересуют только деньги и вязальный крючок. Миф, сотворенный вокруг Рембо, предполагает и утверждает, что после «Поры в аду» больше ничего не было возможно. Но разве для сверходаренного поэта и неутомимого творца существует что-либо невозможное? Можно ли представить себе что-либо еще после «Моби Дика», «Процесса», «Заратустры» и «Бесов»? А ведь после этих великих произведений появляются все новые, поучительные и исправляющие прежние заблуждения, – они свидетельствуют о том, что человеку есть чем гордиться, и конец им положит только смерть Творца. Кто из нас не сожалел, что произведение, еще более великое, чем «Пора», так и не было написано, а его автор, сдав позиции, оставил нас в глубоком разочаровании?
Разве Абиссиния – монастырь? Разве Христос наложил на уста Рембо печать молчания? Но тогда Христос должен предстать в образе современного банкира – если судить по письмам, в которых проклятый поэт рассуждает только о деньгах и о том, как их «лучше разместить», чтобы они приносили «регулярный доход»[21]21
Справедливость требует отметить, что тональность писем может объясняться характером их адресатов. Но мы не чувствуем в них никакой натуги, никакой фальши. В них нет ни слова, выдающего прежнего Рембо.
[Закрыть]. Тот, кто пел, испытывая муку, осыпал проклятьями Бога и красоту, восставал против справедливости и надежды и дерзко подставлял лицо ветру преступления, теперь мечтает о браке с кем-нибудь, у кого «есть будущее». Маг, провидец, каторжник, осужденный на вечное заточение, царь на земле без Бога, он постоянно носит на себе восемь килограммов золота, упрятанного в пояс, и жалуется, что оно сдавливает ему живот и вызывает диарею. Где он, тот мифический герой, предложенный юношам, которые и не думали плевать на мир, но умерли бы со стыда при одной мысли о подобном поясе? Чтобы сохранить миф, надобно игнорировать эти письма, а они имеют решающее значение. Понятно, почему комментаторы по большей части предпочитают обходить их молчанием, – они святотатственны, как иногда святотатственна сама истина. Великий, достойный восхищения поэт, величайший поэт своего времени, блистательный оракул – вот кто такой Рембо. Но он не человек-бог, не суровый пример и не монах от поэзии, каким его пытались нам представить. Как человек, он вновь обрел свое величие лишь на больничной койке, в тот трудный час, когда даже душевная банальность способна трогать сердца: «Как я несчастен, как же я несчастен… Деньги при мне, а я не могу даже присмотреть за ними!» Горестный стон этих трагических минут, по счастью, позволяет нам мерить Рембо той общей мерой, которая невольно совпадает с величием: «Нет, нет! Отныне я восстаю против смерти!» У края бездны воскресает молодой Рембо, а вместе с ним бунт, привычный эпохе, в которую проклятие жизни представлялось исключительно отчаянием смерти. В это мгновение торгаш и обыватель воссоединяется с мятущимся юношей, которого мы так горячо полюбили. Он воссоединяется с ним в страхе и горькой муке, в конечном итоге объединяющей людей, не сумевших спасти свое счастье. И только тут начинаются его страсть и его истина.
Впрочем, Харрар и в самом деле присутствовал в его творчестве, но в форме последней сдачи позиций. «Лучше всего – напиться в стельку и уснуть прямо на берегу». Ярость разрушения, свойственная всякому бунту, приобретает тогда вид общего места. Апокалипсис преступления, каким он показан Рембо в образе вельможи, без устали убивающего своих подданных, и бесконечное распутство – вот бунтарские темы, которые будут подхвачены сюрреалистами. Но в итоге возобладает нигилистическое уныние – истерзанной душе не под силу ни борьба, ни преступление. Провидец, который, если можно так выразиться, пил, чтобы не забыть, в конце концов ищет и находит в опьянении тяжелый сон, хорошо знакомый нашим современникам. Спать можно и на песке, и в Адене. И принимать, уже не активно, но пассивно, миропорядок, даже если он рушится на глазах. Молчание Рембо готовит нас к молчанию Империи, витающему в умах тех, кто смирился и готов на все, кроме борьбы. Возвышенная душа, внезапно покорившаяся власти денег, возвещает иные требования – вначале несоразмерные, но затем согласные оказывать услуги полиции. Не быть ничем – вот крик души, уставшей от собственного бунта. Тогда мы имеем дело с самоубийством духа, в общем-то заслуживающим меньше уважения, чем самоубийство сюрреалистов, зато чреватым более серьезными последствиями. Значение сюрреализма, возникшего на исходе великого бунтарского движения, в том и состоит, что он попытался продолжить дело того единственного Рембо, который достоин нашей нежности. Выводя из послания о провидце и предложенном им методе правило мятежной аскезы, он наглядно показал борьбу между волей к бытию и желанием самоуничтожения, те самые «да» и «нет», которые мы находим на каждой стадии бунта. По этим причинам, по нашему мнению, лучше не повторять бесконечные комментарии творчества Рембо, а отыскать его следы в творчестве тех, кто ему наследовал.
Абсолютный бунт, тотальное неповиновение, возведенный в закон саботаж, юмор и культ абсурда – сюрреализм в его исходном замысле можно определить как непрекращающуюся критику всего и вся. Отказ от какой-либо определенности выражен четко, резко, провокативно. «Мы – специалисты по бунту». Машина по потрясению умов, по выражению Арагона, сюрреализм возник из движения дада, романтические корни которого мы должны отметить, и анемичного дендизма[22]22
Один из мэтров дадаизма, А. Жарри являет собой последнее воплощение – скорее оригинальное, чем гениальное, – метафизического дендизма.
[Закрыть]. Он начинается как культ бессмыслицы и противоречия. «Истинные дадаисты против дада. Каждый – директор дада». Или: «Что хорошо? Что уродливо? Что велико, сильно, слабо?.. Не знаю! Не знаю!» Очевидно, что этим салонным нигилистам грозило превратиться в прислужников самых строгих ортодоксий. Но в сюрреализме есть нечто большее, чем унаследованный от Рембо парадный нонконформизм. Об этом говорит Бретон, задаваясь вопросом: «Должны ли мы оставить всякую надежду?»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































