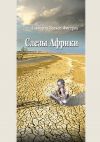Текст книги "В стране любви"

Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
VIII
Со шляпой на затылке, расстегнув свой белый жилет, Лештуков шел или, вернее сказать, увязал в песках между морем и пинетою. Луна уже спряталась. Звезды сделались ярче и больше, – проглянули и такие, которых слабые искры до сих пор съедал лунный свет. Лештуков, споткнувшись о крупную раковину, упал на песок и остался лежать: ему лень было приподняться. Прибой добегал почти до его подошв. Ему было хорошо. Кровь в его жилах текла так же буйно, как эти волны, которых он, лежа на спине, не видел, а только слышал… Еще недавно волны были ему ненавистны, а теперь он любил их; ему было приятно думать, что около него бьется и шумит что-то, словно родное его настроению – такое же могучее, громадное и неудержимое, как восторг, переполняющий его сердце.
Ах, сердце тоже море:
И бьется, и шумит,
И также дорогие
Жемчужины хранит… –
беззвучно пела его память. Широко открытыми глазами он измерял небесный шатер, и казалось ему, будто гул близкой, но невидимой стихии, что охватывает его ветром и солеными брызгами, – лишь отголосок далекого гула движущихся там, наверху, миров.
«Бывают скверные минуты, когда все это таинство красоты представляется озленному тоской жизни человеку – так – чем-то вроде голубого стеклянного колпака с насаженными под него светляками. Но сейчас я почти готов верить в влюбленного великана, как описал его Гейне: я вижу его пламенный сосновый факел… скользит по синеве и пишет мириадами искр предвечное и не умирающее „люблю тебя“. Надо быть счастливым, чтобы понимать великое. Надо одуреть немножко от восторга, чтобы в полной мере сознать себя частью этой машины машин – матери-природы. Не знаю, небо ли спустилось ко мне, или я полетел к нему, но я над землею… Сейчас я уже думаю, разбираюсь сам с собою, а – как я сюда попал? Нечистая сила или собственные ноги меня принесли?.. А пять минут тому назад… такого хорошего тумана в голове никогдаеще не испытывал… Без вина пьян – и нет у меня ни одного врага на свете!.. Всех люблю! Рад обнять кого угодно! И все это… Ах, черт возьми!»
Он весело вскочил на ноги и улыбался в темноте.
«Куца теперь деваться? Я петь хочу, смеяться, пить и глупить; хочу видеть людей таких же счастливых, как я сам… Домой – нельзя: у меня, должно быть, откровенное до глупости, счастливое до пошлости лицо. Пойду к Ларцеву; авось он дома и еще не спит».
Все с тою же застывшею на лице улыбкой он поднял с земли свою мокрую шляпу, снял брошенную на нее морем водоросль и медленно пошел к городу. Море гудело вслед ему мощным, ласковым голосом…
Жизнь в Виареджио замирает поздно… Набережная еще горела огоньками обычной иллюминации: в купальном сезоне здесь каждый день праздник. В «Nettune»[41]41
«Нептун» (ит.).
[Закрыть] грохотал военный оркестр. Лештукова обогнали знакомые офицеры-берсальеры: они отправлялись в вокзал на танцы и звали с собой Лештукова, но в модный приют англичан и офицерства его не тянуло; мокрая шляпа и измятый костюм послужили ему извинением. Бодрый, с бойкой уличной песенкой на устах, взбегал он по ларцевской лестнице – широкой и темной… Нога Лештукова уже коснулась верхней ступени, когда ему померещилось что-то живое у двери мастерской Ларцева. Лештуков отшатнулся инстинктивным движением и прижался спиною к стене. И вовремя: вслед затем сильный и увертливый невидимка сцепился с Лештуковым, грудь с грудью; рыча и проклиная, он силился высвободить свою, крепко схваченную Дмитрием Владимировичем руку. Ошеломленный Лештуков боролся, не успев даже сообразить, какого это врага послала ему судьба. В нем закипело слепое бешенство, дикая отвага, какие являются только при нечаянной опасности. Невидимка вскрикнул от боли… Что-то звякнуло по ступеням… Лештуков бросился вниз по лестнице, таща за собою своего неприятеля за вывернутую руку. Неизвестному, должно быть, пришлось очень больно: он почти не упирался.
– Альберто!.. Так я и знал! – вскричал Лештуков при первом луче уличного света. – Мой милый! вы, кажется, дали своему патрону обет попасть на всю жизнь в тюрьму Монтелупо?
Альберто, с пристыженным лицом, угрюмо потирал красную и распухшую правую руку левою.
– Вы мне руку вывихнули, синьор, – сердито буркнул он сквозь зубы.
– А вы меня зарезать хотели, синьор! – насмешливо отозвался Лештуков, пожимая плечами.
– Я не знал, что это вы!.. Тьма, как в аду…
– А я не знал, что это вы!.. Вы, конечно, Ларцева дожидались?
Моряк кивнул головой.
– Я предупреждал… – проворчал он, глядя в землю. Фигура измученного, изломанного неудачною любовью богатыря показалась Лештукову жалкою. Злое возбуждение борьбы стихло, недавнее блаженное настроение опять вступало в права и манило счастливого на участие и сострадание к несчастному.
– Ах, Альберто, Альберто! Что вы только, безумный человек, над собою делаете?!
Альберто поник головою еще ниже.
– Вы, синьор, должно быть, очень счастливо любите, – сурово говорил он, дуя на свои измятые пальцы, – иначе вы поняли бы меня! Вы большой барин, я – мужик, простой матрос. Но сделаны мы из одного теста. И посмотрел бы я, что стали бы вы делать, если бы… Можно все говорить, синьор?
– Говорите, Альберто! После такой хорошей потасовки люди имеют право быть откровенными друг с другом. Кулаки иногда дружат и равняют людей.
– Если бы ходила позировать к вашему другу и оставалась с ним с глазу на глаз каждый день по три часа не Джулия, а синьора Маргарита?..
– Что за вздор, Альберто?! Причем тут синьора Маргарита?
– Простите: вы дали мне право говорить, что я хочу. Я так и сказал, как думал. Потому что я хочу, чтобы вы меня, как следует, сердцем поняли. Не смущайтесь, синьор: разговор этот – между нами! Вы с ней всегда вместе. Что вы не муж и жена, – нам известно. Что вы ее любите, – этого тоже разве только слепой не увидит. А как вы ею мучаетесь и ее ревнуете, – это я лучше всех знаю!
– Черт знает, что несете вы, Альберто! – уже почти с гневом и краснея, возразил Лештуков.
– Синьор! – холодно остановил его Альберто, – у нас на веранде висит зеркало. Взгляните в него, когда вы сидите за столом и пьете свой коньяк, а синьора Маргарита входит в воду.
Лештуков поморщился. Marinajo попал ему не в бровь, а прямо в глаз. Каждый день он переживал по несколько мучительных минут – именно тех, как уязвил его сейчас Альберто. Маргарита Николаевна имела большой успех в купальном мирке. Когда она, сияя улыбкой, стройная и грациозная, появлялась в воде, все мужчины на веранде вооружались пенсне и моноклями и седлали перила барьера. Каждый делал вид, будто даже не смотрит на море, но Лештуков – чутьем человека влюбленного и развратного – хорошо понимал, что все внимание косых и как бы случайных, притворно-рассеянных взглядов мужской толпы вертится около розового лица, розовых плеч и рук, красивым пятном выделяющихся на зелени и белой пене моря…
«Словно лошадь осматривают!» – со злобою думал Лештуков, напрасно стараясь сохранить хладнокровие.
Око за око и зуб за зуб; Лештуков с жестоким раскаянием припомнил, скольких мужей, влюбленных, любовников бесил он сам, шатаясь по «бадортам», тем же, чем теперь бесят его другие. Сколько раз смеялся он над дикой ревностью – «не смотри на мое…» И вот… Чему посмеешься, тому и поработаешь.
Он отлично знал: если все эти итальянцы, немцы, французы не таращатся на Маргариту Николаевну прямо, как на полунагую фигурантку бульварной феерии, то лишь потому, что он сидит на веранде. Его принимают за мужа и опасаются зацепить его самолюбие слишком откровенным цинизмом, – кому же охота нарваться на скандал с человеком, у которого такие широкие плечи и такой суровый взгляд? Эта лицемерная вежливость бесила Лештукова, он десять раз давал себе слово не ходить на веранду. Но когда Рехтберг отправлялась вместе с немками купаться, ему живо представлялось, как она вошла в воду, как с веранды смотрят на нее уже не искоса и исподтишка, а прямо в упор – наводят бинокли, критикуют ее руки и ноги, острят и делают скверные предположения… Он бледнел и, схватив шляпу и трость, все-таки являлся на веранде, с обычным ленивым видом и искусственной улыбкой на губах. Сама Маргарита Николаевна злила его столько же, как и ее созерцатели. Она так часто жаловалась на непрошеное внимание мужчин, что разве очень неопытный мальчик не понял бы, насколько, в действительности, внимание это ей льстило. В море, среди волн и пены, Рехтберг была очаровательна и, конечно, сознавала свою силу. Нет таких женщин, которые бы не знали, когда они хороши собою. Лештуков, когда Маргарита Николаевна осторожным шагом выходила из-под столбов купальни к limite и, держась за канат, бросалась спиною на волны, любил ее до ненависти. Каждое ее движение, каждый взгляд, каждая улыбка представлялись ему умышленными. Ее движения были полны манящей чувственности, и он уже сам не знал, как будет для него хуже думать о Маргарите Николаевне: нарочно это выходит у нее или нечаянно? Если кокетка сознательно дразнит своим телом животные страсти, – скверно. Но любить женщину, в которую гадкий талант пробуждать желания в каждом мужчине посажен самою природой и вырывается наружу инстинктивно, сам по себе, даже не завися от произвола женщины, – едва ли не еще ужаснее.
Лештуков воображал, будто скрывает свои волнения довольно искусно. И что же? Простой моряк видит его мельком на пять минут в день, без всяких разговоров, кроме здравствуй и прощай, – и, однако, выкладывает, как на ладони, всю его любовную психологию и еще хвастается, будто они из одного теста слеплены.
«Прозорливость влюбленного!» – размышлял Лештуков. Вместе с этой мыслью ему стало жаль Альберто, и сам моряк стал близким, родственно понятным ему и милым человеком. Ему захотелось доставить бедняку хоть несколько таких же отрадных мгновений, как сейчас была полна и радостна его собственная жизнь. Он вспомнил, как вчера он уговорил Ларцева покончить свои счеты с Виареджио и уехать, и решил обрадовать моряка этим известием.
– Идем, Альберто!
– В полицию, что ли, синьор?
– Э! какая там полиция между друзьями?.. В какое-нибудь альберго: у меня глотка высохла от возни с вами… Кстати, нам надо еще поговорить.
В харчевне Лештуков едва не вскрикнул, когда лампы осветили лицо Альберто: ходячим трупом показался ему матрос.
– Ой, как вы скверно выглядите!
– Что думает делать художник, синьор? – не отвечая и глядя в землю, спросил Альберто. – Не всегда будет везти ему, как сегодня.
– Он уезжает.
– Это вы его заставили, не правда ли?
– Заставить я не мог бы, но советовал очень… Да будет вам об этом. Вы совсем больны…
– Я с утра ничего не ел и не могу есть. Все противно. Зато жаждою глотку сожгло.
– Так – стакан вина поскорее. Чокнемся, Альберто!
Альберто выпил и вздохнул всеми легкими, с громадным облегчением, словно впервые за целый день обменил воздух в груди своей.
– Так это верно? Уезжает и не вернется?
– Ни в каком случае.
– Стало быть, есть еще честные люди на свете. Тем лучше для него.
Он поднял стакан над головою и бросил его об пол.
– Синьор, так да разлетятся все злые мысли.
Часом позже Альберто, стоя на перекрестке Viale Ugo Foscolo[42]42
Улица Уго Фосколо (ит.).
[Закрыть], дружески тряс руку русского:
– Синьор! – в голосе его вздрагивали плачущие нотки, – вы меня из мертвых подняли! Вы уедете далеко, вы – большой барин, а все-таки помните, что у вас есть друг, и ему для вас, если понадобится, жизни не жалко. Такие вещи, даже живучи на другом конце света, хорошо знать, синьор. Я рад, что мне не надо обижать художника… Он мне нравится, я хотел быть ему другом. Но что делать? Жизнь приказывала его убить.
Лештуков говорил:
– Мой совет: не слишком преследуйте Джулию. Пусть опомнится, придет в себя. Дайте влюбленности остыть, самолюбию успокоиться…
– Все равно, синьор. От судьбы не уйдешь. Мне вот уже который день кажется, что я пропащий человек. Кто-то темный гонится за мною по пятам, и добром нам с Джулией не разойтись…
– Э, полно, Альберто! Вы сами сказали давеча: да погибнут злые мысли!
Но Альберто не слушал в волнении.
– Что ж? тюрьма так тюрьма. Только я и на каторге не позабуду вашей фиаски вина и вашей доброй ласки.
– Зачем на каторге? Мы еще отлично увидимся и в Виареджио.
Он был тронут даже глубже, чем хотел, трепетным волнением бедного малого, а тот топтался около него, как большой, ласковый, преданный хозяину ручной зверь и говорил голосом, в котором пел рыдающий восторг:
– Помните, синьор: нет услуги, которой не сделал бы для вас я, Альберто-marinajo. Ваши друзья – мои друзья. Ваши враги – мои враги. Это говорю вам я, Альберто-marinajo. Так вот помните… Приятных сновидений, синьор.
– И вам.
Альберто бросился бежать вдоль по улице и на углу ближайшего переулка остановился.
– Ваши друзья – мои друзья. Ваши враги – мои враги. А я – Альберто-marinajo! – еще раз услышал издали Лештуков.
Матрос скрылся. Лештуков побрел к своему отелю.
– Вот везет мне сегодня! – усмехался он. – Говорят, что спасти свою жизнь, значит второй раз родиться. Ах как ужасно было бы потерять ее именно теперь, когда она так весела и полна! Древние полагали высшее блаженство в том, чтобы умереть в самый счастливый момент жизни. Да! как бы не так! Тут-то и жить хочется, тут-то язык и не повернется сказать мгновенью: остановись!.. Итак, я спас свою жизнь. Затем помирил двух хороших людей и сам приобрел хорошего друга, кажется, самого искреннего из всех моих друзей…
Он был уже в виду своего дома. Счастье хлынуло в него новой волной: в уголке балкона, в креслах, неясно виднелась женская фигура, заслоненная огромным олеандром…
IX
Лештуков нарочно не рассказал Ларцеву о своей схватке с Альберто. Он знал, что художник обладает страстью к выяснению всяких недоразумений, и был твердо уверен, что разговор между Ларцевым и Альберто не замедлит перейти в спор, спор – в ссору, а ссора, пожалуй, в поножовщину. Альберто был слишком свежо обижен, чтобы хладнокровно принимать резкости, а резкостями Ларцев не преминул бы и имел полное право его осыпать. При всем своем добродушии, при всей рассудительности и закономерности своих мыслей и поступков, Андрей Николаевич был одержим избытком физической мужской гордости; прав или не прав бывал – он инстинктивно возмущался против всяких попреков и укоров и лез на стену от грубого слова.
– Если бы я когда-нибудь, сохрани Бог, увидал поднятую на меня руку, – не раз говорил Ларцев и даже слегка бледнел при этом, – я не знаю, что сделал бы! Так полагаю, что либо меня, либо другого мертвым бы взяли с места! Не могу я видеть, как замахиваются или бьют. Верите ли, даже в детстве ни отцу, ни дядям не давался пороться. Если других при мне бьют, тоже не выношу. Это какая-то идиосинкразия. За дело бьют или не за дело, прав битый или не прав, – мне все равно, я не разбираю: при мне языком болтай, а рукам воли не давай. В самом горячем споре я совершенно хладнокровно могу успокаивать, убеждать, уговаривать, даже разнимать противников; они могут позволять себе какие угодно слова, – мне на это наплевать. Но взмах руки в воздухе, – и у меня уже не остается никакого благоразумия, я ничего не помню, в глазах скачут кровавые мальчики, все в красном тумане, и я способен натворить Бог знает чего.
Гордость Ларцева была уже задета отчасти и тем, что ему приходится уезжать. Он сознавал, что Лештуков присоветовал ему исход дела честный, великодушный и благоразумный, но в то же время сомневался: не покажется ли его отъезд из Виареджио трусостью и Джулии, и Альберто, и всем, кроме Лештукова, знакомым с его неожиданным и невольным романом.
Личные волнения испортили ему рабочую полосу; исчезло созерцательное настроение вдумчивой самокритики, в каком особенно нуждался он именно теперь, когда «Миньона» была сделана в общем. Оставалось лишь строго и внимательно отделать картину; на очереди стояли детали: что исключить, что прибавить – вопросы внешней техники, а не самого содержания картины. Себе художник уже угодил «Миньоною». Надо было сделать несколько шагов, чтобы угодить ею наверняка и публике: шагов опасных, – как бы не впасть в шаблон, в потворство вкусам массы. А этого Андрей Николаевич боялся пуще всего.
– Одно дело, – говорил он, – беседовать с толпой своим языком, но так чтобы она тебя понимала и слушалась; а другое – подделываться под ее язык и лебезить перед нею. Первое дело – обязанность всякого художника, но кто пошел по второй дорожке, – ставь на нем крест: кончит олеографическими пошлостями!.. Разыскать истинную границу между понятностью и угодничеством и называется чувством меры; этот дар свободно и здорово действует лишь в уравновешенных художественных натурах.
Вот равновесие-то именно и выбило из Андрея Николаевича события последних дней. С отвращением и ленью повозившись над картиною два утра, он решил, что лучше и впрямь не трогать «Миньоны» до Рима.
– Работать, потеряв тон, не резон: глядишь на картину не теми глазами, как следует. Творческое наитие помутилось потоком внешних обстоятельств, отношений, чувств и мыслей. Смотреть на картину сквозь этот поток и трудно, и опасно, и несправедливо. Нечего ремесленничать! Один ремесленный, вымученный мазок может погубить роскошнейший плод свободного вдохновения.
Ларцев призвал столяра, заказал ему ящики на «Миньону» и еще кое-какие полотна своей мастерской, а сам уехал в горы.
С альбомом и с карандашом лазил он под горячим солнцем по зеленым куполам холмов Камаиоре, карабкался по мраморным уступам Массарозы, братался со сторожами виноградников и погонщиками ослов, питался сыром, от которого болели челюсти, запивая его таким кислым вином, что глаза лезли на лоб… Ночевать приходилось ему у людей, лишенных иного крова, кроме природного навеса скалы, кое-как обгороженного гнилыми, дырявыми досками. В один жаркий вечер Ларцев поднялся к такому дому, прилепленному футами пятьюстами выше Камаиоре.
– Добрый вечер! – отвесил он общий поклон полдюжи-не желтых высохших людей, неподвижно сидевших на булыжниках порога. Я умираю от жажды. Нет ли у вас вина?
– Вина?.. Нету нас вина, синьор! – с вежливою, но втайне враждебною печалью отозвалась женщина, с лица сухая и сморщенная, наподобие выжатого лимона, но с огромным животом, раздутым, как тыква.
– Жаль! Молоко, может быть, есть?
– И молока нет, синьор!
– Черт возьми, что же у вас есть, наконец?!
– Одна нищета, синьор!
Ларцев посмотрел на эту людскую ветошь, истрепанную голодом и лихорадками до того, что, казалось, сквозь тощие тела виднелись исстрадавшиеся души… Ему стало больно и горько… А вечер, как нарочно, был обольстительно хорош: индиговое небо окаймилось золотым закатом, румяные тени дрожали на лысинах гор, на скатах холмов богатейшие виноградники весело впитывали последние отблески лучей ушедшего за гору солнца; внизу, как в муравейнике, кипела жизнь маленького, бойкого городка, очнувшегося, в предчувствии вечерней прохлады, от сытой послеобеденной спячки под гнетом дневного зноя. Ларцев сел на порог горного гнезда, – домом, даже хижиной, он не решался назвать эту стройку троглодитов XIX века.
– Как бы то ни было, я прошу позволения заночевать у вас. И вот десять франков: не добежит ли кто-либо до города купить хлеба и вина?
Ночуя в лачуге, Ларцев мог убедиться, что под ее кровом, кроме нищеты, живет еще и честность. Он был один в далеком горном пустыре, между голодных, одичалых от нужды людей, он показал им туго набитое портмоне, – и, несмотря на то, спал среди накормленной им семьи так же крепко и безопасно, как спал бы среди собственной. Между тем урочище, где висело гнездо отощавших полудикарей, слыло в округе разбойничьим, и окрестные власти зорко следили за ним, как за язвою здешних мест.
– Подите же! – рассуждал Ларцев, шагая поутру узкою горною тропинкой сквозь цепкий орешник, – в легальной и благоустроенной Флоренции меня три раза обкрадывали кельнера лучших отелей, причем, я полагаю, каждый из этих каналий, – если пошевелить деньжонки, положенные им в банк на предъявителя, – вдвое богаче меня самого. А из вертепа нищих ухожу, не потеряв ни одной копейки и, наоборот, приобретя очень много… блох.
В Виареджио он явился поздно к вечеру-совсем оборвышем, с бронзовым загаром на лице, облупленном горными ветрами. Слуга, преданный малый из натурщиков, уже второй год скитавшийся за художником в его кочевье по Италии, сообщил Ларцеву, что Джулия трижды приходила без него, каждый раз все более и более в волнении.
– Ей, синьор, очень хотелось знать, правда ли, будто вы уезжаете. Я сказал: «Что я знаю?! Господин велит мне уложить чемоданы, – вот мое дело! Пока он еще не приказывал. Сейчас он в горах. Когда приедет, расспросите его сами. Если, – говорю, – за сеансы вам остался должен, – вы не беспокойтесь, за ним не пропадет; не такой синьор; нас все знают».
– Я ей ничего не должен, – поморщился Ларцев. – Ах как это вы глупо сказали, Маттиа! Что же она вам ответила?
– Да, признаться, то же, что вы, синьор.
– То есть?
– Завязала мне дурака, синьор. А сама – белая как полотно, и глаза… Право, я не видал таких глаз, синьор: как будто на всем лице одни глаза только и есть; так искрами и сыпят!.. Мне она показалась странною, синьор, и я даже ходил к синьору Деметрио посоветоваться с ним, как быть, если она еще раз явится.
– Что же вам сказал Лештуков?
Маттиа лукаво улыбнулся.
– Он сперва, синьор, сказал мне: «А? Что?..» Тут его позвала синьора Маргарита. Он разговаривал с нею добрых пять минут, потом вспомнил обо мне, извинился, что заставил ждать, и сказал: «Да, да, да, так вот какие дела?..» Синьора Рехтберг опять его позвала… «Ну, это как-нибудь все устроится», – поспешно сказал синьор Деметрио, сунул мне в руку золотой, чего, сказать вам правду, синьор, за ним прежде не водилось, – и поспешил к синьоре… Я понял, что мне дожидаться нечего…
Ларцев переменил костюм и отправился к Лештукову в некотором недоумении: что за перемена приключилась с человеком, всегда так горячо принимавшим к сердцу его интересы. На балконе никого не было. Нижний этаж был пуст: богема отеля, в полном своем составе, уже убежала на мол. В столовой возилась с посудою служанка. Андрей Николаевич спросил о Лештукове. Служанка с сердитым видом, молча, ткнула пальцем на потолок. Андрей Николаевич поднялся на лестницу поневоле бесшумно, благодаря своим плетеным туфлям, – и на поворотной площадке, не доходя несколько ступенек до верха, замер на месте, в нерешимости: идти ему дальше или лучше спуститься обратно вниз? Сквозь перила и полуотворенные двери в кабинет Лештукова ясно рисовался силуэт Маргариты Николаевны Рехтберг. Она сидела в глубоких креслах, уронив белые руки на склоненную к коленам ее голову Лештукова. Луна бросала в комнату яркое пятно света, и Ларцев, из темноты, мог разглядеть полузакрытые глаза Маргариты Николаевны и ее странную, задумчивую улыбку. Лица Лештукова он не видал, но поворот его головы, его полулежачая поза, были полны ленивой неги и силы.
«Вот как! – насмешливо подумал Ларцев. – Нежная сцена и поза счастливого собственника! Медовый месяц. С чем и имею честь поздравить. Теперь я извиняю ему небрежность к моим делам и невнимание к Маттиа. Раз дело дошло до живых картин, человеку уже не до друзей. Однако…»
Андрей Николаевич засвистал итальянскую песенку и стал как можно медленнее подыматься по остальным пяти ступенькам лестницы. Лештуков и Рехтберг встретили его восклицаниями, – слишком радостными, чтобы быть искренними. Ларцев понял и, посидев с влюбленной парочкой минут десять в лунных сумерках, откланялся, обещая прийти к ужину с мола, куда отправился искать остальную компанию отеля.
Он шел и ворчал про себя.
– Конечно, я очень рад за милейшего Дмитрия Владимировича, если эта любовная удача встряхнет его немножко. Только он здесь, кажется, слишком всерьез забрал, а предмет-то для серьеза выбрал куда не подходящий! Знаю я этих флертисток новейшего пошиба! Самый яд для нашего брата – артиста. Всю нервную силу, которая надело нужна, в конце концов ухлопываем на них… Нет, дудки! Нас этак не запрягут: самому дороже… Какая, однако, романтическая полоса пошла у нас в колонии… Даже в воздухе что-то такое есть… Но мне все-таки немножко грустно и досадно. Когда в воздухе носятся бациллы любви, микробы дружбы вымирают. Пока не уймутся счастливые волнения страсти, мой милейший Дмитрий Владимирович для меня потерян. Даже умнейшие люди делаются на это время дураками, и им не до друзей… О страна любви, страна любви, на твоей душе останется этот грех!..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.