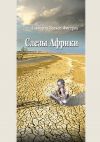Текст книги "В стране любви"

Автор книги: Александр Амфитеатров
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
XIV
По отъезде Рехтбергов Лештуков провел в Виареджио еще несколько недель. Им овладела тихая, безобидная апатия, – точно после сильной лихорадки. Острые ощущения ушли, осталась лишь страшная физическая и нравственная усталость; не было охоты ни воспринимать впечатления, ни – того менее – разбираться в них. «Живу, но не мыслю», – выворачивал наизнанку Лештуков положение Декарта. Он почти не выходил из дома. Виареджио ему опостылело, как только может опостылеть человеку место, где он обесславил себя нехорошим поступком или вынужден был действовать вразрез со своею совестью. Лештуков с наслаждением уехал бы из Виареджио, но он, как нарочно, сидел без гроша – в ожидании большого аванса за проектированный роман для толстого ежемесячного издания.
Сезон купанья был в полном разгаре. Черри, осаждаемому клиентами, приходилось жалеть об одном – что его учреждение лишилось такой эффектной служанки, как Джулия.
С нею он совсем бы перешиб конкуренцию остальных bagni…[53]53
Водный курорт, купальня (ит.).
[Закрыть] Черри начал было переговоры с зеленщицей Анунциатой, но красавица заломила с него чуть ли не по золотому в сутки. Черри торговался, как может торговаться только итальянец, то есть за трех греков, двух армян и одного еврея. Но когда его сосед – конкурент Бальфи – уговорил Киару изменить своей булочной и поступить раздевальщицей в купальню, Черри сдался и приказал одному из своих работников сходить к Анунциате – ударить с ней по рукам.
Marinajo пошел, но очень скоро вернулся.
– Что? – встретил его Черри, – не ломается больше? согласна?
– Да я, хозяин, признаться, ее еще не видал.
– Где же ты шатался, birbante?[54]54
Плут? (ит.).
[Закрыть]
– Дело в том, хозяин, что – стоит ли еще и идти к Анунциате?
– Почему нет?
– Джулия вернулась.
– О! Ты врешь?
– Нет, хозяин, я сейчас встретил ее на Виа Паччини. «Скажи, – говорит, – хозяину, что, если он меня примет, я хоть завтра же приду на работу; сейчас мне некогда: дело есть, а к вечеру я сама зайду в bagni поговорить и условиться…» Кажется, еще красивее стала, только похудела очень.
Радостная улыбка встопорщила рыжие усы Черри.
– Отлично, – говорил он, потирая мозолистые руки, – за такую новость не грех будет угостить тебя стаканчиком вермута… у меня отличный: брат из Турина присылает…
Он подумал и прибавил:
– Авось теперь и Альберто будет вести себя умнее. А то – просто беда с ним. В малого, надо полагать, влез морской черт: постоянно пьян, с форестьерами, что ни день, то история – мужчинам грубит, с дамами нахальничает… совсем испортился парень! Я бы его дня держать не стал, да репутация у него заманчивая. Если я уволю Альберто, Бальфи тысячи франков не пожалеет, чтобы его получить, а он уведет к Бальфи с собою и мою публику…
Солнце жгло нестерпимо. Даже странно было, что такое мягкое, доброе на вид синее небо пепелит землю с жестокостью раскаленного Молоха. В море не шевелилась ни одна струя. Яхонтовый простор разнообразили только клочья застывших в воздухе без движения парусов. Жара тяжким грузом ложилась на город, клоня к земле все живое. Даже привычных туземцев сморило. Народ прятался дома или по винным лавочкам, кафе, альберго и остериям за опущенными маркизами и глотал мороженое и воду со льдом… На пустынном в эти часы моле копошилось всего несколько рыбаков, устраивая заставку для рыбы. Джулия сидела тут же, свесив ноги за парапет мола. С самого утра, когда она, после целого месяца, проведенного в отсутствии, возвратилась в родной город, она не могла найти себе места и покоя. Все в Виареджио было ей скучно, казалось унылым; ее томила злая, непобедимая тоска; хотелось бежать из одиночества к людям, а при людях тянуло опять в одиночество. Джулия заглянула было к Леилукову, но он спал, и она, постыдившись его разбудить, обещала зайти после, а сама пошла бродить по городу куца глаза глядели. На рынке подруги, толковавшие ее романическое исчезновение из Виареджио по-своему, глядели на Джулию с нескрываемой насмешкой… Она не вынесла косых взглядов и, ответив на презрительные гримасы Киары и Анунциаты самыми гордыми молниями, какие только могла вызвать из своих удивительных глаз, ушла к морю… Быстрые шаги заставили Джулию оглянуться: перед нею стоял Альберто. От скорой ходьбы и от волнения по красному лицу его катились крупные капли пота… Джулия, как слегка оглянулась на него через плечо, так и осталась в этой невнимательной позе, опираясь рукою о серый горячий камень.
– А, это ты! – сказала она равнодушно.
– Как видишь… Здравствуй, Джулия! Альберто боролся с тяжелым дыханием.
– Мне еще утром сказали, что ты приехала. Я бросил работу и искал тебя по всему городу. Но тебя встречали все – только не я. Я уже возвращался в bagni, когда заметил с берега твой красный платок.
Он умолк. Джулия ничего ему не ответила, небрежно играя пальцами по камню…
– Тебе неприятно меня видеть? – сказал Альберто.
– Нет, ничего, все равно.
– Ты все еще у Черри? – спросила она после новой паузы.
– Все у Черри.
Джулия загадочно улыбнулась.
– Значит, опять будем вместе. Что этот… графчик из Вены все еще здесь?
– Да… Что тебе до него, Джулия? Джулия опять не отвечала.
– Что же ты не спросишь, где я была? – с насмешкою сказала она, глядя на Альберто во всю величину своих глаз – в самом деле и мрачных, и сверкающих вместе, точно звездная южная ночь, как сравнил когда-то Лештуков. Альберто потупился, переминаясь с ноги на ногу.
– Не спрашиваю, – тихо возразил он, – потому что… где бы ты ни была, Джулия, я решил это забыть и простить.
– «Забыть и простить…» вот как! Помнится, я еще не просила у тебя прощения…
Над морем тяжело стрельнула крупная рыбина.
Джулия некоторое время следила за кругами, побежавшими от всплеска.
– Тебе нечего прощать, – продолжала она, переводя взгляд на Альберто, – ты, конечно, как все, воображаешь, будто я это время жила с художником… Этого не было. Вы правы в одном… Я уехала с тем, чтобы так было. Если бы он не взял меня женою, я стала бы его любовницей. Мне трудно было его найти. Он прятался от меня, я нарочно искала его в Риме, в Неаполе, в Реджио, в Палермо. Я всюду опаздывала. Он уезжал из города, как только я туда приезжала… Третьего дня я встретилась с ним, сама того не ожидая, на набережной в Ливорно, и… вот я здесь!
Альберто слушал, стараясь не глядеть на девушку.
– Я ему сказала: «Я не могу жить без вас, синьор…» Ха-ха-ха!.. Их, должно быть, из снега делают, этих русских великанов!.. Он сделал глаза и добрыми, и строгими вместе – это я только у него одного и видала – и говорит: «Полно, Джулия! Вы знаете, что я не могу на вас жениться…» – «Я и не требую этого, синьор, я вас люблю, примите меня к себе как горничную, как натурщицу, как что хотите… Клянусь вам: ни в чем я вас не стесню; даже, – если, наконец, и ваше мертвое сердце заговорит когда-нибудь, если вы полюбите другую, я сумею примириться с этим, уживусь с вашей избранницей и постараюсь ее любить ради вас…» Он мне на это сказал, что я слишком хороша и умна для горничной, что натурщицы ему не нужно и что честь не позволяет ему, не любя, делать любовницу из хорошей девушки… О, он честный человек, он благороднее всех рыцарей, что жили и умерли вон в этих замках на горах!.. Но лучше бы и для него, и для меня было, если бы у него было поменьше чести и побольше тепла в душе… Он наговорил мне много хороших слов и советов, – но… я с детства знала их сама и без него!.. Благоразумие-то ведь одинаково везде у всех, – только кто же и когда его слушает?.. Он просил меня вернуться сюда к Черри; я послушалась… Только на прощание я сказала ему, что он раскается, потому что я отомщу ему – он сам не ожидает – как! Я заставлю его потерять это проклятое спокойствие духа; он имени моего не будет в состоянии слышать, без того, чтобы не побледнеть от раскаянья.
– Как же ты думаешь сделать это, Джулия?
Она резко засмеялась.
– А вот ты увидишь… ты, да, именно ты это увидишь.
– Я тебя, Джулия, не понимаю.
– И не надо. Когда время придет, поймешь.
– Джулия! – взволнованно заговорил Альберто, – раз ты не лжешь, – а что ты не лжешь, я в этом уверен: я знаю твою честь и имею основания верить чести художника; раз ты вернулась в Виареджио такою же чистою, как уехала, зачем это отчаяние? зачем думать о мести?.. Ты знаешь, как я тебя люблю. Вот тебе моя рука, возьми ее и, черт возьми, поставим крест на всем прошлом…
– Выйти за тебя замуж? Нет.
– Почему?
– Потому что я тебя не люблю, а люблю художника.
– И, любя, собираешься ему мстить?
– Только тем и мстят за любовь, кого любят. Да и месть бывает разная… Нет, нет, нет, Альберто! Женой твоей я не буду. Я видела свет за это время и многое узнала. Во мне есть сила, которой я сама не понимала раньше. А если бы и поняла, так не дала бы ей воли…
– Значит, это что-нибудь нехорошее?
– Художник мог спасти меня от меня самой. Я была бы сыта его любовью, я бы ничего больше не спросила от жизни. Но теперь, если мне не далось немногое, чего я искала, я возьму все, чем люди веселятся и утешаются.
– Вот что… вот что… – протяжно сказал Альберто. – Ты говоришь, – венский графчик все еще здесь? и с этой своей крашеной француженкой?.. Накануне, как мне уехать, он шептал мне, что одно мое слово, и он пошлет француженку к черту…
– Вот что… вот что… – со странным спокойствием продолжал кивать головою Альберто.
– У меня будут бриллианты, и я буду пить шампанское за завтраком. Я заведу себе мальчишку-негра, чтобы носить за мною зонтик и накидку.
– Это должен дать графчик?
– Он не даст, – дадут другие. Я – красавица. Если меня не любит тот, кого я хочу, пусть любит меня, кто заплатит!
– Так, так, – бормотал Альберто, – только этого не будет.
Джулия возразила ему презрительным взглядом.
– Ты помешаешь мне?
– Да, я.
Она пожала плечами.
– Что ж? попробуй!
– Ты думаешь, мне легко было пережить стыд твоего бегства, когда всякий говорил о тебе самые подлые слова, самые скверные сплетни? Я укротил свое бешенство, я примирился со своим позором, я принес тебе ту же любовь, что и прежде… Я понял твое горе и до сих пор готов лечить его вместе с тобой, – лечить временем, ласками, честным именем своим, защитою храброго мужчины, незапятнанного уважаемого человека. А ты хочешь надругаться над собою и надо мною?.. Нет, тебе это не удастся. Честь художника спасла тебя от одного позора, а моя любовь спасет от другого.
Джулия вскочила на ноги.
– Что я не буду твоей женой, я готова повторить это тысячу раз, – сказала она в гордой позе, упирая руки в бедра.
– Тогда… – еще тише и спокойнее начал Альберто.
Но Джулия горячо перебила его.
– Дурак! Чего ты хочешь? Жены, у которой мысли будут всегда полны другим человеком, которая, если тебе удастся поцеловать ее, будет нарочно закрывать глаза, чтобы думать, будто ее целуешь не ты, а другой…
– Мое это дело. Если я иду на такую муку, не тебе меня отговаривать.
– Ты идешь, да мне-то неохота. Однако довольно, прощай: меня ждет старый Черри, я обещала прийти к нему вечером – подписать условие, а сейчас…
Она вынула из-за кушака часы, подаренные ей Ларцевым.
– Это часы художника, – сказал Альберто, не спуская глаз с золотой вещи, – зачем они у тебя?
– Он подарил мне их, когда уезжал из Виареджио. Краска медленно сползла с лица Альберто, заменяясь серою пепельной бледностью.
– За что?
Джулия гневно сверкнула глазами.
– Ты сейчас подумал подлость. Я тебе никогда не прощу этого вопроса. А еще говоришь, что веришь мне, что все забыл и простил!.. Эта вещь – самое дорогое, что будет у меня в жизни… Смотри: вот, вот, вот…
Она три раза поцеловала часы и опустила их за кушак.
Яростный крик вырвался из груди Альберто. Он схватился за голову, но вдруг, как бы опомнившись и совладав с собою, опустил руки и закинул их за спину.
– Прощай и можешь злиться, сколько угодно!
Джулия гордо кивнула головкой и хотела пройти, но Альберто, все еще держа руки за спиной, полуоборотом своего большого тела, заслонил ей дорогу.
– Не уйдешь ты… – сказал он.
В его лице ни кровинки не оставалось. Джулия пожала плечами.
– Зачем я тебе? Мне нечего больше сказать тебе.
– Нечего?..
– Да. Если уж мне суждено достаться нелюбимому человеку, так мне нужен кто-нибудь и побогаче, и познатнее простого матроса… Пусти меня, хозяин будет сердиться.
Альберто посторонился.
– Иди! – кротко сказал он.
Но когда Джулия проходила мимо его, он проворно взмахнул рукою… На спине девушки выступила красная полоса. Джулия подняла руки высоко над головою и судорожно хватала пальцами воздух, словно старалась уцепиться за него. Потом, без крика, рухнула ничком на камни мола. Альберто ударом ноги сбросил ее в море. Тело ключом пошло ко дну – только красное пятно расплылось на юде, да широкие круги побежали далеко по синему зеркалу спокойных вод…
С конца мола бежали к Альберто рыбаки… Он молча бросил им нож, которым зарезал Джулию, и протянул руки:
– Вяжите!
Перед первым допросом в претуре Лештукову удалось протолкаться к преступнику.
– Друг мой, как вы могли это сделать?!
– Она хотела сделаться потаскушкой, синьор, – спокойно сказал Альберто. – Я не мог допустить ее до этого.
Карабинеры вежливо отстранили Лештукова.
– Тысяча извинений, eccelenza[55]55
Ваше сиятельство (ит.).
[Закрыть], но теперь мы уже не имеем права допускать посторонних к арестанту.
– Если не брезгуете, пожмите мне руку, синьор, – сказал Альберто. – Прощайте. Спасибо за вашу приязнь. Не жалейте обо мне слишком: все – судьба!..
К вечеру убийцу увезли уже в Пизу, где и водворили в тюремном замке под крепким караулом.
XV
Два дня спустя немки поутру вместе с кофе преподнесли Лештукову только что пришедший из Петербурга конверт с банковым переводом. Дмитрий Владимирович был счастлив, как никогда еще в жизни не радовался деньгам, и в один день собрался к отъезду из Виареджио: после трагедии Альберто чудный цветущий городок стал казаться ему какою-то могилой. Накануне отъезда, поздно ночью, он сидел на моле, как раз над тем местом, где было найдено тело Джулии. Он видел ее – обезображенную ударами багров, окутанную рыболовною сетью… Но ему как-то не думалось о той Джулии; ему хотелось мечтать, будто она все еще тут, внизу, под волнами, холодная и прекрасная, как русалка; хотелось видеть сходство между нею и яркой звездой, что, чуть колеблемая ночным волнением, мерцала глубоко под его ногами, на самом месте гибели Джулии. Лештуков думал о Джулии, об Альберто, о себе, о Маргарите Рехтберг, – и странная зависть к судьбе убитой девушки и ее убийцы смущала его мысли.
«Альберто уверял, что мы с ним из одного теста вылеплены, – думал он. – Может быть, тесто и одно, да дрожжи разные. Оба мы пережили неудачную любовь, оба были оскорблены, унижены: у нас обоих отняли лучшее, чем мы владели, мы оба терзались, оба ненавидели… Он – простой человек полудикой воли – и распорядился просто. Над его человеческим достоинством насмеялись, – он убил. Он сделал страшно, безобразно, преступно, но доказал, что знает себе цену. Он и на скамье подсудимых будет сидеть с гордо поднятой головой. Любовь дает право суда над человеком. Он судил – и убил. Отчего же я не убил? Первое хорошее чувство в моей гадкой, развратной жизни разменялось на бирюльки; я, как одураченный паяц, сыграл роль трагического героя в водевиле! Зачем я допустил до этого? Разве не лучше было возвысить водевиль до трагедии? Разве я не мог драться с мужем Маргариты, как львы дерутся из-за львицы? А вместо того – вот: я сижу и размышляю – поеду ли я зимою в Петербург на новые нравственные пощечины, на новые подлости обмана и самообмана. Гуманность, цивилизация помешали?.. Да ведь хотеть-то крови они мне не мешали! Я и сейчас убежден, что убить было надо: ее ли, себя ли, его ли… надо! Просто не посмел. А не посмел – оттого, что плохо любил. Не женщину, а свою выдумку любил: права была Маргарита. И все мы – люди интеллигентного дела, люди нервов и мыслительной гимнастики – так любим. Наша любовь – что мертвая зыбь: она тебя измочалит, но ни утопить – не утопит, ни счастливо на берег не вынесет. Все – сверху. Вон как эти волны… Ишь как беспокойно суетятся они и лижут серые камни! А что в них? Только что красиво морщат лицо моря… Настоящая-то морская тайна – там, в глубине, где нет ни красивых морщин этих, ни беспокойства. Тишь, гладь, темь и… труп девушки, зарезанной за любовь. Альберто – убийца и спокоен. Я не убил – и мне ужасно скверно. Скверно не оттого, что не убил, – а от догадки, почему не убил.
Давно ли я – опытный, стареющий человек с сединою в волосах – горячился, выкрикивал монологи и ставил в них жизнь на карту за честную любовь… Слова! Слова! Слова!.. Что впереди меня и Маргариты? Цепь гнусных обманов, лжей и сотня-другая минут наслаждения. Мое „или-или“ разменялось на постыднейшие компромиссы, – мы условились, однако, что будем принимать эти компромиссы за любовь… фальшь – за лучшую правду жизни! Ха-ха!
Какое лицемерие!.. Как удобно раздобылись мы привилегией на безнаказанность тех самых грехов, за которые честные мужланы, вроде моего Альберто, расплачиваются поножовщиной.
„Я убил ее, чтобы она не сделалась потаскушкой“, – это прорычал „полускот“. „Приезжай, – я буду обнимать тебя за спиною мужа!“ – это мурлыкает женщина-кошка с тонкой нервной организацией и острым, образованным умом. И я – человек не из самых худших и тупых в своей среде – выслушал эту программу, – и ничего! Слушал и думал: „Гадко!“ Но как бы это ухитриться, чтобы примирить эту гадость со своею совестью, чтобы не претило извлекать удовольствие из связи с женщиной, которая не стоит, чтобы ее любили, а я все-таки ее без памяти люблю?
За что?
Альберто знал, за что любил Джулию: он ее добивался, как тигр добивается тигрицы…
А я не знаю. Потому что, кто же из нашей братьи решится на такое же откровенное признание? Как можно! Какое скотство! А высшие взгляды? А сочувствие душ? А общность интересов и идеалов?
У Альберто и ему подобных из любви рождается чувственность. У них она – дитя благородного происхождения; поэтому они ее и не стыдятся. Вон они – эти итальянские жены-простолюдинки, с дюжиной ребят, так гордые своим потомством, такими влюбленными глазами следящие за своими Джованни и Джузеппе, так наивно откровенные в своих супружеских ласках и тайнах. Чего ей стыдиться? Она любит, – она права.
У нас почти всегда, наоборот, из чувственности рождается любовь. Яблочко не далеко падает от яблоньки, – и мы стыдимся любви, как стыдимся ее матери. Мы стараемся декорировать ее всяческой идеализацией, но… „краски ветхие с годами спадают ветхой чешуей!..“ И, рано или поздно, нам приходится краснеть за свою любовь, – недоношенный плод отравленного воображения. Мы стараемся ее уважать, мы притворяемся, что ее уважаем, мы убеждаем себя и верим, наконец, что ее уважаем, – но заглушённый инстинкт правды сильнее нашей обманутой воли. И, когда такая любовь становится решающим моментом жизни или смерти, тайный голос должен шепнуть умному человеку: „Стоит ли?“
Мелкое чувство вызывает и мелкую борьбу. Пусть она будет и эффектною, и шумною! Все-таки это – не буря морского простора, которая в щепки ломает корабли. Это береговые волны: они нагрохочут на десятки верст, изроют песок, перебуравят камни на берегу, нашвыряют водорослей и раковин, может быть, и „чудный перл“ ненароком выбросят… и только. Волна набегает и разбивается. Чувство приходит и уходит. Одна волна покрывает другую. Минуту счастья смывает день страдания. Поцелуй окупается подлым обманом, за полосу позора платит полоса наслаждения… все волны и только волны!..
Любовь – ровесница смерти и сильна как смерть. Но это не про наши любви сказано… не про любви уверток и компромиссов: сказано про любовь-необходимость, а не про любовь-случайность!.. Разве что помириться на том, что и смерть, как любовь, будет для нас не более как волною: налетит невзначай и смоет нас против воли, сколько бы мы ни держались за мелконькую жизнь, за ее низкие истины, сдобренные нас возвышающим обманом.
Только эта последняя волна налетит и ударит совсем уж из неизвестного и непостижимого далека, как тогда, в бурю, налетел на меня и зарыл меня в водяную могилу седоголовый вал.
Волны… волны… все волны!»
Лештуков встал и тихо побрел домой в кротком, точно виноватом раздумье.
Назавтра он простился с Виареджио и, когда поезд мчал его мимо Пизанской падающей башни, он – именем друга-узника, затерянного где-то рядом, в тюрьме, – дал себе слово – в Петербург на зиму не ехать.
1893
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.