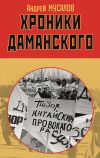Автор книги: Александр Архангельский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 2
Русакит и китарус
1
В 1949-м отец получил новое назначение – в тогдашнем духе, без особых затей. В деревушке Сибайпо, километрах в 200 от Пекина, проводили важный пленум ЦК с участием советской делегации во главе с Микояном. И после завершения пленума Мао просто подозвал отца и сообщил:
– Ли Лисань, ты в Харбин не вернешься, поедешь с нами в Пекин.
Отец, конечно, подчинился. Обустроился в Пекине и прислал в Харбин своего секретаря помогать нам в сборах. Ехали мы на спецпоезде для членов семей ответственных работников. С частью охраны, помощников. Прибыли ночью; вокзал тогда располагался в центре города, недалеко от главной площади Тяньаньмэнь. И почему-то я запомнила, как мы въезжаем в старый посольский квартал. Свет фар выхватывает деревья, еще полуголые, на которых только-только листочки распускаются…
Харбин был город сравнительно тихий, а Пекин наполнен криками, звонами. Поселили нас в старом городе: особнячки с прилегающим садиком, глухие стены, между ними узкие переулочки, которые на пекинском диалекте называются хутуны. И вот из этих переулочков всегда что-то доносилось. Идет старьевщик, стучит колотушкой, кричит. Идет точильщик, звенит металлическими связками, как кастаньетами, и поет…
Вскоре вслед за нами из Советского Союза в Пекин перебралась Прасковья Михайловна, моя бабушка русская, любимая. Это было очень важно, особенно для меня и моей сестры Аллы, потому что среда обитания резко изменилась: в Харбине и русские газеты выходили, и многочисленные клубы работали, и оперетта, которую мама очень любила, давала спектакли по-русски. А в Пекине русская диаспора была совсем маленькая, около тысячи человек, в основном бывших эмигрантов, которые не смогли найти себе пристанище за пределами Китая и в итоге приняли советские паспорта. (Советским специалистам тогда еще не позволяли брать с собой жен и детей.)
Бабушка привезла с собой некоторые старые фотографии на плотной бумаге, хорошего качества. Я спросила маму: “Почему на этих фотографиях все так хорошо одеты?” Мама как-то ушла от ответа, а бабушка все откровенно объяснила. Так я впервые узнала, что дедушка мой был помещиком, а мы – выходцами из дворян.
Единственный на весь Пекин русский клуб располагался неподалеку от советского консульства: несуразное длинное здание, видимо, когдатошняя казачья казарма, и при нем русская школа. Один в один сельская: огромная общая комната, два ряда – 1-й класс, два ряда – 2-й класс. Учились в ней дети, выросшие в Китае, и несколько монголов из посольства, которые ходили в русский детский сад в Улан-Баторе и поэтому говорили по-русски. Позже появился мальчик-румын из румынского представительства. В классе постарше была девочка-болгарка. А еще у нас имелся маленький индус, его отец работал охранником в посольстве Индии. Отец был в чалме, с бородой…
И клуб, и школа примыкали к главной площади Тяньаньмэнь, тогда еще совсем заброшенной. Однажды мы выбежали на соседний пустырь во время большой перемены, и вдруг из-за кустов выходит китайский солдатик. Строго спрашивает: кто такие, куда идете? А русские дети хоть и выросли в Китае, вообще не говорили по-китайски. Испугались, стали пятиться, а меня вытолкнули вперед. Ну, я к солдатикам привыкла, потому что в доме охрана была. Стала объяснять по-китайски, что мы тут в русской школе учимся. Он заулыбался: “Ничего, детки, всё хорошо. Но вы сюда не заходите. Возвращайтесь на урок”.
Москву я практически полностью забыла, вся моя жизнь была связана теперь с Китаем. Только лет в восемь – девять у нас образовалась компания детей от смешанных браков. И мы стали задумываться: а кто же мы такие? Попробовали называть себя русакиты, но выражение не прижилось, а позже придумали более подходящее слово – китарусы. И все встало на свои места. Вообще, китайская культура очень закрытая, чужаков здесь не любят. Даже в Харбине русских детей смешанной крови в нижних слоях общества пренебрежительно называли хуньсюэр (полукровки) или эрмаоцзы. “Чистопородных” русских именовали маоцзы, что значит “волосатик”. А эрмаоцзы… Даже не знаю, как перевести. Что-то вроде потомки волосатиков. Однако в партийной среде, воспитанной на связях с Советским Союзом и Коминтерном, смешанные семьи одобрялись. Как минимум в 1950-е. Многие русско-китайские семьи были знакомы еще с Москвы, с советских времен. Вместе проводили и праздники, и воскресенья, ездили огромными компаниями в парки.
2
С детьми старых эмигрантов я проучилась три с половиной года. А потом Хрущев разрешил советским специалистам брать с собой жен и детей, и при посольстве была создана новая школа. Мама, несмотря на свое помещичье происхождение, была очень советской – не только по гражданству, но и по взглядам и симпатиям. И тут же договорилась, что меня переведут в “правильное” заведение. Однако она не могла предположить, что в результате хрущевских реформ образования в посольской школе останется девятилетка. И мне в 1959-м придется на год уехать в Москву, чтобы там окончить 10-й класс и получить советский аттестат зрелости.
Отец согласился; я в сопровождении мамы отправилась в консульство за документами на въезд, и тут возникла двусмысленная ситуация. В Китае вплоть до 1980-х годов не было паспортов как таковых, и в консульстве мне предложили: “Вам исполнилось шестнадцать лет, давайте оформим советский паспорт”. Тут у меня начались сомнения, потому что в анкете была графа “Национальность”. А я же китаруска! Но ведь так не напишешь?
Я смотрю на маму, спрашиваю: “Мам, ну, что написать?”
Она говорит: “Раз берешь советский паспорт, пиши «русская»”.
Ну, я привыкла слушаться маму, написала “русская”, получила советские документы, но внутреннее чувство подсказывало – это не совсем то, что я есть.
В Москве – внешне – все складывалось хорошо, я даже восстановила прописку в 1-м Басманном, у вдовы маминого брата, тети Маруси. Сдала личное дело в ЦК ВЛКСМ (в советский комсомол я вступила еще в Пекине). Маме, наверное, казалось, что вот-вот исполнится ее мечта, я поступлю в МГУ. Отец как минимум не возражал, тем более что одна из моих старших сестер от его третьего китайского брака (до отъезда в Россию и знакомства с мамой он успел несколько раз жениться и развестись) тоже училась в Москве, окончила Институт стали и сплавов. Но что-то меня останавливало. Нет, конечно, я пребывала в святом неведении и не догадывалась, что уже начались политические трения между Мао и советским руководством. Просто чувствовала себя некомфортно в послесталинском, но внутренне еще не раскрепостившемся СССР, в советской коммунальной квартире. В своем китайском – коммунистическом, партийном! – доме я привыкла общаться с мамой и отцом, обсуждать любые те-мы – и литературные, и политические, и научные. А с прекрасной тетей Марусей, у которой было четыре класса образования, общих точек соприкосновения не нашлось. Она была верующая, причем жестковатая, а я избалованная, из светской семьи.
И в школе происходили какие-то странные вещи. Одна моя подружка, Лена Флейшгакер, вдруг перед поступлением благополучно стала Зотовой. Другую подружку звали Лида Зильбер, а перед подачей документов в университет она стала Голубенко. Я не могла понять, что происходит. Потому что в Китае нет проблемы еврейства, а значит, нет проблемы антисемитизма, тем более государственного. Даже наоборот, всегда было какое-то особое уважение к евреям: они умные, умеют делать деньги…
В общем, как-то меня потянуло домой.
И тут до меня окончательно дошло, что я не просто выбираю, где учиться, а решаю, кем мне в этой жизни быть – китаруской, собственно русской или только китаянкой. И если я возвращаюсь в Китай, то должна стать китаянкой. Я решила написать отцу по-китайски. Разговорный-то я знала неплохо, иероглифы распознавала, но сама изобразить не могла. Чтобы полностью овладеть иероглификой, нужно было сидеть и корпеть. А в Москве китайских книжек нету, только один большой русско-китайский словарь. Тогда я стала писать так: составляла фразу в уме по-китайски, потом переводила на русский, искала слова в словаре, копировала иероглифы. Коротенькое письмо, меньше чем на страницу, писала два часа. Адский труд, но все-таки я справилась.
Отец был очень рад – и письму, и решению вернуться в Пекин. Я тогда не знала, что как раз в 1959-м прошло закрытое совещание ЦК в горах Лушань, на котором разгромили так называемую антипартийную группу маршала Пэн Дэхуая, тогдашнего министра обороны. Заодно ему припаяли “тайные сношения с заграницей”. Якобы во время посещения Советского Союза он что-то лишнее рассказал Хрущеву. А в руководстве КПК был такой вредный человек по имени Кан Шэн, который знал отца еще по Москве. Серый кардинал, идеолог. Его называли потом в советской прессе “китайский Берия”, но он не Берия, он другой. Демон интриги, получавший, мне кажется, наслаждение не от власти как таковой, а просто от того, что может унизить, прижать. И он начал распространять слухи, что у Ли Лисаня тоже есть тайные сношения с заграницей – через жену, то есть мою маму. Неслучайно Ли Лисань свою дочку заранее отправил в Советский Союз! Поэтому, получив мое письмо, отец отправился с ним в орготдел ЦК, к одной “старой большевичке”, которая прошла через пытки, тюрьмы, не имела семьи и олицетворяла совесть партии. Но при всем том она была действительно очень честная. И отца поддержала. Это, конечно, не спасло его от последующих испытаний, но на какое-то время от него отстали.
А мама была очень огорчена моим решением, потому что оно разрушало ее мечту: Инночка окончит Московский университет, выйдет замуж, обустроится, можно будет в случае чего найти у нее приют… Не то чтобы мама рвалась из Китая, но отец был старше ее на четырнадцать лет, и она не могла не думать, что будет, если она переживет папу и останется одна. Как бы то ни было, от советского паспорта она откажется одной из последних. Папу вызывали на самый верх и прямым текстом подталкивали к разводу: ваша жена – советская гражданка, то есть пятая колонна, она вас до добра не доведет. Отец уверял, что за нее ручается, что она не сделает ничего плохого для китайского народа, “для нашей партии”. Но в 1962-м мама решила: “Продлю еще на два года, а дальше всё: приму китайское гражданство”. И приняла, о чем никогда не жалела, даже в тюрьме: “Если я делаю шаг, то уже не оглядываюсь”.
Меня она, однако, в 1960-м отговаривала: “Ес-ли ты сейчас откажешься от паспорта, то уже не восстановишь советское гражданство. И тебе будет очень сложно. Китайская жизнь совсем другая. И не жалуйся, если что. Я тебя предупреждала”. Я ответила: “Не буду жаловаться”. Ну, и сдала паспорт, следуя маминому же правилу: сказав “а”, говори и “б”.
3
В Пекине я опять испытала неприятное чувство – словно уезжала из одной страны, а вернулась в другую. Раньше в китайской столице были целые гостиничные городки, населенные советскими людьми, со своими клубами, кинопоказами. Маленький советский мир, частью которого я тоже себя ощущала. А тут я выхожу на улицу – никаких советских лиц. Пустые гостиницы, пустые клубы. Большая торговая улица вообще без покупателей, многие магазины, швейные салоны, парикмахерские ориентировались на русских, на советских, потому что у них были деньги, чего о нищем местном населении не скажешь.
Всюду осиротелость.
И у нас дома тоже как будто воздух выкачали. Дом наш всегда был гостеприимным, открытым, многолюдным, особенно по воскресеньям. Все время кто-то приходил – и к отцу по делам, и по-дружески. Вдруг стало как-то очень тихо: как я позже поняла, тучи уже сгустились. Пошли шепотки: с этими лучше не общаться, к ним лучше не ходить. Дом стал, как сейчас говорят, токсичный.
Родители не говорили со мной об этом, но я замечала, что оба какие-то напряженные, запираются в спальне, ведут там долгие беседы, мама иной раз выходит заплаканная, хотя она никогда не была слезливой.
Нет, не об этом я мечтала, уезжая из Москвы. Я мечтала, что опять попаду в прекрасную атмосферу своего детства, которую не могло разрушить ничто, даже некоторые странности окружающей жизни вроде “большого скачка”. Я эти странности старалась не оценивать, на них не зацикливаться, хотя маоцзэдуновский Китай жил от кампании к кампании. Все вдруг подхватывались и включались в “общее дело”. Например, когда началась корейская война и считалось, что американцы используют бактериологическое оружие, в ответ была запущена патриотическая санитарная кампания. Все стали разгребать мусорные свалки, чистить общественные туалеты. А в 1958-м прошла кампания за уничтожение “четырех зол”. Крысы, мухи, комары и воробьи. За мухами гонялись с мухобойками, собирали в коробочки и сдавали по счету. И награды получали. С тех пор в Китае паническое отношение к мухам. А несчастные воробьи были обвинены в том, что уничтожают зерно, которого не хватает людям. И чтобы китайцам было что есть, надо уничтожить воробьев. Конечно, наша советская школа не участвовала в этом. Но я помню, как все началось. Весь город с утра поднялся и вышел на улицы в составе организованных отрядов избивать воробьев. Кто-то их шугал снизу: палками, огромными шестами сгоняли с деревьев и крыш – Пекин был в основном одноэтажный. Воробьи мельтешили в воздухе, а как только пытались присесть, все начинали стучать в ведра, кастрюли, сковородки, вращали трещотки. В конце концов воробьи падали обессиленными и умирали. Садистская идея. Потом воробьев реабилитировали, но было поздно.
Кстати, в нынешнем Пекине практически нет ни мух, ни комаров.
4
Странное то было время. С одной стороны, советских людей вытесняли из Китая, связи слабели. С другой – мы по-прежнему выписывали целый ворох советских газет. “Правда”, “Известия”, “Комсомолка”. Еженедельники. Плюс все литературные журналы, включая “Юность”. У нас в просторной прихожей стояло огромное зеркало, типа венецианского. И перед ним столик, на котором изо дня в день нарастала кипа прессы. Самое интересное, что последняя подписка была оформлена на 1967-й (такая возможность сохранялась только для нас, привилегированных; “обычные” образованные китайцы давно ничего выписывать из СССР не могли). И потом, когда я выйду из тюрьмы, обнаружу, что газеты продолжали приносить в наше вынужденное отсутствие…
Но не буду забегать вперед. Продолжу о странностях начала 1960-х.
Вернувшись из Советского Союза, я записалась на подготовительные курсы при Пекинском университете и попала в замкнутый мир, живший по особым правилам; в этом мире преобладали иностранцы – индонезийцы, монголы, албанцы… Специально для них устраивали танцевальные вечера, которые я посещала с удовольствием. Вокруг – бедная китайская жизнь, подчиненная идеологии, а мы танцуем под современную музыку… Позже ко мне присоединилась младшая сестра Алла, которой было тогда всего четырнадцать или пятнадцать лет. У нас появилась общая подружка, Аллина одноклассница, получешка, полуангличанка. Мы втроем были не разлей вода и наивно думали, что весь Китай живет такой же вольной жизнью.
Но на следующий год все переменилось. Мне, уже получившей советский аттестат зрелости, пришлось снова поступить, на сей раз в китайскую школу, чтобы сдать ЕГЭ. (В Китае единый госэкзамен был с незапамятных времен, и без него не принимали в университеты.) Женская школа располагалась в старых зданиях маньчжурского дворца, и ее торжественная архитектура контрастировала с “антибуржуазными” установками. Я очень боялась, что одноклассницы узнают про мою домашнюю жизнь, слишком европеизированную, – и осудят. Так начало формироваться мое двоемирие. В общественном пространстве я пыталась быть такой, какую готово принять окружение, а в семье жила, как мне нравится, как я привыкла.
А еще меня повторно приняли в комсомол: советский опыт больше не засчитывался. На собрании нужно было главным образом искать и находить в себе что-то нехорошее. И произносить монолог на этические темы. Я послушала других, настроилась на взятую ими покаянную ноту и отлично справилась с задачей. Не подозревая, что мастерство самобичевания вскоре будет востребовано постоянно и повсеместно.
Но особенно остро я пережила свою раздвоенность, когда поступила в Бэйвай (так сокращенно называли Пекинский институт иностранных языков; теперь он получил статус университета). Мы пошли оформляться вместе с Аллой: я на первый курс, она на подготовительное отделение. Оделись, как привыкли, по-европейски, в юбочки, блузочки. У Аллы был хвост роскошный, ниже пояса, единственный такой на весь Пекин, наверное. Заходим на территорию кампуса – и заливаемся краской. Вокруг сплошные выходцы из бедноты. Латка на латке. Особенно мальчишки. Причем не только шорты залатанные: я впервые увидела заплаты на трикотажных теннисках и майках.
Нас распределили в общежитие, шесть человек в двенадцатиметровой комнате. Три двухъярусные кровати. Деревянные, без всяких пружинных матрасов. Матрасы, тоненькие, ватные, мы привозили с собой, одеяла тоже. Стол один на всех. И табуреточки, которых не хватало, так что я предпочитала сидеть на кровати.
Но самое главное – распорядок дня как в казарме. В шесть утра звонок – дзынь. Вскакиваешь. Немедленно вся группа выбегает на улицу, строится, и в любое время года, в любую погоду начинается утренняя зарядка. В столовую сначала ходили поодиночке, потом стали водить строем. Еда тоже сама простая. В Китае был голод после коммун, карточная система. Нам выдавали книжечки – мама это называла “заборные книжки”, я думала, что оно от слова “забор”, никак не могла понять, что от слова “забирать”. В них отмечалось, сколько ты съел риса за день и пампушек. Мясо два раза в неделю. Причем какое мясо… Спустя годы, уже после тюрьмы, мама начала рассказывать: “Инн, ты знаешь, мне же давали картошку нечищеную. А если иногда доставалось мясо, то, бывало, вместе с кожей, и прямо щетина торчала”. Говорю: “Мама, я же в институте все время так ела. И мясо такое, и картошку в кожуре”. Так что мне в тюрьме было привычнее, чем ей, проще приспособиться. (Но опять я забегаю вперед, не могу удержаться.)
Студентам был назначен паек – до 15 кило круп или муки в месяц, полкило в день. Мне-то хватало. Но я ведь дома рис почти не ела; поэтому девчонки мои удивлялись, когда я ограничивалась половинкой пиалы: “Ты чего, наедаешься?” – “Наедаюсь, мне больше не надо”. Зато, когда я приходила домой по субботам, мне хотелось мясца. Повар у нас очень добрый был, хороший старик, начинал четырнадцатилетним поваренком в Шанхае, в русском ресторане, прекрасно готовил. Позднее он работал у Буша-старшего, когда тот открыл американское представительство в Пекине. Однажды приезжаю на побывку, а мама говорит: “Наш повар хочет тебя побаловать, он сегодня рябчика приготовил”. Говорю: “Мам, я не хочу рябчика. Ну там же одни кости. Я свинку хочу”.
До поры до времени проблемы рядовых китайцев обходили наш дом стороной. Наша семья не прошла через самый страшный голод 1959–1960 годов. Единственное, стали получать нормированный сахар, которого, как маме казалось, теперь не хватало; она его очень любила. Но еще сохранялись специальные магазины для иностранцев, где можно было купить и сливочное масло, и французские булки. А был, конечно, и спецраспределитель для руководителей.
И тут возникла еще одна проблема, которая может показаться смешной, но деталь важная. Посуду в общежитие все приносили свою. Но у нас дома были только серебряные приборы. Мама купила их в русском эмигрантском магазине; ей очень нравилось, что на них выгравирован вензель “К”, – конечно, ложки не кишкинские, откуда им здесь взяться, но приятно. Но я же не могу с этой большой серебряной ложкой заявиться в пролетарскую среду, где все едят алюминиевыми китайскими ложечками. А пользоваться алюминиевой тоже не в состоянии – они так быстро облезали, становились зеленоватыми, противными. Как я в рот буду эту ложку совать? Я нашла выход. Взяла русскую деревянную ложку, расписную. И когда спрашивали: “А чего это ты такой ложкой ешь?” – я отвечала: “Такими ложками в Советском Союзе едят колхозники”. Ну, колхозники – совсем другое дело!
На меня даже приходили посмотреть; ложка меня прославила на весь институт.
5
Преподаватели были в основном китайские, но на испанском отделении (я выбрала его из-за восторга перед кубинской революцией) работала супружеская пара, из эмигрантов, что когда-то перебрались из Испании в Москву: они стали основателями китайской испанистики. А потом начали приглашать левых латиноамериканцев – мексиканцев, колумбийцев, чилийцев. То есть были носители языка. Среди студентов тоже, пусть и редко, попадались представители соцстран. Возникали разные сюжеты, и романтические, и драматические. В дружественном нам Пекинском университете, например, учился парень из ГДР. У него была китайская девушка, которую внезапно вызвали и отправили вглубь страны, в Синьцзян, не дав никому сообщить и запретив вступать в переписку. Он очень переживал, искал ее, но без толку. Был и другой случай, напрямую задевший нашу семью. К отцу пришел советский аспирант Евгений Синицын, на мой тогдашний взгляд, уже очень старый, я думаю, ему было двадцать семь – двадцать восемь. И рассказал, что у него девушка китайская, они уже решили пожениться, и вдруг им приказали прекратить общение: ее тоже куда-то отправляют. И говорит: “Товарищ Ли Лисань, я знаю, что у вас жена советская, вы не могли бы мне помочь? Вы же должны меня понять”. Ну, они поговорили. А когда Синицын ушел, отец сказал довольно мрачно: “Вы же понимаете, что я ничего не смогу для него сделать: как бы мне самому не запретили мой брак”.
Я услышала – и окаменела… Но постаралась спрятаться от тяжких мыслей.
Родители, конечно, понимали, что быть китаруской становится токсично. А я ни на что внимания не обращала, мы с Аллой были на особом положении, поэтому немножко наглые, самоуверенные. В Китае есть такая поговорка: новорожденный теленок тигра не боится. Поэтому мы общались с кем хотели, на танцы ходили и даже, когда папа уезжал в командировки, устраивали танцульки у нас дома: мама разрешала, при условии, что папа ничего не узнает. И когда кубинцы стали появляться в Китае – 1963-й, 1964 год, – мы их тоже стали приглашать. Против этих даже отец не возражал: они революционные, “свои”.
Но тут у нашей шестнадцатилетней Аллы начался роман с болгарином. Он был старше нее, красивый парень, по-русски говорил прекрасно, маме очень нравился. Кстати, его мать была членом ЦК Болгарской компартии. И наша мама все переживала: “Если бы не испортились отношения, если бы не этот Хрущев, как все было бы хорошо. Ляля бы вышла замуж, уехала бы в Болгарию и горя бы не знала”. Однако Болгария не Куба – это не страна свершающейся революции, но ближайший союзник СССР. То есть пока еще не полный враг, но уже под некоторым подозрением. В отличие от “правильных” кубинцев “ревизионист” Теодоси – так звали Лялиного ухажера – мог приходить лишь тайком, когда папы дома не было.
Долгое время тайну удавалось сохранять, но как-то раз мы всей компанией решили отправиться в Пекинский университет на танцы. Теодоси должен был заглянуть за нами. И вот звонок с улицы. Наш особняк стоял в глубине двора, и, чтобы впустить гостя, нужно было через открытое пространство пройти к воротам. Обычно отпирал вахтер, но тут отец почему-то пошел сам открывать. Думаю, надо его опередить. Подбегаю, а он уже отворяет большие ворота, предназначенные для проезда машины. За воротами – растерявшийся Теодоси, который знает, что ему нельзя показываться на глаза отцу. В полной растерянности он бормочет: “Нихао”. Вопреки всем ожиданиям отец просто кивнул, ни о чем не спросив. Мне показалось, он даже не осознал, что произошло. И я провела Теодоси в дом.
Причина отцовской невнимательности была проста и страшна: он уже был полностью погружен в свои политические неприятности. Его постоянная задумчивость была формой защиты от окружающей реальности.
И теперь от главки к главке, от эпизода к эпизоду о неприятностях будет все больше, а о привычных радостях все меньше, пока не наступит перелом и в политической, и в моей собственной жизни.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!