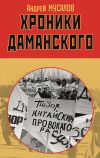Автор книги: Александр Архангельский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Глава 3
Государственные яблочки
1
К моменту поступления я уже немного знала испанский: целый год мы с Аллой занимались у кубинской журналистки (и бывшей актрисы) Марии Офелии. Она подарила нам кучу кубинских дамских журналов, поскольку, вопреки революционным порывам, Куба еще не прониклась духом социалистической морали и право на развлечения не отрицала. В итоге из обычной группы, начинавшей с нуля, я перевелась в более продвинутую, где учились выпускники спецшколы при нашем институте. Считалось, что это очень буржуазная, испорченная группа. Хотя на самом деле буржуазной и испорченной была только я. Но меня не трогали, я пока была защищена отцовской тенью, а в группе уже к концу семестра началась кампания проработки.
Одним из буржуазных преступлений, инкриминируемых студентам, стала вечеринка, которую они устроили по случаю европейского Нового года. Причем давным-давно, еще в школе. Они – о ужас! – поставили елочку. И не только пели испанские песни, не только танцевали, но и варили кофе. Кофе!!! Кошмар, испорченность! А несколько мальчишек, это уже в институте, удрали за пределы кампуса и заказали себе лапшу в трактире. Какой позор. Лапша – в трактире. Теперь им было велено обдумывать свою испорченность и публично каяться. Я сидела на собраниях и тихонечко думала насчет себя: “Что же тогда сделают со мной, если до меня доберутся?”
Собрания проходили по определенной схеме. Сначала кто-то произносил разгромный доклад. А потом каждому полагалось вспомнить по четко составленным пунктам: что вы делали неправильного, нехорошего, ошибочного. Проанализируйте свои мотивации и напишите самокритику. Я слушала покаянные выступления и взвешивала, что смогу написать, а чего не буду писать ни за что. Я же не стану рассказывать, что я каждое утро пью кофе дома. На протяжении стольких лет. А что признаю, в чем покаюсь? Начала припоминать какие-то совсем безобидные вещи. Например, в анкете был пункт: чем вы себе позволяете пользоваться бесплатно? Не присваивали ли госсобственность? Я вспомнила случай, как мы с мамой в курортном районе ходили по какому-то государственному саду. И я там подобрала упавшие яблочки, позволила себе их съесть. Государственные яблочки съела. Так и написала. Но, повторюсь, самое мучительное было решать, о чем можно написать, а о чем – табу.
Об отце и последствиях для него я пока еще не думала; мне казалось, что он вне подозрений.
2
Маме я об этом мало рассказывала. И не только потому, что мы как-то чаще и теснее общались в те годы с сестрой. Просто не хотелось тратить на это домашнее счастливое время. Дома было так хорошо, я все-все могла себе позволить, вплоть до империалистического кофе. Но отпускали нас так накоротко… По субботам в шестом часу вечера я садилась на велосипед (привезенный из Москвы, с ножным тормозом – у китайцев были только с ручным) и мчалась домой. А на другой день полвосьмого пополудни должна была явиться в институт. Специально для того, чтобы никто не отлынивал, как в армии, устраивали так называемые совместные самостоятельные занятия, по группам. Изволь явиться как штык и сидеть, уткнувшись в учебники. Я приезжала всегда самой последней, но входила точно по звонку. Взмыленная, но не нарушившая правила.
Между тем ситуация все ухудшалась. Нас как бы готовили к полному разрыву с СССР.
Была создана специальная группа спичрайтеров во главе с Кан Шэном, которого я считаю одним из главных виновников гибели отца. Они стали печатать статью за статьей: в Советском Союзе началась реставрация капитализма, возрождается класс буржуазии. Повторялся один и тот же вывод: нельзя допустить в Китае прихода к власти просоветских ревизионистов. Кстати, войны с настоящей буржуазией тогда не очень опасались, потому что Мао Цзэдун сказал: все империалисты – бумажные тигры. И атомная бомба – тоже бумажный тигр. А вот могущественный СССР…
А еще нас регулярно посылали в деревню. Как в Советском Союзе отправляли на картошку, так в Китае вывозили на пшеницу. Сначала ненадолго, на несколько дней, максимум на неделю. Потом, к 1965-му, начались политические кампании в деревне: чистка низовых организаций. И нас стали отправлять в статусе пропагандистских отрядов. Первый раз мы провели под Пекином около двух месяцев. Так и случилось первое мое соприкосновение с Китаем большинства.
Это тогда называлось “жизнь с крестьянами”. Питаться, естественно, нужно было вместе с ними, дома. Небольшими группками по два – три человека мы ходили сегодня к одному, завтра – к другому. В крестьянских домах был кан; в русском языке есть такое заимствованное слово: на Севере так называли что-то вроде огромной лежанки, под которую заводили дымоход для обогрева. Он полкомнаты занимал, этот кан. Ночью люди на нем спали, а днем складывали одеяла, ставили на кан маленький столик и за ним ели. Сидеть нужно было, сняв обувь и поджав ноги. Я этого не умела делать. Нас также инструктировали, чтобы мы не вели себя как баричи, а помогали по хозяйству. Но по хозяйству я тоже ничего не умела – ни готовить, ни стирать. Мне дома это не нужно было. Одежду – уже тогда! – у нас стирала машина. Пельмени лепил повар. А тут я всему научилась, с нуля.
Занимались мы, можно сказать, социологическими опросами. Но в классовом духе. Нужно было фиксировать классовое происхождение, социальное положение до 1949 года, как оно изменилось после 1949-го, имущественный статус и так далее. И еще записывать рассказы крестьян об их горькой жизни до освобождения, чтобы использовать в агитационных целях; тогда как раз проходила кампания “вспоминая горечи, ощущать сладость нынешней жизни”.
Но обычно получалось как. Мы приходим, просим крестьян постарше: “Поделитесь воспоминаниями о вашем горьком прошлом”. А они, чуть ли не повально, начинают вспоминать голод после создания народных коммун. Политинструктор объяснял нам: “Что с них взять, они несознательные. Вы должны их направлять в нужную сторону. Как только начнут жаловаться, прерывайте их: а вы лучше расскажите, как вы жили до 1949 года”.
А еще там был один как бы помещик. Ну, я помнила литературных помещиков у Льва Толстого, Тургенева, в русской классике. От бабушки слышала осторожные предания о нашем собственном помещичьем роде. А тут живой помещик! При этом китайский. И практически нищий. Дом у него был побольше, чем у соседей, но землю и все прочее имущество экспроприировали, и все пришло в такое запустение, что просто кошмар. Сплошная грязь, убогость, неустроенность. Он сам был молодой, лет сорока. Но такой весь забитый, жалкий. И в основном отмалчивался – видимо, не знал, что говорить, а о чем лучше не стоит…
Конечно, мы ходили на работу в поле. Это все потом мне тоже пригодилось.
3
На четвертом курсе мы поехали уже надолго, на полгода, и не под Пекин, а в дальнюю провинцию Шаньси – очень консервативную, кондовую. Жили у местных, спали с ними на одном кане; все освещение – пузырек из-под чернил, в нем масло, фитиль, слабый огонек, а вокруг кромешная тьма.
Нас инструктировали:
– Девочки, если решите помыть ноги, не выносите тазики во двор. Только в закрытом помещении. Считается неприличным, если женщина демонстрирует обнаженные ноги. И воду экономьте, район засушливый, колодцы и водоемы в жару пересохнут.
Мы старались экономить. Утром наливали воду в тазик, умывались без мыла; возвращались в обед, использовали ту же воду – и тоже без мыла. И только в конце дня позволяли себе с мылом помыться и воду выплеснуть.
И еда была скудная, хотя провинция считалась не самой голодной. Они там испокон веков пшеницу сеют. А тогда в Китае было так: что сеешь, то и ешь. То есть риса не было совсем, но была белая мука, что в Китае считалось очень хорошим уровнем. Впрочем, кроме муки – ничего. Мы ели лапшу три раза в день; к ней полагались лишь уксус и красный перец, слегка обжаренный в масле. Даже овощей почти не было, что уж говорить о мясе. Ну, можно было хотя бы набить желудок, и на том спасибо.
Однажды кто-то из преподавателей поехал по делам в Пекин. Мама узнала, решила передать посылку, подкормить любимую девочку, собрала сумку с продуктами. И эту сумку преподавательница передала нашему политинструктору. Он меня вызывает к себе и строго так говорит: “Инна, тут тебе мама прислала посылку. Но мы считаем, что это неправильно. Потому что ты здесь для того, чтобы приобщаться к жизни крестьян, а не для того, чтобы питаться отдельно от них. Поэтому мы на партсобрании всё обсудили и решили, что вернем посылку маме. А сумку бери, сумка хорошая, крепкая”. Я была очень расстроена, конечно. Прихожу домой – и обнаруживаю, что в уголок сумки завалился плавленый сырок “Дружба”. А плавленого сыра даже в Пекине не было – его иногда нам из Москвы присылали родственники.
Я смотрю – ах! Какое счастье.
До сих пор помню этот вкус.
Но я даже не посмела поделиться с подружкой, потому что она меня осудила бы. Потихонечку, по крошечному кусочку сама съела.
В поле, где мы работали с местными, не было скотины, лошадей. Во время осеннего сева бабы впрягались в сеялку, а мужик правил и шел сзади. Ну и мы, девчонки, впрягались. Воду носили издалека. Научились пользоваться коромыслом. Вроде бы все шло неплохо, но тут я (по доброй воле!) занялась своим собственным идейным перевоспитанием – начала искать, что во мне неправильно. Пришла к выводу, что ощущаю чуждость по отношению к этим крестьянам, не могу их понять, потому что заразилась буржуазным духом. Стала себя упрекать: ты обязана проникнуться их заботами, почувствовать их близкими, родными. Старайся, Инна. Но никак не получалось, и я испытывала гнетущее чувство.
Были и смешные эпизоды. Праздник Весны. Всех студентов свезли в уездный центр (мы были распределены по разным деревням), чтобы крестьяне могли спокойно попраздновать, не тратясь на наше угощение. Вечером нас собрали на политзанятия в уездном зале, где было электричество. Мы входим в этот зал, смотрим друг на друга и начинаем хохотать. Потому что все такие грязные, в копоти. У нас же не было ни зеркал, ни чистых водоемов, чтобы посмотреть на свое отражение.
В конце концов устроили нам баню. А бани были старые, еще японцы, видимо, строили. Большие, с общим бассейном. Сначала девчонок пустили в этот бассейн, потом мальчишек. Впервые за почти полгода мы помылись – какое счастье!
Трудно было. С другой стороны, мы же были воспитаны советской литературой. Я вспоминала шолоховских персонажей, мальчишки вообще воображали себя потенциальными жертвами революции. Кто-то говорил: “Вот я иду вечером по деревне и все думаю, что кулаки нас ненавидят. И смотрю по сторонам, как бы кто-нибудь чего-нибудь не замыслил”. Такой настрой был, героизация. Конечно, смешно, задним числом даже дико. С другой стороны, это поддерживало, наверное, как-то.
4
Я уже упоминала о своем двоемирии. На собраниях мы на полном серьезе каялись в буржуазных настроениях, в деревне я искренне упрекала себя за оторванность от народа. А дома, когда приходили кубинцы, танцевала с ними ча-ча-ча, одевалась по-западному. В 1990-е годы один французский журналист писал книгу о маме и попросил у нас фотографии. Посмотрел – и не поверил:
– Как? Это шестидесятые годы? Маоцзэдуновский Китай? Тут же девушки, одетые, как парижанки того времени!
Это не было общей чертой золотой молодежи; та же дочь Мао Цзэдуна, дети других “вождей” не имели ничего подобного. Их держали очень строго – я видела это своими глазами, потому что до какого-то момента отец был вхож в семью кормчего, мы бывали у Мао в гостях, я играла с его дочерью, мама давала уроки русского языка его жене Цзян Цин. Виделись на разных киносеансах, концертах закрытых… И все – все! – одинаково удивлялись, как много мы, дочери Ли Лисаня, можем себе позволить.
При этом идеологическая обработка моего поколения усиливалась, а вождизм нарастал. Раньше запрещалось аплодировать, когда появлялся Мао, а теперь его статьи, переведенные на испанский, стали включать в список текстов, обязательных для изучения у нас на факультете. Началась борьба против “облеченных властью, но идущих по капиталистическому пути”; даже было изобретено такое слово, которое на русский язык перевели уродливо: каппутисты. Говорят, что словцо появилось с подачи или одобрения все того же Кан Шэна, несколько лет проработавшего в Коминтерне и считавшего себя великим специалистом по русскому языку, которого он толком не знал.
В начале апреля 1966 года мы вернулись в Пекин в полной эйфории: наконец-то! Но когда я пересекла порог родного дома, сразу же заметила, что мама встревожена, а отец мрачен.
– Что случилось? – спрашиваю.
Мама отвечает:
– А ты не знаешь, что в стране происходит?!
Я не знала и знать не могла. Оказалось, на самом верху уже разоблачили новую антипартийную группировку, из четырех членов Политбюро. В публичное поле информация не просачивалась, но началась артподготовка, разгромные статьи по поводу различных деятелей культуры, писателей. А 16 мая 1966 года прошел расширенный пленум политбюро ЦК, от которого историки “культурной революции” отсчитывают ее начало, хотя само выражение появилось раньше, даже соответствующая комиссия уже была создана. Но одно дело теория, а другое – реальный процесс.
Отец в этом заседании уже не участвовал, хотя и был членом ЦК.
На майском заседании маршал Линь Бяо выступил со странной речью. Обрушился на мэра Пекина, еще на целый ряд людей. На основе его речи было принято знаменитое постановление, которое иначе как великим не называли: “Председатель Мао Цзэдун постоянно учит: без разрушения нет созидания. Разрушение – это критика, это революция. Разрушение требует выяснения истины, а выяснение истины и есть созидание. Прежде всего разрушение, а в самом разрушении заложено созидание”. Интересно, что Мао Цзэдуна на заседании тоже не было; осенью 1965-го он уехал из Пекина и находился в Ханчжоу. Как потом выяснилось, он считал, что мэр Пекина превратил столицу в свое независимое царство и уже не подчиняется ему. А жена Мао отсиживалась в Шанхае; неслучайно Шанхай потом стал оплотом леваков.
К тому времени я к политике стала относиться серьезней, читала китайские газеты, верила им. Но после пребывания в деревне хотелось иногда забыться, расслабиться. И вот прошло два – три дня после постановления; отец под вечер вернулся с работы. Мы с Аллой своими делами занимались, веселились. А он входит сумрачный, говорит жестко: “Инна, зайди ко мне в кабинет, я тебе там оставил бумажку на столе. Почитай”. Я пошла. Смотрю: документ под грифом “Секретно”. И в нем – прямым текстом – сообщается, что Китай стоит на грани реставрации капитализма. И знаменитая фраза о том, что есть китайские хрущевы, которые живут у нас под боком и которых нужно разоблачать, а иначе может произойти насильственный переворот, и тысячи, миллионы людей лишатся голов. Позже стало достоянием то самое выступление Линь Бяо, который истерически кричал, употребляя выражение “ку-де-да”. Я сначала не поняла. Что такое ку-де-да? Старинное китайское слово? Отец объяснил: это французское coup d’еtat, государственный переворот. И нужно, кричал Линь Бяо, чуть ли не переходя на мат, найти зачинщиков.
Вскоре в Пекинском университете стали осваивать опыт борьбы с каппутистами, перенося его из деревни в город, в учебные заведения. “Борьба против буржуазной линии в сфере образования”. Мнения разделились. Кто-то был за ректора, кто-то против – и называли его ревизионистом. В итоге противники ректора обратились напрямую к студенчеству, вывесив первое дацзыбао – рукописную газету большого формата с крупными иероглифами. Они заявляли, что ведут непримиримую борьбу за идеи революции и призывают всех подняться на защиту линии Мао Цзэдуна. Было ли это инспирировано сверху или стало результатом самодеятельности, но рассказывали, что Кан Шэн тут же позвонил Мао Цзэдуну в Ханчжоу и донес до него содержание дацзыбао. Тот приказал: “Немедленно распространить по всем каналам”.
Время года было теплое. Студенты высыпали на улицы. И я навсегда запомнила 31 мая. У нас в институте еще шли занятия, но уже ни шатко ни валко. Мы с подружкой отправились с утра в институтскую библиотеку – пока добирались, было тихо, а возвращаемся, уже всюду звучат репродукторы, по центральным радиоканалам зачитывают студенческое воззвание. Все застыли, как в игре “Замри, умри, воскресни”. И слушали. Потом мы узнали, что так происходило всюду, по всему Китаю. И студенты восприняли это как клич боевой трубы.
Несмотря на общее возбуждение, мы с девчонками отправились в общежитие и легли спать как ни в чем не бывало. А проснулись словно в другой стране. Весь кампус в движении. Кто-то несет новые дацзыбао, кто-то пытается их остановить, те более или менее жестко сопротивляются, расклеивают, развешивают. Студенты кучкуются, обсуждают, спорят. В общем, буря, взрыв студенческой энергии. Так что лично для меня “культурная революция” началась утром 1 июня 1966 года.
Ректорат все это вынужден был разрешать. Актовый зал превратился в пространство протеста. Натянули веревки, на которые можно было крепить огромные листы бумаги. И снаружи, вдоль всех аллей, тоже болтались дацзыбао. Полная демократия. Пиши что хочешь. Мне это вначале нравилось. Тем более что острие борьбы было направлено тогда против бюрократизма партийных структур и зажима конкретных студентов. Но тут же начались совершенно дурацкие вещи. В первые же дни стали выискивать скрытых контрреволюционеров. Например, я очень хорошо запомнила: отыскали какой-то литературный журнал с иллюстрацией, на которой, как положено, были изображены рабочий, солдат, крестьянка, а на обороте – портрет Мао. В дацзыбао бдительно предупреждали: “Товарищи, внимание! Если вы посмотрите иллюстрацию на просвет, то увидите, что дуло автомата направлено прямо на председателя Мао Цзэдуна. Это дело контрреволюционеров”.
Писали, повторюсь, от руки, потому что на весь университет была одна-единственная машинка в ректорате, размером с письменный стол. На клавиатуре умещались только самые употребительные иероглифы. А рядом стояло несколько запасных коробов со сменными иероглифами, которые нужно было добавлять по мере необходимости. И машинка ползла с черепашьей скоростью. Поэтому на ней печатали только самые ответственные документы. Зато быстро освоили технологию ротапринта, тиражировали тексты на восковке. Забегая вперед, скажу, что в нашем штабе я тоже печатала такие листовки, чувствуя себя героиней-революционеркой и вспоминая книжку “Мальчик из Уржума” про юного Кирова, который был подпольщиком в типографии.
Но все это была прелюдия, основное действие еще не началось, потому что Мао Цзэдун тихо сидел в Ханчжоу и выжидал. В Пекине он оставил на хозяйстве Лю Шаоци, председателя КНР, и Дэн Сяопина. Те решили взять в руки хаотичную студенческую массу, направить протест в нужное русло. Даже слетали к Мао, чтобы заручиться поддержкой. Но великий кормчий улыбнулся и ничего толком им не ответил. Сказал: “Ну, смотрите сами по ситуации”.
Тем не менее в университеты были присланы рабочие группы – из верных партийцев и надежных чиновников. Тут же начались столкновения. Ребята распалились, почувствовали себя революционерами, которым мешают ревизионисты. Начались открытые конфликты. Студенты поднимались по тревоге, строились в колонны, устраивали демонстрации внутри кампуса. Я не была среди активистов. Но и меня атмосфера революционной демократии воодушевляла.
Потом сверху (но явно не от Мао) было спущено указание слегка поприжать бунтарей. В течение трех или четырех недель нас не отпускали домой и подвергали, я бы сейчас сказала, изощренной морально-психологической пытке. Главных активистов, “зачинщиков” заставляли каяться, иезуитскими методами публично подводили к признанию, что они не просто выступили против партии, но имели контрреволюционные мотивы. Это было мучение и для тех, кто каялся, и для тех, кто наблюдал за ними.
В самом начале событий я поговорила с мамой и отцом. С мамой встретилась прямо в институте, заглянула к ней в преподавательскую – она работала в том же институте, где я училась. Она была в ужасе: “Инна, что происходит? Ты знаешь, у меня такое впечатление, что надвигается тридцать седьмой год”. Я: “Мам, что ты говоришь! Какие глупости. Это революция!” С отцом успела пообщаться дома – до того как перестали выпускать за проходную. Он, наоборот, считал, что я должна активно участвовать в революции. Как тогда говорили, “закаляться в бурях и ветрах”.
Но вскоре папины дела пошли значительно хуже. Числа 6–7 июня ему велели не ходить на службу и не выбираться в город, просто сидеть дома и думать о своих ошибках. Он попробовал попасть к первому секретарю Северного бюро ЦК; тот не захотел с ним встречаться. В общем, было много нехороших сигналов. Хотя его пока не трогали.
Но потом Мао Цзэдун вернулся в Пекин. Во второй половине июля. Заявил (это уже мы потом узнали), что Лю Шаоци, Дэн Сяопин и Пэн Чжэнь, мэр Пекина, допустили ошибку, направив рабочие группы для подавления студенческого движения. И произнес знаменитую фразу, которая потом появилась на первой полосе “Жэньминь жибао”: “Все, кто подавляет молодежное движение, плохо кончат”.
Только-только университетские активисты признали свою вину и стали готовиться к исключению и отправке в деревню – так в свое время поступили с “правыми элементами” – и вдруг такой резкий поворот. Разумеется, затухающее пламя снова взметнулось.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?