Текст книги "Жития убиенных художников"
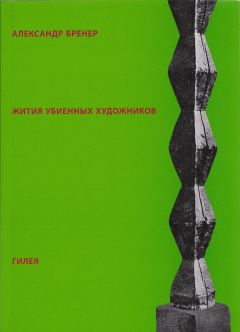
Автор книги: Александр Бренер
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
У Кушнера и после
В бытность мою ленинградским прохожим я писал стихи.
Единственным поэтом, которому я хотел показать эти опыты и получить совет, был Александр Семёнович Кушнер.
Я нашёл в справочнике его телефон, позвонил.
Он выслушал меня и велел отобрать и послать ему по почте десяток стихотворений.
Я выбрал и послал. По телефону мы договорились о встрече – у Кушнера на квартире.
Ненастным дождливым утром я пришёл к поэту в гости. Он жил возле Таврического сада в желтоватом сумеречном доме.
Я позвонил.
После некоторой задержки дверь открылась. Небольшой плотный человек с круглым лицом, в очках на широком носу, стоял передо мной в домашних туфлях. Мне показалось, что на нём лежит загар, хотя была ранняя питерская весна, мокрая.
Он был сама сдержанность, собранность.
Кажется, он даже не улыбнулся.
Он был похож на портреты Вяземского – одного из своих любимых поэтов. Я изучил потом стихи Вяземского – по наводке Кушнера. Спасибо, Александр Семёнович, вам за это! И за всё остальное!
Он провёл меня в свой рабочий кабинет.
Это был аскетический пенал, келья. Припоминаю кушетку, письменный стол в образцовом порядке, над столом – цветную репродукцию работы Кандинского.
Я по его приглашению сел. Он достал мои машинописные листки, полистал.
В комнате было тихо, а за окнами – дождь, деревья.
На столе стоял в рамке фотопортрет очень красивой женщины.
Кушнер говорил спокойно, неторопливо. Он объяснил, что по моим стихам трудно сказать, буду ли я поэтом.
У меня упало сердце – он был прав.
Я это и сам смутно знал, но он подтвердил моё ощущение. Вернее – утвердил.
Стихи свидетельствовали с восхитительной, математической точностью: мой дух ещё не прорезался.
Да, не прорезался Дух, Саша! Не прорезался!
И я не знаю, до сих пор не знаю, прорезался ли он – прорежется ли – вообще когда-либо!
Думаю, даже если и прорезался, то тут же и сгинул.
Как говорил Арто: может, я до сих пор не родился.
Ну а если Арто, сам Антонен Арто сомневался в своём настоящем, подлинном рождении, то я-то могу не сомневаться: нет, не родился, никогда.
Ходасевич говорит с абсолютной ясностью:
Мне каждый звук терзает слух,
И каждый луч глазам несносен.
Прорезываться начал дух,
Как зуб из-под припухших дёсен.
Да, Владислав Фелицианович, мой дух тоже начал прорезываться, начал!
Только он так никогда у меня и не прорезался!
А твой?
У Ходасевича дальше:
Прорежется – и сбросит прочь
Изношенную оболочку.
Тысячеокий – канет в ночь,
Не в эту серенькую ночку.
То есть дух прорезался – и сбежал!
Ушёл от меня, никчёмного…
Канул в ночь!
Как это точно.
А я останусь тут лежать —
Банкир, заколотый апашем, —
Руками рану зажимать,
Кричать и биться в мире вашем.
Вот это я тоже хорошо знаю: лежать… рану зажимать…
И биться, биться – в мире не моём, а вашем… Ха-ха-ха!
Как форель, которая так и не разбила лёд…
Ходасевич, милый…
Кушнер…
ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ.
Про себя-то я точно знаю, что никогда не родился.
А вот Мандельштам – да.
Если б я родился, то был бы сейчас не здесь. А на Луне, как любил говорить Шаламов.
И Кушнера, наверное, там бы не вспоминал.
«Я пришла к поэту в гости…»
Мне ведь не до конца нравятся кушнеровские стихи.
И я думаю, что, возможно, он тоже не до конца родился…
Только вылез так немножко из влагалища, посмотрел на свет…
Но это ведь ещё не рождение!
А кто? Кто – родился?
Блок?
Цветаева?
Вагинов?
Пушкин?
Лучше всего сказал сам Кушнер:
Иисус к рыбакам Галилеи,
А не к римлянам, скажем, пришёл
Во дворцы их, сады и аллеи:
Нищим духом видней ореол,
Да ещё при полуденном свете,
И провинция ближе столиц
К небесам: только лодки да сети,
Да мельканье порывистых птиц.
А с другой стороны, неужели
Ни Овидий Его, ни Катулл
Не заметили б, не разглядели,
Если б Он к ним навстречу шагнул?
Не заметили б, не разглядели,
Не пошли, спотыкаясь, за Ним, —
Слишком громко им, может быть, пели
Музы, слава мешала, как дым.
Вот это – стихи… Настоящие…
С рифмами…
Хорошо, прекрасно сделанные…
Обдуманные, нужные, нежные…
Вот бы и мне быть – НИЩИМ ДУХОМ!
Стерлиговцы
Мой алма-атинский друг живописец Хальфин наведывался в Ленинград, посещал там художников-стерлиговцев.
В группу входили Г. Зубков, М. Цэруш, Л. Астрейн, А. Кожин и другие, чьи имена я забыл.
Хальфин брал меня к ним в компанию.
Они частенько собирались в чистенькой мастерской Геннадия Зубкова на Петроградской.
Этот Зубков был весьма дисциплинированным, работящим, набившим руку, маломощным, довольно кондовым изготовителем слащавых, а иногда и совсем приторных имитаций серьёзного искусства.
Он не очень любил Хальфина, потому что тот мог стать конкурентом. Зубков уже вовсю продавал свои работы иностранцам, ездил за границу и выставлял себя там за наследника Малевича и Стерлигова. А Хальфин действительно любил живопись Стерлигова, и даже и не думал лепиться к стерлиговским находкам как потребитель и торгаш.
Хальфин мечтал стать великим художником, а Зубков хотел быть начальником, негласным паханом, руководителем группы, «тяжеловесом», наставником молодёжи и опекуном.
Скучно было смотреть на их сборища. Никто там никогда не орал, не раздевался догола, не напивался, не пел народных или советских песен, не дрался под столом, как Поллок с Сикейросом, не угрожал дать плюху, как Фрэнсис Бэкон, не разрушал холсты, как Мунк, не отрезал ухо, как Ван Гог, не убегал в Полинезию, как Гоген, не оскорблял бога, как Арто, не спорил о великом, как сюрреалисты, не выхватывал стул из-под жопы соседа, как распоясавшийся школьник, не хохотал до упаду.
Стерлиговцы были похожи на школьных учителей, занудных и строгих учителишек, которые вызубрили основы своей науки, и долбят эти основы, всю жизнь долбят и долбят. Сами они не сделали никаких открытий и никогда не вышли даже из стен класса. Сами они не исследователи, не экспериментаторы, не спятившие алхимики, не искатели истины, а просто учителишки, фараончики прописной догмы. Дни напролёт рисуют они на школьной доске всё те же значки, тот же алфавит. Да ещё орут на молодёжь и ставят ей двойки! И нет в них никакого полёта, никакого желания плюнуть на свои занятия, на эту вечную зубрёжку, и сбежать на природу к совам и волкам.
Это были очень приличные люди, внутри которых бушевали чёрт знает какие страсти-мордасти: зависть, ревность, униженность, поползновения к богу, влечения к чёрту, непомерные амбиции, страх кромешный, духовная похоть, бессилие, ужасающее уныние, слабохарактерность, суетность, ожесточённость, пустая моралистичность…
Одного в них не было: созерцательности и покоя. А ведь они об этом только и хлопотали, только об этом и вещали.
Я, конечно, не так представлял себе художников. Я представлял их по-платоновски: как опасных и неуправляемых бестий, которые своими вымыслами и соблазнительными образами совращают невинные души молодёжи и вселяют в них неоправданные надежды, зовут граждан к разрушительным наслаждениям. Я представлял художников как одержимых видениями вдохновенных маньяков, которые своими творениями и самим своим существованием угрожают спокойствию государства, деревни или полиса…
Или я представлял себе художников по-архилоховски: как одиноких, натыкающихся друг на друга воинов, разгуливающих со своими копьями и вечно с этими копьями беседующих, шепчущихся, сочиняющих стихи, жёсткие и грозные, как каменья, но также нежные и сладостные, как соболиные шкурки, и понимающих своё искусство как часть военной игры во имя справедливости и свободы, а заодно и как вызов всему немощному и лицемерному…
Или я понимал художников по-бенвенуточеллиниевски: как мастеров, изощрившихся в своём ремесле, а затем это ремесло презревших ради приключений и опасных авантюр, которые сопровождаются припадками гнева и вспышками холодного безумия, что, разумеется, чревато самыми непредсказуемыми последствиями…
Или я представлял художников по-караваджовски: как плебеев, которые не терпят и малейшего унижения и свирепеют от любого покушения на их независимость, которые полагаются только на самих себя и не доверяют даже земле под своими ногами, ибо знают, что землетрясения – это отнюдь не какой-то там гнев божий, а свойство природы и материи, и презирают всяческие суеверия, досужие байки и интриги знати, а также и ложные приличия, и готовы пойти на край света и рисковать своей жизнью, обороняя свои утехи и позиции, удовольствия и принципы…
Или я представлял художников по-вильямблейковски: как гордых и ласковых изгоев, которые разочаровались в своих продажных и мелких коллегах (и вообще в своих злобных и тупых современниках), и предпочли одиночество и изоляцию, но которые всё же сумели вопреки всем невзгодам сохранить душевную чистоту, детскую непосредственность и верность высокому искусству, и завоевали благодаря своей твёрдости любовь и верность нежной подруги, с которой они проводят дни в бедности, зато и в радости, даже в блаженстве!..
Или я представлял себе художников по-вангоговски: как отчаянную, но благословенную попытку единения заброшенного в мир существа с окружающими его природными и космическими силами – как любовное объятие бродяги с миром: с его звёздами, кипарисами, ирисами, человеческими тварями, полями, травами, подсолнухами, солнцами, ветрами, цикадами и черепичными домиками…
Или я представлял себе художников по-модильяниевски: как нищий праздник молодости и любовного желания в парижской мастерской – праздник с бутылкой вина, ковригой хлеба и прекрасной обнажённой женщиной, чьи бёдра ждут твоего прикосновения, и чьи продрогшие члены тянутся после сеанса живописи к тебе, и ты падаешь с ней в холодную, нечистую, богемную постель – и согреваешься, и забываешь обо всех невзгодах, о холоде и о голоде, и трепещешь, и переполняешься горячим блаженством…
Или я представлял себе художника по-китайски: как маленького тихого человечка, с куском бумаги, кистью и бутылочкой туши, который уходит ранним утром из населённого пункта – как можно дальше, чтобы не слышать ни лай собак, ни скрип телег, – и удаляется, растворяется в холмистом пейзаже, а потом вдруг обретается у подножия зелёной каменистой горы, и двумя-тремя ударами кисти ухитряется передать всю красоту, всю сущность этой чудесной горы, а заодно и бездонного неба вокруг, так что кузнечики, жуки и бабочки слетаются и сбегаются, чтобы посмотреть на эти невиданные пятна и линии, а художник всё улыбается, улыбается, и смотрит на гору, на небо, на бабочку, и забывает вдруг о себе и своей работе, и отдаётся чистому и бескорыстному созерцанию, и сам становится этой бабочкой, и улетает на хрупких крыльях неизвестно куда, неизвестно зачем…
Однако ничего из всего этого я не нашёл на собраниях стерлиговцев, и потому я в скором времени перестал их посещать.
Гимн
В ленинградском пединституте имени Герцена слушал я взволнованные, но строгие речи С.С. Аверинцева.
Великий филолог ронял, как сладчайшие ягоды, как капли живой воды имена русских поэтов: Вячеслав Иванов, Блок, Ходасевич, Цветаева, Кузмин, Мандельштам…
Аудитория была полна: то ли пять тысяч паломников, взалкавших в пустыне, то ли публика, пришедшая дышать одним воздухом со своим кумиром…
Но он знал, что делает: у него были две рыбы и пять хлебов, как когда-то у его возлюбленного равви, и он мог напитать ими всех.
И он ими не злоупотреблял, не кудесничал.
Он знал – он монах, а не волхв, не пророк, не учитель.
Для меня это имя – Сергей Сергеевич Аверинцев – звучит совершенно как удар ночного камешка в окно: проснись!
Ещё это имя – Сергей Сергеевич Аверинцев – звучит для меня как строгое напоминанье: не трепли языком своим зря!
А я много болтаю во сне – и много сплю наяву.
Речь Сергея Аверинцева была совершеннейшим акробатическим актом: балансированием между Пафосом и Логосом, пробежкой по тончайшей проволоке Этоса.
И можно было видеть, какие он делает, произнося слова, усилия, как он встречает сопротивление воздуха. Воздух ведь устал от вечных слов, слов, слов человеческих. Воздух, как Феликс Фенеон или исихасты, хочет умного безмолвия. Воздух ведает, что радость и мудрость не в глаголах умножающихся, а в тишине и дуновении ветерка. Но в случае С.С. Аверинцева можно было следить не только за его словами и смыслами, но и за самим дыханием.
Его источник был: Иисус Христос, Слово, происшедшее из молчания…
А послушайте вы людей сейчас: что за клёкот стоит, что за кудахтанье, что за речитативы, сопровождаемые скрежетом зубовным, что за памятозлобие в каждом словечке, и куда подевались все смыслы и ритмы, да и слова превратились вдруг в ошмётки и огрызки какие-то…
А он, Аверинцев, владел искусством риторики, как, впрочем, и искусством понимания того, о чём он так искусно говорил.
И помимо всего прочего он был существом нездешней нежности.
А вокруг царила ох какая грубость, хамство и маета, и морок, и порывы, никнущие втуне, да немощь без всякой меры, да конфуз без предела, да срам и стыд, занавесивший лица, да усталость, да злоба.
А он говорил в лицо всему этому – нужные и нежные здравые вещи.
Рыцарем ясным в доспехах блестящих и обнажённой бесстрашною девой Сергей Аверинцев был.
Доспехи его назывались – мысль.
В сердце своём, под доспехами, был он – чистая дева.
Никогда я не видывал – и вряд ли увижу – столь нежного к другим и столь строгого к себе существа.
И таких умных людей тоже уже не бывает.
Но как сказал Жиль Делёз, ум – слишком мало.
Мысль – вот что необходимо.
Мысль – как у Агамбена. Или как у Шаламова.
И тогда, в Ленинграде, я увидел: мыслящий тростник – вот он.
Мысль Аверинцева была совершенно особенной – женственно-нежной, хрупкой, интонационной. И одновременно – твёрдой и ясной.
Возможно, он был последним из русских – тех русских, что дали Рублёва, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Хлебникова, Мандельштама, Шаламова и Тарковского.
Эти русские мыслили не головой, а всем своим тростниковым телом – колеблющимся, сгибающимся…
Ибо ветры вокруг них дули страшные!
Но они мыслили, колебались, снова мыслили…
Они не дали каких-то новых идей или концептов – они были мыслящей плотью.
Я помню, как говорил Аверинцев: «Авангардисты? Но они ведь всё сдали».
Я помню, как произнёс он: «Ходасевич? Он был слишком разумен».
Я помню, как он сказал: «Мандельштам? Лучший из лучших».
У С.С. Аверинцева каждое слово было – слово-прикосновенье.
И такого я, кажется, больше не видывал.
Ох, слишком, слишком уж много времени провёл я с художниками, которые, действительно, хоть и не были авангардистами, но всё могли сдать, всё сбрендить, всё сболтнуть, всё, что угодно, сказать, а потом взять обратно, всё переврать, всё языком опоганить, все клятвы дать, а потом от них откреститься… И вещали, и орали что-то, сами не ведая что, и клеветали, и журналиствовали, и теоретничали, и науськивали, и пасть разевали как бегемоты, и пускали слюнявые струи, и мололи чушь несусветную, и полемизировали до одури, и витийствовали, и слово держали за грош…
Но Сергей Аверинцев на них не прикрикнул. Не встал во весь рост и не гаркнул «цыц!»… Ведь он не был ни футуристом, ни дадаистом… Не был он крикуном и горланом… И не был оглашателем приговоров суровых… И не был вещателем истин безгрешных… И интеллектуальным боссом он тоже не стал, не возглавил отдел пропаганды… И просветителем тёмных масс не заделался… И не благовестил, не кадил словом священным… И не пожелал стать советчиком патриарха… И оратором на стогнах града не появился… И популярным телеведущим не сделался…
Нет, не полетело чистое слово его над толпой…
Вместо этого он предпочёл филологию – любовь многотрудную к слову. Сёстры – тяжесть и нежность, и твёрдость, внимание и скрупулёзность – вот их он и предпочёл. Предпочёл тихую жизнь учёного в Вене. Предпочёл раздумья, статьи и стихи. Предпочёл держаться подальше от шума, рёва и храпа.
И этим он дал лучший совет всем художникам.
Человек умирает. Песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на чёрных носилках несут.
Почему бы и вам не так – потрудиться над любимым предметом?
Живите, работайте – тихо, с вниманьем.
Работайте – нежно.
Работайте – с мыслью.
Михаил Гробман, или Аполлон среди блатных
Первым в моей жизни «известным художником», «признанным художником», «международным художником» был Михаил Яковлевич Гробман, сначала московский, а с 1971 года израильский художник, проживающий в Тель-Авиве. Встретился я с ним при следующих обстоятельствах.
Кончался Советский Союз. Смутный дух, пришедший с Запада, из Вермонта, на волнах «Голоса Америки» и русской службы Би-би-си, а заодно и из недр Кремля и Лубянской площади, будоражил воздух, переворачивал мозги.
Это был грандиозный «мусорный ветер», как сказал Платонов и группа «Крематорий»:
Мусорный ветер, дым из трубы,
Плач природы, смех сатаны,
А всё оттого, что мы
Любили ловить ветра
И разбрасывать камни.
В надежде на счастливые перемены советские люди бросали насиженные места в Киеве и Ташкенте, Кишинёве и Баку, и отправлялись в голландское посольство в Москве или на станцию метро «Баррикадная», перелетали в Вену, в Лод, на Манхэттен. Я тоже хотел в Нью-Йорк, но в посольстве США мне показали шиш, вот я и приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Хорошо, если б я был ласточкой, перелетающей в тёплые края, где бедуинские холмы и сытные финиковые пальмы, – но я ею не был. Ни журавлём, ни ласточкой.
А кем?
Чёртиком с крылышками.
Альбом с работами Гробмана я листал в Ленинграде, в мастерской стерлиговца Зубкова. Вещи в этом альбоме мне понравились, и я вообразил, что Гробман – анахронистический дадаист, весёлый и умный проказник, играющий русскими и еврейскими письменами и образами. Вот мне и захотелось с ним познакомиться и подружиться.
В Израиле, сойдя с самолёта, я удивился: это был не Запад, не страна святых чудес – скорее уж Сухуми. Ни манны небесной, ни обожжённой солнцем Суламифи, ни криков Авессалома, ни кущ Небесного Иерусалима. Настоящий Ерушалайм, в котором я поселился, поразил меня провинциальной враждебностью и желанием облапошить при первой возможности. Здесь я, интеллигентский сынок и диванный романтик, впервые понюхал нужду и рабское унижение – запашок чернорабочего, душок эмигранта.
В аэропорту мне выдали удостоверение личности и кое-какие шекели. Я подумал, что я – миллионер. Сел в такси и попросил шофёра отвезти нас в столицу, в отель. Там мы с женой и сыном переночевали в просторном номере в каменной башне, а на следующее утро я сообразил, что четверть моих шекелей вылетела в трубу.
Пришлось искать квартиру – хлебнуть клистиру.
Банка джема на рынке стоила недорого, но это был не джем, не повидло, а красный переслащённый крахмал, подкрашенный студень. Очень невкусно после домашнего абрикосового варенья.
Но платить за всякий клистир – надо. Мы вселились в пустую халупу, пили чай из банок, жрали хлеб с маргарином – в дверь позвонила соседка. Оказалось, это сионистка с Волги, а в Израиле уже двадцать лет. Пришла нас поздравить с возвращением на историческую родину! Но как-то сразу смекнула, что жена моя – русская, да и сам я – полукровка, не чистый иудей, а дряньцо. Спросила, обрезан ли наш сынок. При получении отрицательного ответа пришла в неописуемый ужас. На прощание посоветовала как можно экономнее пользоваться душем и унитазом – в Израиле мало воды, она на вес золота!
Деньги, выданные в Бен-Гурионе, исчезли быстрее рулона туалетной бумаги.
Как быть?
Мне ничего не оставалось, как наняться поломойкой в ешиву – религиозное училище, где студенты толкуют Талмуд. Там было странно, душно: каменные влажные полы, закупоренные пыльные окна, стрекочущие вентиляторы, мятые книги на столах и стульях, пейсы студентов, их смех, чёрные одежды и шорох. Тяжкой шваброй мыл я библиотеку и синагогу ешивы, подмывал комнатёнки студентов, драил коридоры и столовую. Иногда юноши забавы ради швыряли в меня леденцом или шоколадкой, предлагали яблоко, пряник…
Штетл!
Мой непосредственный начальник оказался настоящим Карабасом-Барабасом: лоснящийся, как таракан, ходил он за мной по пятам и отслеживал, не халтурю ли я. Пальцем указывал, где мыть, чтобы щели в полу сияли. Совал мне в руку щётку, губку. И чтоб ползал я на коленях! И это я-то – белоручка, бездельник, читатель Флобера, профессорский внучек…
И всё-таки – терзаемый, но не растерзанный – я не скрежетал зубами, не стыл, не гадал по ночам, как и что со мной приключилось. Зачем? Почему? Эти вопросы не вставали в отношении бегства и катастрофы. Я просто ждал, терпел, перемогался. И хотел слабенькой своей волей, легкомысленной башкой, чтобы кто-нибудь рассказал мне тайну моей странной жизни. Куда ведёт эта ниточка? Какая Ариадна за ней? Что там в темноте?
Но кто и когда расскажет? Габриэль Гарсиа Маркес? Микеланджело Антониони? Фолкнер? Сэмюэл Беккет? Или, может, Михаил Гробман – художник-нонконформист?!
Израиль, да и не только Израиль, отличается тем, что там все – начальники, все поголовно. Даже компания из двух человек имеет старшего и младшего, надзирателя и подчинённого. У надзирателя – палка или автомат Узи, компьютер или волшебная палочка, заветное слово или волосатый кулак. А у поднадзорного? Послушание, повиновение, кляп во рту.
В этой иерусалимской ешиве моего послушания хватило ровно на две недели – наивысший рекорд беспросветного послушания в моём случае. А потом? Мокрую швабру – об стену, входной дверью – хлоп!
Живёшь ведь не с мебелью, не в квартире с родными, не в таком-то городе и не в этой вот стране – живёшь с пустыми надеждами. А колесо судьбы – неисповедимо. Пока нет любви.
Но я всегда кого-то или что-то любил!
В жёлтой телефонной книге с тонкими, как в Библии, страницами нашёл я ветхозаветное имя Михаила Гробмана и позвонил ему из уличной будки. Ласковым, низким, архангельским голосом призвал он меня к себе – в пылающий город Тель-Авив, что стоит на зыбучих песках, на берегу пересоленного Средиземного моря, под пыльными и поникшими финиковыми пальмами.
И всё-таки после Иерусалима – этой норы в горах – я в Тель-Авиве кайфанул. Тут в кафе сидели европейцы, почти как в Ницце или Брайтоне, а я ведь из СССР убежал, чтоб посидеть в кафе. Тут на пляже кричали загорелые отроковицы, а в бадминтон играли атлетические старцы. Тут я на набережной съел шварму в пите, запил кока-колой из банки и позвонил в дверь великого художника М.Я. Гробмана.
Открыла его жена – Ирина Врубель-Голубкина.
Я вошёл – как неофит к мистагогу.
У них пахло специфическим бытом художественных дельцов в вечном транзите, и они были людьми правильных, хозяйственных жестов. Это значит, что вели они себя в этот день со мной «гостеприимно», «по-человечески», угощали селёдкой, водкой, маслинами… Расспрашивали о моём происхождении… А потом предложили написать материал для их русскоязычной газеты «Бег времени».
Это была первая пара в длинном ряду дельцов-супругов, с которыми я столкнулся в жизни (последней оказалась Оксана Шалыгина и Пётр Павленский). Жизнь их была вечным – нервным и сладким – гешефтом. Квартира служила им штаб-квартирой, полуофисом, полуночлежкой – странная комбинация, но ведь всё странно на этом свете, во владеньях Плутона.
Существование Кандида полно сюрпризов, а я был Кандидом – в поисках Артюра Рембо и Эльдорадо. Израиль, однако, не походил на Эльдорадо, и Гробман тоже оказался не Артюром, а матёрым, слегка уставшим, но всё ещё нахрапистым художником в тошной гонке за своим местом под солнцем – в истории искусства, в профессиональном мире, среди таких же дельцов. Он был умелым живописцем, но без подлинного видения, без одержимости, без идеи. У него оказалась слишком слабая голова для большого художника. Зато он был ещё и литератором, коллекционером, редактором газеты, организатором, собаководом, сионистом, бывшим солдатом армии Израиля, болтуном, сувереном, балагуром, боссом, пропагандистом, рифмоплётом, любящим отцом, патриархом, мужем, хозяином. А Ирина Врубель-Голубкина – редакторшей, организаторшей, музой, телохранительницей, жрицей, покровительницей, хозяйкой (салона, дома, газеты), бухгалтером, домоправительницей, матроной, автором, законодательницей, судией, вершительницей судеб, психеей. В их существовании одна роль плавно переходила в другую – в зависимости от исторических обстоятельств. Сейчас, то есть в начале 90-х годов, обстоятельства сложились так, что роль художника и его соратницы была на время оттеснена ролью владельцев русскоязычной газетки. Об Израиль стукнулась громадная волна советских интеллигентов, и супруги Гробманы их приваживали, ухаживали, рассматривали, оценивали, сортировали, пристраивали, приструнивали, наставляли, пришпиливали. Им нужно было сварганить свой собственный общественный рупор-газетёнку, стать силушкой в новой культурной среде, осуществить очередной проектик. С этим прицелом они меня и кормили селёдкой.
В тот день всё у них шло гладко: я размяк, опупел, превратился в послушного Буратино, был очарован их расположением, восхищён картиной Гробмана, висящей в столовой, одурманен и одурачен. Засиделся у них допоздна, так что пропустил последний автобус в Иерусалим. Однако ночевать они меня не оставили, не предложили, и я до рассвета провалялся на скамейке под лавровым кустом вблизи Средиземного моря. Но я на них за это не обиделся.
С того дня началась моя работа в гробмановском еженедельнике «Бег времени». Как сказал мой любимый Рембо: «Перо ничем не лучше плуга». Точно!
Я писал всякие статьи, рецензии, очерки – строчил их в Иерусалиме и привозил в Тель-Авив, на хазу Гробманов. Компьютеров тогда ещё поблизости не было, я кропал от руки. Они печатали все мои материалы, иногда даже по два в одном номере. Я стал известен русскому Израилю – мои статьи ненавидели и любили, на моё имя приходили читательские отзывы. О чём я писал? Да обо всём, что знал и чего не знал: об Энди Уорхоле и Сергее Калмыкове, о тель-авивских кафе и Андрее Белом, о бездомных на скамейках и об Иосифе Бродском, о Йозефе Бойсе и о розах в роллс-ройсе, об эмигрантах на пляже и об уличных кошках…
Каждую неделю я торчал у Гробманов, пил кока-колу и знакомился с кем-нибудь из их интеллигентского улова. Главной рыбкой стал Александр Гольдштейн – обещающий литератор из Баку. На него у Гробманов была большущая ставка, они его нежно обхаживали. Сиживал здесь и поэт Владимир Тарасов, и художник Борис Юхвец, и концептуалист Илья Зунделевич, и их знакомая Ольга Медведева, и многие-многие другие. Михаил Яковлевич Гробман и жена его Ирина Врубель-Голубкина надеялись сколотить на своей кухне отряд лояльных и трудоспособных авторов, предпочтительно рабов, которые могли бы обслуживать их интересы и обогащать их кругозор. Я, между прочим, пообещал Гробману написать о нём целую книгу-монографию, ведь живопись его мне действительно нравилась. Ну а он жаждал внимания, считал себя недооценённым.
В сущности, ничего особенного тут не было: обычная для художника ярмарка тщеславия, жадность, ловля поклонников, желание пьедестала, самоупоение, забота о месте в культурной памяти, суетность, страх отстать и остаться на задворках истории – эти и прочие мелкие мерзости, присущие данной социальной группе – с её убогой жаждой признания и издёрганной психологией. Привычные, заурядные пошлости.
Но меня всё это стало не то чтобы раздражать, а просто осточертело. К этому времени мы с женой уже переселились в Тель-Авив – по настоянию Гробманов. Они сняли в центре города большую квартиру под редакцию своей газеты. Платить за всё помещение им не хотелось – вот они и выделили нам полторы комнаты. Для них это было вдвойне практично, ибо мы по уговору должны были квартиру мыть, прибирать. И наконец, я теперь всегда был у них под рукой, перед глазами. Боссы обожают контроль.
Но нет, я обманул их ожидания. Стал пропадать – ненавидел эту редакцию, этот офис. Валялся целыми днями на пляже, заплывал подальше в море, шатался по окраинам. Тель-Авив мне нравился куда больше Ерушалайма: запущенный парк Яркон, заброшенные индустриальные зоны, порт Яффы, мастерские и лавки южного Тель-Авива, кафе…
Я сошёлся и подружился с Гришей Блюгером и его другом – Романом Баембаевым.
Гриша приехал в Израиль из Москвы подростком, в семидесятые. Он закончил иерусалимскую художественную академию Бецалель, рисовал. В «Беге времени» он занимался оформлением газеты. В мирке Гробманов Блюгер был посторонним, молчаливым соглядатаем. В нём редкое внутреннее спокойствие совмещалось с хрупкостью, нервностью. Он не был типичным советским репатриантом. Сам по себе он был. К нему кошки приставали на улице, он приглашал их домой. Умел и любил готовить еду – и для кошек, и для людей. Занимался линогравюрой, ксилографией. Однажды он устроил однодневную выставку в подъезде жилого дома. Там в его эстампы можно было стрелять из рогатки. Сделаешь дырку – эстамп твой. Это были чудесные маленькие картинки с кулинарными советами, с изображением фруктов, овощей.
Роман Баембаев попал в Израиль мальчиком. Учился в Хайфе в Технионе, но инженером не стал. Когда мы познакомились, он нигде не работал и не хотел, жил на какие-то сбережения, увиливал от армии, в которую его время от времени призывали. Он не вписывался ни в одну тусовку, занятие, социальную категорию. Писал что-то в стол на иврите, а иногда по-русски, готовил салаты по-арабски, беспрерывно курил американские сигареты и пил турецкий кофе. Он хотел бы наслаждаться, но не знал – как, не нашёл ещё способа.
Втроём мы завтракали у Гриши, спасались от жары, пили арак, совершали вылазки в близлежащие городки, беседовали о кино и книгах. Мои новые друзья не были ни сионистами, ни националистами, ни профессионалами, ни семейными тварями. Гробман с супругой постоянно болтали о мощи израильской армии, о своих преуспевающих детях, о необходимости противостоять арабам, о каких-то важных кураторах и конкурентах, о том, что Голанские высоты – «наши». С Романом и Гришей мы обсуждали гравюры Хокусая, фильмы Альмодовара или Джона Уотерса, живопись Филонова или Леона Коссофа. Им был ненавистен милитаристский дух этой страны, вульгарный сионизм, презрение к палестинцам, русскоговорящий культурный сабантуйчик. И меня сильно потянуло от Гробманов и их газетёнки к этим двум маргиналам. Внутри я был ещё большим отщепенцем и примитивом, чем они.
Однажды, возвращаясь в полночь в редакцию, я заметил на улице армейский джип – привычная вещь в Израиле. Джип ехал в противоположную сторону, но вдруг развернулся и ринулся прямо на меня. Машина затормозила в двух шагах и из неё выпрыгнули четверо – двое в форме, двое в штатском. Все были при оружии, у одного пистолет прямо в руке. Они взяли меня в кольцо и стали что-то спрашивать на иврите. Я отвечал по-английски.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































