Текст книги "Жития убиенных художников"
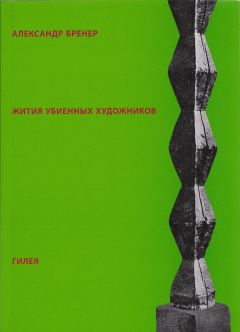
Автор книги: Александр Бренер
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Так ты русский? – сказал один из них.
– Да.
Они переглянулись и без лишних слов запрыгнули обратно в джип – укатили.
Когда я на следующий день рассказал об этом случае Блюгеру и Баембаеву, они рассмеялись.
– Тебя приняли за палестинца, – сказал Роман. – Их ошибка. Но ты ведь и вправду похож.
Я выглядел тогда по-местному: в майке и в шортах, дочерна загоревший, в кожаных сандалиях, со слипшимися от морской соли волосами.
– Ещё у тебя преступная походка, – заметил Гриша. – А у них на это намётанный глаз. Они решили, что ты – нелегал.
По вечерам, когда Гробманы смывались домой, мы с Романом и Гришей пили чай в редакции, приглашали туда знакомых. Бывали и вечеринки. Боссам это не нравилось. Мои отношения с ними портились.
В газету приходили раздражённые, негодующие письма о моих статьях. Читателей возмущали тон и содержание моих очерков. Зачем я пишу о порнографе Мэпплторпе?..
Я всё чаще исчезал из офиса.
Гробманы начали браковать мои опусы. Однажды Михаил Яковлевич пришёл в ярость и разорвал в клочки эссе о кино Уорхола, в которое я вложил всю душу. Почему я пишу об этой хуйне?.. Почему я пишу об итальянском ничтожестве Франческо Клементе?.. И где обещанная рукопись о художнике Гробмане?!
Вместо того чтобы писать о нём монографию, я пошёл в книжный магазин «Стемацкий» и стащил альбом Люсьена Фрейда. Это было не первое и не последнее моё книжное воровство, но на сей раз меня сцапали. Сработала вставленная в книгу металлическая нить, на которую среагировала сирена у выхода.
Вынув альбом из моей сумки, продавец тут же вызвал полицию.
В полицейском участке меня допрашивал толстый восточный человек, похожий на нацистскую карикатуру еврея. На столе перед ним стояло блюдо с виноградом, и он лениво пощипывал ягоды и смачно сплёвывал косточки на пол. Сообразив, что имеет дело с идиотом, он меня припугнул:
– В следующий раз мы тебя посадим. Надолго!
Потом отщипнул очередную виноградину и попытался вставить мне её в рот, но я увернулся.
– Пошёл вон отсюда, – сказал он мирно.
Но это было не всё. При выходе меня остановила девушка-полицейская – рыжая, веснушчатая, с пушистыми красными ресницами и усиками, с красным ртом и ушами. Она сказала, что проводит меня до моего места жительства и посмотрит на мой паспорт – его при мне не оказалось. Вот мы и пошли вместе.
По дороге она спросила:
– А зачем тебе понадобилась книга в магазине?
– Да просто так. Мне нравятся картины этого художника.
И я рассказал ей немножко о Люсьене Фрейде.
В дверях «Бега времени» нас встретила Врубель-Голубкина. Она с удивлением воззрилась на мою спутницу в униформе.
– Что случилось?
Рыжая ответила что-то на древнееврейском.
– Правда? – улыбнулась Гробманша. – Так вы просто познакомились на улице?
Я кивнул.
В моей комнате девушка заглянула в паспорт, посмотрела по сторонам и сказала:
– Больше не попадайся, о’кэй?
Я был ей крайне благодарен.
И всё-таки мои дни в роли гробмановского соратника были сочтены. Михаил Яковлевич всё больше гневался и отворачивал от меня голову, Врубель-Голубкина смотрела с презрением. Статейки мои не находили их одобрения. Теперь неоспоримым фаворитом был Александр Гольдштейн. Ну и хорошо!
И вот наступил роковой вечер.
Мы с женой устроили экспромт-вечеринку в редакции – только для своих. Присутствовали: я, она, Роман Баембаев, Гриша Блюгер, художник Юхвец и ещё кто-то, не помню.
Было довольно оживлённо. Мы выпили, закусили… И вдруг – дверь открывается!
У Гробманов был, конечно, свой ключ. Вот они и вошли. А с ними ещё какая-то пара – друзья из Иерусалима, русские.
Мы их, разумеется, пригласили за стол. Они сели. Но атмосфера мгновенно изменилась, испортилась.
Михаил Яковлевич осматривал гостей иронически. Щурился, кривился в отвращении, водил глазами. И выпивая стопку за стопкой, не закусывал. Он был возмущён и не скрывал этого.
Ирина Врубель-Голубкина на меня вовсе не глядела, только к Грише Блюгеру обращалась шёпотом. Она источала невидимый яд из всех своих пор, закипала, как самовар.
А все вокруг присмирели, одеревенели, сами собой приструнились. Вот как действует присутствие фараона и супруги его, вот что значит – власть, известная личность, авторитет, демиург, пахан.
Но явились пельмени горячие, хрен, горчица, и языки развязались слегка, лица набрякли. Центр застолья, конечно, сместился к патриарху авангардизма и сионизма, к рассказам его. Что-то вещал Михаил Яковлевич, что-то ворковала Врубель-Голубкина, а пирующие внимали им сблагоговением.
О, как ненавистны мне эти фальшивые общие трапезы, эти улыбки наклеенные, эти шутки, в уксусе отмоченные, эти жесты, немощью продиктованные, эти собрания, мысль оскорбляющие, эти посиделки с водочкой да с тараканчиками в мозгу, эти тортики сахарные, мышьяком пошлости пропитанные, эти холодцы с человечьими хрящиками, эти речи с утробными господами и загробными дамами… Никогда мне, плебею безманерному, уж так не сидеть!
Прошла ещё пара дубовых минут.
И вдруг Гробман ко мне обращается:
– Кого же ты сюда пригласил? К нам? В редакцию?
И сразу смолкло всё.
– Что вы имеете в виду? – говорю.
– А вот кто это тут сидит? – указал он на Баембаева.
Я давно уже знал, что Гробман не переваривает Романа. Кажется, он считал его увальнем, подушкой сырой, дурачком каким-то, бездельником беспонтовым.
– Почему, – прошипел Гробман, – ты Гольдштейна сюда не пригласил, а вот этого пригласил?
И самодовольно, со страшным презрением, уставил он свой перст на моего товарища.
Что ж – я уже пьян был.
Хотя и не очень.
Вот я и взбесился, как полагается.
Вот я и схватил гробмановский палец и сжал его в своём кулаке.
А он смотрит на меня: мол, да как ты посмел?
И что-то во мне лопнуло. Какой-то мыльный, какой-то рыбий пузырь повиновения… Неуправляемость профанная пробудилась. И я потянул Гробмана за этот его палец прямо на стол с тарелками и бутылками – и бутылки попадали, покатились…
Тут мы оба вскочили, встали – друг против друга.
Я уже неоднократно тогда слышал, что Гробман – боец, забияка, драчун. Он это сам с гордостью рассказывал. Я же бойцом себя не считал, умелым драчуном не был, но захотелось мне очень с ним сразиться.
Вот мы и схватились, закачались, стали бороться.
Он был крепок, да не чересчур, а я моложе был. Вот и кинул я его об пол, подмял под себя. И слышу: он хрипит от ярости, пыжится, пукает.
Я встал, освободился от пут его. Огляделся.
Публика нашу рукопашную восприняла по-разному.
Гриша Блюгер, не терпящий насилия, вышел в другую комнату в явном отвращении.
Художник Юхвец, старый раб Гробмана, забился на стуле в угол и смотрел оттуда в радостном ужасе.
Роман был в восторге от драки.
Иерусалимские друзья Гробманов были потрясены варварством сцены.
Ирина Врубель-Голубкина, во время заварухи кричавшая мужу: «Миша, кончай его!», – смотрела озабоченно.
Жена моя меня подбадривала.
Гробман снова был на ногах – и сразу на меня бросился.
Драка возобновилась с невиданным ожесточением.
Я бросал его на пол ещё раза четыре. Он уже задыхался, обливался потом, в глазах читалось смертное беспокойство и тоска. Он больше цеплялся за меня, чем боролся. И всё-таки по-прежнему вставал и кидался. Это было тупо и смахивало на драку блатных.
Тут я заметил кровь. Это была кровь Гробмана, кажется, из носа. А ведь мы кулаками не дрались.
Кровь почему-то была и на стенах.
Мне стало тошно. А потом смешно. А потом – грустно. Я ощутил себя далеко, совсем далеко от всего этого – от непроходимой спеси и отчаянья Гробмана, от его воспалённого, поникшего тела, от его очумевшей жены, от самого себя в этой схватке, от всех присутствующих болельщиков – и от этой гнусной квартиры-редакции.
Я вышел вон и хлопнул дверью.
На следующий день я уже не мог попасть в своё жилище: Врубель-Голубкина сменила замок в двери «Бега времени». Время действительно побежало – и круто свернуло в новую для меня сторону.
Я бы так назвал новое направление: трасса радостной злобы. Детской злобы, кошачьей злобы.
Мне была противна драка с Гробманом, но всё-таки она меня воодушевила. Мне захотелось пойти ещё дальше по пути беззакония и агрессии. Мне захотелось наносить кошачьи удары, расточать детские оскорбления. Захотелось нападать на гробманов здесь и там. Мне захотелось атаковать культурных боссов, государство Израиль, дураков-эмигрантов, свою беспомощность, ничтожество бытия. Это была скользкая, опасная тропа. Я эту дорожку прошёл до конца, о чём не жалею ни капли.
Но сейчас я хочу совершенно другого, иного. Чего? Просто выйти из этого докучного мира, из его судеб, его логики. Выйти – из Запада, из литературы, из России, из глупости, из Берлина, из кошмара, из искусства, как оно существует. Из всей этой мировой гражданской войны, из нынешнего порядка, из всей этой дряни и слизи. Я, конечно, знаю, что выйти – очень сложно.
Но шанс есть.
Для этого бегства у меня есть мой опыт. Как пишет Агамбен, власть хочет лишить нас собственного опыта. Но я-то его получил, выдавил – мой скудный, смешной, плебейский опыт, основанный на бесконечных ошибках. И у меня есть два путеводителя – Джорджо Агамбен и Варлам Шаламов, они не дадут мне наделать новых ошибок. И плевать я хотел на всю агрессию мира!
Так что посмотрим.
Журналистом гробмановской газетки я больше не был, но на пляже по-прежнему лежал, по улицам Тель-Авива бродил.
Мы с женой и Романом Баембаевым сняли новое жильё – большое помещение, прилегавшее к бару, в центре Тель– Авива. В комнате стояла музыкальная машина и кровать. Мы нашли на улице стол. За ним мы с Романом писали ругательские стихи и низкую прозу, а потом на собственные деньги опубликовали две книжки. Одну из них – «Тайную жизнь буто» – мы послали Михаилу Гробману. Вскоре я услышал, что Ирина Врубель-Голубкина хотела подать на меня за эту книжку в суд. Там были какие-то оскорбления в её адрес.
Ги Дебор писал, что в литературе двадцатого века он ценит только один жанр – жанр оскорбления. Дебор считал основателем этого жанра не Бретона, не сюрреалистов, а Артюра Кравана. Главным критерием жанра оскорбления является необходимо точный выбор мишени, а также безукоризненный отбор оскорбительных слов, выражений. Ничего не зная тогда о Деборе и Краване, мы с Баембаевым пробовали работать в жанре оскорбления.
Я очень люблю Агамбена и Шаламова. И Дебора я тоже никогда не перестал любить. А вот книгу о Гробмане я так и не написал. Да и зачем? Иногда всё можно сказать в одном-двух абзацах.
Гробман, конечно, не был каким-то особым подлецом или закоренелым злодеем. Наоборот, он был самый обычный, пошловатый художник. Он оказался обывателем, заурядным талантливым живописцем, деловитым и недалёким мужичком. Сколько угодно мог он болтать о Кручёных или Яковлеве, мог звать своего пса Бурлюком. Всё это – барахло. Никаких уроков из опыта футуризма, из русского авангарда Гробман для себя не извлёк. Успех в искусстве он понимал как читатель «Коммерсанта» или «Нью-Йоркера», как потребитель массовой информации, как продукт культуры ресентимента. Словно последний дурак, искренне восхищался он израильским политическим истеблишментом, сионизмом, верил в официальную историю, в сильную руку, в право хозяина, в Запад. Считал палестинцев низшими существами, как Баембаева или мою жену. Поэтому и искусство его является маломощным позёрством и эпигонством – по отношению к лубку, к народному искусству, к еврейской традиции и модернизму. Мутный, запутанный человек, слабый художник. Зря он злился на Клементе и неоэкспрессионизм, сам он оказался ничем не страннее, не глубже, не загадочнее. А даже хуже.
Он упустил свой шанс, этот Гробман, как какой-нибудь Вадим Захаров или Глазунов.
Поэзия гнева под волнистой обложкой
Израиль был страной без времён года.
Здесь не существовало расцветающих деревьев и весенней мокрой травы, преображающей жизнь.
Израиль знал лишь разрушительную работу то жгучего, то холодного солнца.
В Израиле я всегда обливался горячим потом или нащупывал странную холодную испарину на лбу.
В Тель-Авиве не нужна была сауна – Тель-Авив сам был сауной, но после неё я не чувствовал себя чище.
Иерусалим был каменным мешком со многими – холодно-горячими – складками.
Я бродил по его улицам как паломник, попавший в неправильный город. Я исследовал иерусалимские тупики с тайной надеждой провалиться, как Алиса, в иное пространство.
Однажды в Иерусалиме я угодил на полчаса в тёмную пещеру, сулившую чудеса.
Это был русский книжный магазин Изи Малера.
Небольшая комната – и для книжного магазина темновато. Кто-то опустил металлические жалюзи на окне, оставив только узкую световую щель.
Пахло пылью и чем-то съестным. Изя Малер, хозяин магазина, притаился, как паук, в углу, на раскладном стуле, с термосом в руке, и глазел на меня без всякого радушия.
Я стал обследовать книжные полки. Здесь были Солженицын, Зиновьев, Войнович, Владимов, Мамлеев, Довлатов, Лимонов, Синявский, Алешковский, Соколов…
Были ардисовские сборники Бродского, книги Бахыта Кенжеева, Сосноры…
Западные издания Вячеслава Иванова, Гумилёва, Ходасевича, Белого, Клюева, Кузьмина – настоящая сокровищница!
Здесь стояли альбомы Немухина, Рабина, Целкова, Шемякина… Комплекты журналов «Континент», «Синтаксис», «22»…
Целую полку занимало собрание сочинений Константина Леонтьева… Ремизов, Алданов, Поплавский…
На полке современной поэзии – сборники Анри Волохонского, Геннадия Айги, Алексея Хвостенко, Льва Лосева, Михаила Генделева, Владимира Тарасова…
Много чего там было.
Я смотрел на все эти книги – и мне делалось страшно.
Я пытался представить меру своей собственной беспомощности перед лицом этих бессмертных авторов, этих литературных подвижников. Я, оказывается, был просто бездельником, проходимцем…
Глядя на эти книжные богатства, эти корешки и переплёты, я испытал ужасное, мерзкое давление той косной силы, которая управляла государствами, сословиями, классами, отдельными людьми. Фальшивое имя этой силы – культура. Мрак. Тление. Гробы. Склепы.
Я ощутил себя задавленным, похороненным в культуре – внутри гроба, под пластами земли, с камнем наверху, – на одном погосте со всеми этими талантами и гениями. Неприятное чувство…
Моя непринадлежность культуре сдавила мне виски.
Каким-то седьмым чувством я догадался, что никогда не буду стоять вот так на полке, зажатый другими достопочтенными авторами, даже в самом тёмном книжном магазинчике, даже в Бангладеш или Уфе.
Не буду, ура!
Это судьба Саши Соколова и Алексея Цветкова – старшего и младшего, но не моя.
Как сладко, как гулко бьётся в пустой груди окаянное сердце… И как хорошо сказал маркиз де Сад: не хочу, чтобы память обо мне жила на этом свете, не хочу иметь надгробный камень, не хочу, чтобы мои книги читали эти люди, эти дураки…
И тогда на одной полке я заметил книжку.
Она стояла среди других, но как-то криво, косо. У неё была изогнутая, деформированная спинка. Я её вытащил: неловкая картонная обложка – покоробленная, волнообразная. Я ощутил на пальцах пыль.
Но мне было приятно держать в руках этого уродца.
Названия не помню, имени автора – тоже. Я открыл книжку и обнаружил, что внутри она такая же неумелая, как снаружи. Грубый, чрезмерно чёрный набор, дешёвая жёлтая бумага. Книжка была издана на деньги автора в Хайфе.
Я стал читать. Меня ошеломило косноязычие автора. Это был гуторящий, полурусский язык, какой-то южный говор. Автор был украинским евреем, эмигрировавшим в Израиль в 70-е годы.
Он не писал, а хрипел. Голосил, сипел, рвал и метал, потом умолкал и бубнил. Это была речь, переходящая в глоссолалию. Не слова – а жесты отчаяния. Песнь тонущей, исчезающей в водовороте жизни. И он кричал ей на прощанье: «Ужо тебе!»
Я стащил эту книжку из магазина Изи Малера.
Спрятал за пояс – и вынес. Украл – не том Ходасевича или Поплавского, а её. Я почувствовал, что это – послание мне, бутылка из водоворота, специально для Александра Бренера. И по содержанию, и на ощупь. Книжка в руке ласкалась и тёрлась, как приблудная кошка.
Я сел на скамейку под пальмой и стал читать.
Напечатавший эту книжку знал, что его жизнь вся – ошибка. С начала и до конца. Но он не хотел в этом признаться. Поэтому он проклинал: семью, детский сад, школу, техникум, армию, завод, КПСС, СССР, Харьков, Киев, Винницу, а потом – эмиграцию, Тель-Авив, Хайфу, Средиземное море, Запад, козни империалистов, сионизм, Израиль, евреев… Он ворочал кулаками в карманах – и обвинял. Он не исповедовался. Он – кричал с края земли.
Как заболевший Нижинский, прыгал и дёргался язык книги. Этот язык был самый настоящий – прямо изо рта, воспалённый, обложенный. Как сказала Кароль Рама: язык – моя любимая часть тела, потому что он не стареет. Язык этой книжки не хотел стареть – не хотел мудреть, умирать.
Книжка была глупой.
Но было там и кое-что другое: пролетарское, плебейское, народное неподчинение. Неприятие никакой навязанной судьбы. Упорство, непреклонность сопротивления.
– Конец, что ли? – спрашивал он себя, дёргая локтем.
– Зачем конец? – отвечал он себе, прицеливаясь по неприятелю.
И щёлкал невразумительный выстрел – очередной враг падал лицом в землю.
Этот автор стрелял и стрелял по бесчисленным вражеским легионам – палил из своего самострела.
«Вот как скоро всё кончилось», – говорил он себе. И перед ним пробегала его жизнь – трудная, полунищая, судорожная, подслеповатая жизнь, в которой было полным-полно ошибок и мало озарений, и которая кончалась теперь в разогретой, как сковородка, квартирной дыре на холмах Хайфы. Жизнь?
Были в ней горячие оладьи с малиновым вареньем, которые он так любил в детстве, и учительница Марья Порфирьевна с висящими щеками и значком ударницы труда, приколотым к чёрному платью, и была чёрная пизда его первой любви Ольги или Екатерины – напугавшая его до жути пизда… И много, много чего ещё было, с чем сводила и куда кидала его судьба – но он ничего из этого не признал, ничему не подчинился, хотя и беспрестанно терпел унижение.
Масштабы сместились, и пизда уже не пугала, а радовала, но платье учительницы со значком до сих пор вселяло ужас, потому что напоминало гроб отца с чёрной материей, а также торжественный бархатный занавес в кремлёвском Дворце Съездов, и ещё шторки в самолёте, доставившем его в Бен-Гурион. Он ненавидел занавесы и шторы! Он хотел заглянуть за все эти завесы, но там неизменно оказывалась пустота, пустота…
Жизнь?
Вся жизнь его была попыткой отдёрнуть занавес – и увидеть настоящую, счастливую жизнь. Вся жизнь его была попыткой к бегству, измерялась этими попытками. Побегов у него было много – и все неудачные. Побеги не были продуманными, хитроумными, как у графа Монте-Кристо или князя Кропоткина. Нет, скорее мальчишеские, дурацкие бегства – с уроков, из пионерского лагеря, из фабричных застенков, из бездарной страны… Бегства эти привели его не туда, куда он надеялся…
А куда?
Да кому какое дело?!
Не нужно преуменьшать значение попыток к бегству. Они, а вовсе не их успех, и есть самое главное: кратковременные, смехотворные, ребяческие побеги из замёрзших, ледяных краёв равнодушия, одиночества, забытья, рутины, стадного существования, иллюзий. Побеги из холодной Лапуты – в весну, в надежду, на остров Пасхи… Неволя ведь становится особенно невыносимой весной. Хочется любви, света, объятий. И ты бежишь, в душе бежишь, а потом и телесно…
Власть надежды, главной Иллюзии, за которую расплачиваются тяжкими ночами холодного пота, горячего пота, бессилием, слабоумием, беккетовским маразмом, новым сроком в тюрьме, новым холодом, а иногда и смертью – власть надежды толкает тебя к безостановочным попыткам к бегству…
И вот его жизнь – жизнь беглого, тёмного человека – съёжилась до лоскута пыльной шагреневой кожи. Эту-то кожу я и держал теперь в руках, сидя на иерусалимской скамейке, и читал вытатуированные на этой коже слова и фразы. Жизнь!
Честно говоря, фразы эти меня восхищали. Не хуже Селина! Даже лучше! Эти фразы нравились мне не меньше «Домика в Коломне», не меньше «Шума и ярости», не меньше Беккета, не меньше «Игрока» Достоевского, не меньше платоновского «Котлована»…
Не сходя со скамейки, я решил, что хочу быть таким же – плебейским, ошибочным – автором. То есть не автором вовсе.
Помню ещё вот что.
Этот рассказ о тёмной, глухой жизни иногда прерывался какими-то сказками, притчами. Странные это были вставки. Они разрывали ткань повествования как некие вздохи-вдохи, как глотки воздуха, которые были необходимы автору, чтобы отвлечься от собственной жизни.
Вот, например, он поведал, как появились в мире ящерицы. Сначала, согласно его космогонии, ящериц на земле не было, а были только белки, которые вечно спаривались. Они спаривались и спаривались, так что великому богу-медведю это надоело, и он решил ударить по неприличным белкам лапой. И тогда, в самый последний момент, одна из белок, чтобы не погибнуть от тяжкой медвежьей длани, выпрыгнула из своей шкурки! Выпрыгнула – и улизнула, превратившись в шуструю ящерицу. А вторая белка тоже убежала – и с этих пор у неё такой пушистый хвост. Ведь это – меховая шкурка первой белки.
Эта история имела счастливый конец: с удачным бегством сразу двух тварей – белки и белки-ящерицы. Можно понять и так, что из любовного союза двух белок родилась новая легконогая тварь – ящерка.
Другая сказка была грустнее.
Жил цветок, который вечно тянулся к солнцу. Но увы – это была односторонняя любовь. Солнце отвергало домогательства цветка. И тогда цветок постепенно зачах, завял – и превратился в паука. Теперь вместо лепестков у него – лапы, и он не радостный, а злобный. И сидит он уже не в зелёной траве, а в бледной паутине, которая является последним негативным напоминанием о солнце.
Жизнь!
Я прочёл эту книжку с начала до конца, сидя под горячим солнцем на зелёной скамейке, в древнем городе Иерусалиме. Рядом, кстати, стояла и блестела на солнце большая бронзовая скульптура Жоана Миро. Книжка показалась мне в сто раз интереснее скульптуры.
Живая, настоящая книжка. А скульптура – хлам. Хотя ведь сначала, в молодости, Миро был великолепным художником. Но жизнь, дни, труды, усталость, карьера, слава, успех, пресыщенность и чёрт знает что ещё превратили его в халтурщика.
Безымянному автору шагреневой, волнообразной книжки такая судьба не грозила.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































