Текст книги "Рымба"
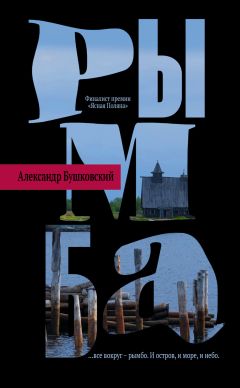
Автор книги: Александр Бушковский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Здравствуйте, Вера! – вежливо ответил Слива и прокашлялся.
Он тоже сильно стеснялся. Но тут в сенях загрохотало, и в дом ввалился Стёпка, высокий, широкоплечий парень, лицом неуловимо похожий на мать.
– Об ваши сапожищи запнулся, дя Вова! – громко сказал он и засмеялся. – Сразу две пары не перепрыгнуть! Здрасьте!
– Здорово, мужик! – Волдырь с удовольствием оглядел Любиного сына и добавил, обращаясь к Сливе: – Гляди, какой конь вымахал!
– Степан! – Тот протянул Сливе широкую, как у отца, ладонь.
«Хороший парень», – подумал Слива, пожимая Степану руку и улыбаясь в ответ.
– Слава.
– Отцу мотор в лодку отнес, чтоб ему спину не рвать, – продолжал громыхать Стёпка. – Ладно, давайте чай пить, а то мне еще потом всю скотобазу убирать.
– Что за выражения, Стёпа? – попыталась строгим голосом спросить Люба, но тот добавил, будто исправился:
– Прости, мамулечка, за телятками-свинятками прибраться. Это у нас такое распределение обязанностей, – объяснял он уже гостям. – По субботам мама с Веруней в доме порядок наводят, я в хлеву навоз собираю, а папаня в село уезжает, по делам. Кто на что учился!
– Не обращайте внимания, шутник доморощенный, – вставила Вера.
– Всё, ребя, я собрался. Поехал, – сказал из-за дверей Митя, – вечером вернусь. Ребенок, иди поцелуй меня.
Вера вышла в сени, слегка касаясь пальцами стены.
– Вот, Любонька, какие дела, – дуя на блюдце и держа в руке лепешку, заговорил Волдырь. – Слава пока у меня поквартирует. Такая у него жизненная ситуация. А что? Я не против. Мне веселее. Пусть остается. Парень крепкий. Не буйный вроде. Авось в деревне пригодится…
– Слава, а вы городской? – спросил Степан.
– До армии жил в деревне, потом остался в городе. – Слива немного успокоился, видя доброе отношение.
– Я тоже в армию собираюсь. Даже поступать никуда не стану, сначала отслужу. А там видно будет. – Стёпа мазал лепешку маслом, зачерпывал ложечкой варенье и отправлял в рот. – Слава, делайте, как я. Так мамины лепешки вкуснее всего.
– Спасибо. – Слива отломил кусок лепешки. – Очень вкусно. Настоящая кульча[8]8
Кульча – таджикская лепешка.
[Закрыть]…
Люба хотела было что-то спросить, но Стёпа перебил:
– А вы где служили? В каких войсках?
Слива помялся немного:
– В связи. Катушки мотал.
– А я хочу в десант. Или в морскую пехоту. В крайнем случае – в погранцы. Как батя.
– Что ж, дело хорошее.
– Только он все смеется. Иди-иди, говорит, на границу. Стрелять научишься, как ковбой, а бегать – как его лошадь. Но я стрелять уже могу: и батя учил, и в школе стрелковая секция. Да и бегать приходится, и на лыжах тоже. Только вот боксом бы позаниматься… Так тренера нет. Вы, случайно, не боксер? Нос вон кривой.
– Не, я не. Носом это я об стол упал. А так я больше специалист по метанию лепешек в рот. – И Слива отломил еще кусок.
Степан усмехнулся, и Вера, заходя в избу, улыбнулась.
– Значит, домой не к спеху? – все же спросила Люба и тоже улыбнулась.
– Ладно, спасибо, Любонька! – поблагодарил за угощение Волдырь, дав Сливе возможность промолчать. – Нам еще сети перебрать и Марь Михалне должок занести.
Чай допили быстро.
Из сосновой щепы двуручную корзину с сетями унесли с собой, в избу Волдыря, там сети растянули на вешалы и занялись их переборкой. Работа нетрудная, зато нудная. Поплавочек к поплавочку собери, колечко к колечку, ячею к ячее, узелок к узелку. По пути весь мусор вытряси, рыбьи возгри собери, полотно сполосни и на просушку.
Встали друг напротив друга, у Волдыря кольца, у Сливы поплавки. Волдырь закурил беломорину, стандартно смяв гильзу.
– Понимаешь, что делать? – спросил он.
– Пробовал, – ответил Слива.
Начали перебирать, и пошло неплохо. Слива почти не отставал от Волдыря, хоть поплавки мудреней ковырять, чем кольца.
– Что думаешь насчет шкалика? – спустя немного времени снова спросил Волдырь.
Слива в меру подержал паузу.
– Я за любой, если можно так сказать, кипеш, – осторожно проговорил он, – кроме голодовки.
– Тогда сейчас перебираем, пол-литра у Любы забираем. – Волдырь потер ладони друг о друга. – А Манюне вернем, но потом.
– А долг?
– Так ведь я у Михалны самогон брал, а у Любы водка. Митя брагу перегонит, отдадим самогоном. Или вообще отработаем. Ей вон огород перевернуть надо перед снегом. Как раз окучник протащим… Завтра.
– Как скажешь, дядя Вова.
За два часа сети перебрали, поплавки на рогатки насадили, кольца веревочками схватили. По ходу дела Волдырь рассказывал Сливе байки из деревенской жизни и потихоньку выспрашивал о нем самом. Слива коротко отвечал. Так Волдырь узнал, что татуировки на теле Сливы – синтез мазохизма, ошибок молодости, а также ложного понимания красоты и мужественности. Хотя причины эти можно расставить и в обратном порядке.
Слива же понял – остров могуч, деревня стара и живуча, люди в ней добры и веселы, а земли и воды вокруг кормят их и поят. Не ленись только, не жадничай и не гадь вокруг себя.
– Теперь до Манюни, а как иначе? – утвердил Волдырь по окончании работы.
Они отнесли сети в Митин сарай, Волдырь зашел в избу, а Слива остался ждать у забора и огляделся вокруг.
Белка, укрыв нос хвостом, лежала под крыльцом и делала вид, что не обращает на Сливу внимания. Кошка Пышка жмурилась рядом и уж точно внимания на Сливу не обращала.
Солнце медно краснело вдали и через разноцветные облака опускалось в озерную рябь. Тишина. Ни лодок на воде, ни чаек. Ветерок дул слабо и еле двигал воздух, но бодрил холодком. Бурые деревенские крыши впитывали солнечную медь и лоснились ею, как топленым маслом. Если б не жухлые листья, могло показаться, что на острове апрель, а не октябрь.
– Все при нас, – довольно сказал, выходя из калитки, Волдырь, – ща Манюню быстренько причешем – и до дому. Повечеряем с напитками.
Манюня в фуфайке и темном платке возилась во дворе, у крыльца. Граблями она собирала опавшие листья, и Сливе вдруг показалось, что она поджидает незваных гостей.
– Вечер добрый, Марь Михална! – еще издали приветствовал ее Волдырь, махнув рукой.
Слива выглядывал из-за его спины.
– Нечего вам тут делать! – так громко и зло крикнула в ответ Манюня, что они остановились.
– Топай домой, Вовка! – Манюня нахохлилась, как сойка. – И дружка с собой забирай!
– Так ведь должок… – попытался было встрять Волдырь, а Слива жестко напрягся от такой встречи.
– Топай-топай! – перебила Манюня. – И дружку скажи, пусть идет к Богоматери!
Тут она, по-мужицки широко замахнувшись, что-то перекинула через жерди забора, к ногам гостей. Слива наклонился и поднял огарок свечи.
– Идти надо, – угрюмо сказал он Волдырю, и тот послушно повернул обратно к дому. Ушли не прощаясь.
– Давай в церковь зайдем, дядя Вова, – предложил по дороге Слива усталым голосом, будто повторяя полученный приказ.
– Кто ж на ночь глядя?.. – засомневался Волдырь.
– Есть фонарик? – спросил Слива, не слыша и ускорив шаг.
– Спички есть, – ответил Волдырь, – а у тебя свечка в кармане. Разглядишь, коль так уж надо.
Быстрым шагом они прошли мимо Митиного дома, мимо дома Волдыря и вышли на мыс. Собака увязалась следом. Под елями стало совсем темно. Белка, словно поняв, куда идут люди, бежала впереди по тропе и светлым пятном указывала дорогу в сумраке.
У крыльца Слива тихо присвистнул, и собака подбежала к нему.
– Привязать ее надо, дядя Вова, – сказал он Волдырю, – а то в храм увяжется. Нельзя.
– Да ладно, я подержу, а ты иди, – ответил тот, – мне там делать все равно нечего. Я из всех молитв только одну и знаю: «Во имя овса, сена и свиного уха. Алюминь»…
– Тогда спички дай, а? – перебил его Слива и толкнул дверь в церковь.
Дверь отворилась без скрипа. «Смазана. Ходит Манюня», – подумал он, зажегши огонь.
Внутри было пусто, но не затхло. Слива оглядел храм, держа огарок перед собой. Икона Божьей Матери, новая, видно купленная в церковной лавке, одиноко висела на темной стене справа от Царских врат, а на них едва видны выцветшие лики. Ни утвари, ни скамеек.
Слива прилепил свечу к доске-полке под иконой, торопливо перекрестился и зашептал молитву. Почувствовал только горечь во рту, тревогу в животе и сухую резь в глазах. Быстро поклонился и вышел наружу, притворив двери.
Глава 7
Колечко и промысел
«…Так уж в наших краях повелось, что как ни лодья, то новость, что ни новость, то худая. Без новостей живем – ржаной хлеб жуем, а привезут новостей – добавляй в муку костей. Хорошо бывает, коль рыбьих хватает, а то ведь и лебеду на пне рубили, в печи сушили, на мельницу возили. Так и время коротали – от весны до осени, от лодьи до новости.
В лето семь тыщ двести седьмое с разных сторон прибыли в Рымбу аж два каравана. Полдюжины лодок к мосткам причалило. Полсотни народу служилого на берег высыпало. Больше, чем людей в деревне. Дьяки да подьячие, стольники-стрельцы, даже иностранцы. Унтер-офицер от воеводы – сабля до земли. Указы царские по очереди зачитывали. Сначала земские, потом военные.
Объявили вот что: царь Иван ко Господу отошел, единолично царствует теперь брат его родной-единокровный, Великий Государь Пётр Алексеевич. И се, он указом своим повелевает не со дворов теперь оброк собирать, а подушную подать ввести. Со всего мужеского полу. Посему мужиков всех в отказные книги вписать и деньгу с них получать. А деньжищи-то немалые – рубль с копеечкой! Обернулись рымбари к отцу Моисею, взмолиться хотели, а тот лицом почернел, спрятал его в бороду.
Окромя подати приказано было всем взрослым мужикам работать по три месяца в году на вновь открытых мануфактурах датского коммерсанта Бутенанта. Поелику сей Бутенант зело государю Петру мил и угоден. Уже со всей округи народ туда заводить стали, как в каторгу. Оттого мануфактуры заводами и назвали.
Будете руду железную копать, лодками в завод возить, в крицы превращать. Кто работать не явится, батогами того бить и в кандалах в цеха вести. Ну а коли кто сбежит, того ловить и тут же, при женах, вешать. Сам Александр Данилыч Меншиков, царский фаворит-любимец, лично приказал и в указ велел прописать.
…И ведь так светлейший князь, в завод прибыв, кричал и ругал мужиков, хоть и сам мужик, так кулаками тряс и ручками махал, что слетел с безымянного пальчика перстень (белого золота колечко с бирюзовым камушком) и на причал упал, покатился по досочкам и в щель меж ними булькнул. Вода под причалом темная, на дне бревна гнилые и коры сосновой сажень. Ныряли мужики заводские, ныряли, а ничего не нашли в такой мути. Только промерзли в сентябрьской воде.
И хоть у князя Меншикова на каждом пальчике по колечку, да не по одному на некоторых, все ж сильно огорчился. Мрачнее тучи уехал в Петровскую слободу, к государю на доклад. Обещал приехать вскорости, проверить, как идут работы и когда дадите пушек…
А чему вы, мужички, удивляетесь? Или взаправду не слыхали, что рубежи заполыхали и война опять начинается? Со всей Руси в заводы навезено народу, пригнан люд мастеровой из Тулы и Рязани, с Урала и Твери. Поскольку крайняя нужда у царской армии в пушках и пищалях, ядрах, ружьях и штыках.
Закончил подьячий указ читать, вышел унтер-офицер от воеводы. По другому царскому указу, говорит чугунным голосом, велено с каждых двадцати дворов по рекруту брать навечно в армию и во флот государев. Что получается? Получается с десяти дворов рекрут в армию, а с десяти других – во флот, так? Так точно! Так как нет у вас двадцати дворов, а только дюжина, забреем одного. Пусть сам выбирает, в пехоту или на галеры. Остальным же приписным три месяца работать на верфях, кои строятся по вашим берегам. Уже целое Поле Лодейное мачтами щетинится!
– Постойте, герр официр! – возник тут тонконогий иностранец-инженер в коротеньком камзоле и шляпе-треуголке. – По нашим сведениям, мужьи́ки приписаны к железным факториям и брать их в армию и на верфи не можно!
– Тебе, сударь, кто это сказал? – Унтер опустил десницу на рукоятку сабельки. – Бутенан твой? Вот ему и жалуйся! А у меня приказ воеводы. Вопросы есть? Вопросов нет! Тебе же, отче, – обратился он к отцу Моисею, – велено передать от епископа Павла, чтобы окормлял ты берега сии с деревнями-селами вплоть до Шуйского погоста. Денег тебе дадено не будет, и так уже колокола на пушки переплавили, а епархия всю мзду и десятину отсылает на Москву. Наоборот, все, что с паствы соберешь, владыке доставишь. Вот грамота с печатью, коль не веришь.
Так оно и вышло как всегда, что деревня между молотом и наковальней оказалась. Бросили рымбари жребий, кому идти в солдаты. Выпал он сыну Николы-кузнеца, Митьке. Собрала ему матушка котомку, повесила на шею малую иконку. Отец вручил прадедов штык, в нож перекованный. Ты, говорит, по́йко[9]9
Пойко – парень (карел.).
[Закрыть], от службы не бегай, на службу не рвись. Помни, чему тебя Рымба учила.
Поклонился Митя отцу-матери, перекрестился на образа, котомку на плечо – и пошел на бережок. Там уже младшие братья в лодочке ждут, на мандеру перевезти. Девки поплакали, собаки полаяли, и простыл след солдата…
А деревня-то жилы напрягла не на шутку. Трое мужиков взяли кирки да лопаты, на железную факторию отправились, руду по “волчьим ямам” копать. Трое с киянками и топорами да в лодье под парусами на верфи пошли, корабли для царского флота строить.
Взрослых мужиков в деревне шестеро осталось на двенадцать дворов. При всем старании земли не обработать. Уж и бабы сохой пашут, и мальцы за бороной ходят, старики-старухи сено косят, ворошат, в стога мечут. Все одно не справляются. Без мужика не родит земля, зарастают поля, голод подступает. И налоги платить время поджимает. А еще ведь рыбачить кому-то надо! Солить-вялить рыбу на зиму. И пушнину на подать ловить!
Помолился отец Моисей, чтобы Господь его вразумил, как из положения такого выбраться, Рымбе загнуться не дать и чтоб приход не разбежался. Сел в лодку на кормило, взял на весла Митрофана, и погребли они на мандеру вдоль бережка по церквям да часовням службы петь.
На матером берегу не лучше положение. Села да деревни сызнова пустеют, хутора хиреют, церкви запираются. Новорожденных крестить отцу Моисею некого, новобрачных венчать – такая же печаль. Что уж дальше говорить, коль на исповедь народ перестал ходить, причащаться не торопится. Иногда с Митрофанушкой вдвоем служили литургию.
Зато в заводах Бутенантовых жизнь кипит. Мастеровых согнали со всей России. Рудознатцев-кузнецов, лесорубов-плотников. Каменщиков, столяров, гончаров, литейщиков. И разной другой твари по паре. А главное, две сотни мастеров-оружейников из Тулы.
От рассвета до заката по своим местам артельно трудятся. Лесорубы просеки под дороги чистят, лес сырой для стройки волокушами тянут. Бывает, конь не выдержит, встанет, голову опустив, бока мехами ходят, из глаз слезы, пена на губах. А мужик – тот ничего, он двужильный. Перекрестится, в ладони поплюет, лошадку выпряжет и вместо нее хомут на шею. Глядишь, бревнышко из грязи и вытянет. Если горб не треснет. В общем, лес валят – щепки летят.
Плотники из того лесу цеха подымают, на скорую руку бараков нарубили, спят на нарах, по углам харчуются. Вместо церкви посреди слободы контору воткнули. Рядом кабак.
Рудокопы по пояс в болотах и в тучах мошкары породу роют. Из болот руду по речкам к озеру сплавляют, к заводским причалам в лодочках везут. Тащат к печам, в сыродутных горнах железо выжигают, в крицы его спекают. Сил не жалеют.
Дальше кузнецы тверские да уральские его плавят, молотят, прокатывают, только окалина летит. Бороды от жара курчавятся. А тульские оружейники пищали да фузеи изделывают – сверлят, нарезают да шлифуют. Искры ловят, опилки железные метут, пылью кашляют. Любо-дорого глядеть.
На верфях переклик мастеров, перестук топоров – корабли заложены, мачтовые сосны стоя сохнут, стружкой желтеют. Черный вар в котлах кипит, пилы дерево грызут. Такелаж из льняной пеньки на ветру звенит, паруса крыльями хлопают. Кораблями этими оружие для марсовых утех в войска повезут. Война на носу. Как гроза ворчит, зарницами сверкает, приближается.
Крестьяне же по обеим сторонам границы давно уже мирно меж собой живут, торгуют помаленечку. Кое-кто и породнился уже. А тут беда такая! Хоть и не желает порубежный народишко воевать ни с нашей, ни со шведской стороны, однако никуда не денешься – нужен государю Петру Алексеевичу выход к Балтике. Торговать с Голландией, Неметчиной и всей Европой. Что ж, ему виднее, он помазанник…
…Поутру вышли отец Моисей с Митрофаном в лодочке от одного старого креста берегового к заводу. Молодой гребет, старый рулит. Кормовым веслом курс поправляет. А кругом на белом свете лето убывает, осень приближается. Ветерок свежеет, холодает-подсвистывает, водица озерная темнеет, тяжелее становится. В борта волной постукивает, аж ребрышки у лодочки поскрипывают.
Что Митроша – не матрос, что святой отец – не штурман. Это, однако, приходится признать. Мыс кое-как обогнули, на ветер вышли, и понес их водогон не туда, куда мечталось, а вовсе даже в другую сторону.
Сколько против ветра ни греби, спину ни рви, а обратно к мысу не причалишь. Скоро горе-мореходы руки себе отмотали, поту наглотались, брызгами промокли. Выходит опять, только и остается, что молитву творить. Я, говорит отец Моисей Митрофану, буду все же рулевым веслом нашу лодочку по ветру держать, а ты свои гребные можешь бросить да начать читать Богородице.
Так и сделал Митрофан, только видит, что не удержать отцу Моисею лодку носом к волне без его помощи. Пришлось снова на весла навалиться да еще и в полный голос молиться. Кое-как выровнялись.
С волны лодочка скатывается, словно детские санки со снежной горы, и теми же саночками на новую волну, как на сугроб, взбирается. Только сугробы те синие с чернотой, дна меж ними не чуется, а про́пасть только, и, если не взберешься на гребень, держись за борта. Иначе вытряхнет из лодки, как крошки из горсти.
Все выше волны, все злее, все глубже меж ними ямы. Пару раз перехлестнуло гривой водяной, окатило с ног до головы, захлюпали лапти, нырнули обмотки по щиколотки в лодке. Побледнел Митрофан, укачало на носу, закружилась голова, да и отцу Моисею ком к горлу подступил.
Уносит их от родного бережка в открытое озеро, к вологодским скалам и мелям, пескам-тростникам. Уж отец Моисей “Живый в помощи…” забасил, а ветер все крепчает. Резвые барашки-белыши по гребням волн заскакали.
Но мелькнул вдали парус. Или показалось? Креститься надо, если кажется. Закрестились. Нет, не блазнит. Точно парус! Только б мимо не пронесся, среди волн их разглядел!
Слава богу, в наших краях паруса на кижанках – как упряжь на телегах. Такелаж вожжами называется. Лодкой, как лошадкой, управлять можно. Перекинул вожжи с парусом на другой борт, руля круче заложил, и лодочка аж поперек волны пойдет в руках смелых да умелых.
Заметили ребятушки под парусом Митрошу с отцом Моисеем. Догнали, подошли, линь перекинули. Подтянули борт к борту. Оказались рымбари. Лица скорбные. Перепрыгнули батюшка и чадо в лодку к землякам, как козлята молодые через изгородь, а свою посудину на веревке болтаться оставили позади, за кормой.
И видят: добираются двое деревенских мужиков с верфи домой, везут третьего в гробу. Гроб сосновый в носу лодки стоит, лежит в нем Матвей, сын Степанов, в чистой рубахе, лицо белое, руки на груди бечевочкой связаны, на веках плоские камушки.
– Как преставился? – кричит батюшка сквозь ветер.
– Сосной убило, – отвечают, – валили сосны мы на мачты, да не туда одна пошла. Все врассыпную, а Матвей вот не успел. Задело вершинкой.
– Сразу дух вон?
– Не, еще помучился немного. Жалел, что нет тебя рядом, батюшка!
– Молились за него?
– А как же! Все, что знали, прочитали! Матвей прощения у всех просил, шептал Царю Небесному.
– Ладно, коли так, – вздохнул отец Моисей, – домой прибудем, в церкви отпоем. Струмента что-то вашего не видно…
– Так на три дня начальник отпустил, схоронить и возвернуться.
Под парусом да поперек волны качаючись, вкруг острова направились, пошли к деревне галсами. Народ деревенский лодку с челноком издалека приметил, на берег высыпал встречать. В Рымбе гавань тихая, мысом еловым от ветра укрыта.
До пристани добрались, причалили. Вон оно как вышло – уехал из деревни батюшка нечаянный приход окормлять, а домой вернулся с покойником. Вдова Матвея, Мирья, женщина скромная и тихая, из ливвиков из северных, выть и волосы на себе рвать не стала. Молча губы сжала и мертвого Матвея домой на телеге увезла. Дети да соседи помогли. Только мерный стук копыт да колесный скрип по дороге.
Дух перевел святой отец немного да и захромал по улице, отправился к покойнику в избу Псалтирь читать. Велел Митрофану в церковный подпол залезть, из ларя ржаной муки мешочек взять и следом поспешать. Сам зашел по пути к кузнецу Николе. Тот у батюшки благословился, попросил обождать маленько и вынес ему из подклети, с ледника, большущего налима:
– Передай вдове, отче.
– Спаси тебя Господь, Никола. Блаженны милостивые.
Зацепил отец Моисей налима пальцем за жабры и направился дальше.
А у Мирьи в дому к похоронам готовятся. Взрослые со всей деревни друг за другом идут, детей малых дома оставили. Несут кто овса на кисель, кто ершей на сущик[10]10
Сущик – суп из сушеной рыбы.
[Закрыть]. Сыновья Матвеевы за хлевом костер палят, недоделанную отцовскую работу жгут. Из бересты корзины, бочку дубовую, мелочь всякую. Ложки деревянные, иглицы, чтоб сети вязать. Рукастый был хозяин, по дереву резал, бондарствовал. А недоделки оставлять нельзя – примета плохая. Будет маяться душа покойника.
Мертвого Матвея, по-людиковски Матти, мужики из гроба вынули, раздели, в горнице на куолиан лауду, скамью мертвых, уложили. Старые бабки-соседки смертную одежу ему сшили, самого обмыли, тонкой струйкой воду лили, причитали тихо, приговаривали.
Соседский дед Лембоев во дворе гроб на козлы установил, справа в головах окошечко пропилил. Надо так. Дабы Матти-упокойник видеть мог, что вокруг творится. Потом оторвал дед Лембоев от крышки гроба доску, бросил в огонь, а на ее место взял доску из сеней избы. Надо так, чтобы усопший Матти по дому не тосковал. Под голову покойника тряпичную подушечку сшили, болотным мхом набили, мягче лежать будет, багульником пьянить.
Гроб готов. Сняли Матвея со скамьи, поставили на нее домовину. Обрядили мертвеца, обратно в гроб положили. На руки – рукавицы мехом внутрь, чтоб не мерзнуть на том свете, на ноги – новые ко́ты из желтой сыромятины, вдруг в приличном обществе окажется? На голову куколь-колпак, на лицо платок до самого носа. Это чтоб зловредные духи не пролезли внутрь Матвею. Ну а пукко, Матвеев охотничий ножик, и его огниво тоже по бокам подоткнули. Самые нужные вещи в Туонеле, в лесах и на озерах страны предков.
В избе огонь днем и ночью горит, печь топится, окна открыты. Это чтоб душа Матти не заплутала и из избы выход нашла. Бабы деревенские вдоль стен по лавкам сидят, мужики по избе ходят, с Матвеем, как с живым, разговоры ведут. Новости рассказывают, вечерять за стол зовут.
Не плачет никто, слез не льет, ведь на том свете, всякий знает, слезы дыры в душе прожигают, как искры из печи на фартуке хозяйки.
Возле самой Матвеевой избы догнал Митрофан отца Моисея. Увидала их Мирья в окошко, вышла встретить во двор. Стоит у ворот – лицо темное, глаза потухли.
– Позволь, Мирья, войти.
– Входи, отче. – И голос сер и глух.
– Вот тебе мука, а вот начинка для рыбника. Добрые люди прислали.
– Благодарствуй, батюшка.
– Ты, Митроша, ступай в избу Псалтирь читать. А тебя, матушка, хочу о помощи просить, удели мне малое время.
Отвел отец Моисей Мирью в сторону, сел с ней рядом на завалину. Вздохнул, спросил серьезно:
– Скажи-ка ты мне, мать, собираешься ли мужа отпевать?
Сморщила Мирья лицо, однако слезы удержала:
– Надобно бы, отче, крещеный ведь был Матти.
– То-то и оно, что надо. Тогда сказывай мне, сколько лет семьей живете, венчаны когда? Расскажи о Матти. О детках, где крещеные?
– Зачем тебе, батюшка? – вздохнула и та.
– Надо, коли спрашиваю.
Помолчала Мирья, проглотила ком:
– Восемнадцать лет как венчаны. На мандере нас венчали, в Шуйской церкви, на Покров… В моей-то деревне, Рага-Лампи, церкви нет, так Матти меня в санях повез до Шуйской слободы. За девять верст. Снежок летел пушистый. Батюшка кручинился, у матушки слезы капали, сестры старшие в голос причитали. Я ведь младшая. А братьев нет, только девки в семье. Матти, радостный, кобылу вожжой похлестывает, сам румяный, зубы скалит. “Ничего, – кричит, – отец, внуков нарожаем, будут тебе мальцы! А сестер твоих, Мирья-ма́гуйсту[11]11
Магуйсту – ягодка (карел.).
[Закрыть], за моих братьев выдадим!” В церкви душно, свечи жарят, печи топятся, поп кадилою кадит… Еще когда Матти первый раз сватов прислал, мне он тогда не глянулся. Белоглазый да рябой. А потом вместе со сватами колдун приехал. Подошел ко мне – борода жидкая, усов нет, а глаз черен. Провел ладонью ото лба вдоль всей косы до самого до пояса, и сразу Матти стал пригож да люб мне…
– Вон оно как! – прокряхтел отец Моисей.
– Потом Пекка родился, потом дочь моя, Айно. Потом Матти-младший. Ты, батюшка, его крестил, мы уже здесь жили.
– Да, помню. Крепкий мальчик, как вцепился мне в бороду – думал я, клок вырвет!
Мирья с дрожью всхлипнула.
– Не грех тебе, милая, и поплакать чуток, – добавил батюшка, – я благословляю.
Мирья развязала платок, уткнулась в него лицом и беззвучно, мелко затряслась. Отец Моисей перекрестил ей голову и твердой ладонью провел по волосам:
– Потом, матушка, приходи слушать, что Митрофан читает. Он Матти твоему помогает мимо бесо́в к свету прорваться. Мимо ваших леших, водяных и банников всяких.
Вечером Мирья чистила узким ножом налима и вытащила из требухи колечко. Камушек в кишках блеснул, как солнышко сквозь тучи. Обтерла об фартук, отнесла батюшке. Тот темя почесал и говорит:
– Через это колечко, мать, мы зиму переживем всей Рымбой, подушную заплатим, и тебе еще хватит ржи купить, ячменя, овса. Сена корове. Рыбы засолить. А дальше видно будет, как Бог управит!
Всю ночь священник с Митрофаном над Матвеем Псалтирь читали. Утром мужики понесли его хоронить. Взяли гроб вчетвером, прошли через горницу. Следом старухи тоненько запели:
И ты куда да снаряжаешьсе,
И ты куда жо отправляешьсе,
И на тот-светную да жирушку,
На похоронную могилушку,
Моя законная семеюшка?[12]12
Здесь и далее произведения устно-поэтического и певческого творчества карел-людиков цитируются по монографии: Село Суйсарь: история, быт, культура / Гришина И.Е. [и др.]; отв. ред. Т.В. Краснопольская, В.П. Орфинский. – Петрозаводск: изд-во ПетрГУ, 1997.
[Закрыть]
В дверях опустили гроб ногами на порог, пристукнули.
И вы несите-тко, да не тресите-тко,
И на пороженьки установите-тко
Мою законную семеюшку.
Вынесли на двор, вся деревня уже там стоит, молчит.
И ты простись-ко, моя законная семеюшка,
И с тепловитыим да гнездышком.
Еще, законная семеюшка,
И ты простись-ко с широкоей, зеленоей да уличкой…
Вынесли неспешно со двора, понесли по улице на берег.
И ты со многима добрыма людюшкамы
И с порядовныма соседушкамы.
Ведь почастешеньку с тобой да привоссиживали.
Мужики с гробом с улицы свернули, к пристани направились. Остальной люд деревенский по окольной дороге из деревни потопал на церковный мыс, сквозь еловый лес.
И сам ты знаешь, сам ты ведаешь,
И что один ты будешь одинешенек
И на тот-светноей да жирушки.
Поставили мужики гроб в рыбацкую лодку, сами на весла сели. Положено так – рыбака в последний путь по воде да в лодочке свезти.
Ты прирозыщи-тко своих родимыих родителей,
Ты передай от нас, победныих головушек,
И ты низкие поклончики.
Пока через губу-гавань деревенскую к храму гребли, народ уже дотопал, на берегу встречает.
Проросскажи про нашу жирушку-живленнице,
Про наше горюшко да горе горькое,
И как буду жить я, победная головушка,
Я горюша горе горькая.
Из лодки в церковь гроб перенесли, “со святыми упокой” батюшка отпел. Саваном накрыл Матвея, крестообразно землицей посыпал. Все по горсточке песка в могилу бросили, закопали Матти, крест на холмике поставили. Дед Лембоев щепоть землицы Мирье за шиворот кинул. Это чтоб поменьше тосковала она. И отправились обратно, к Мирье в избу, на поминки. Руки умыли, об печь погрели. Расселись за столы.
Налили отцу Моисею чашку бражки, поднесла вдова.
– Вот что я скажу вам, братцы, – начал тот, – можете верить мне, можете не верить. Дело ваше. Только нет для Бога мертвых, все живые. Мы вот Матвея закопали, а душа его сейчас где? Меж землей и небом. Мешают черти Матвеевой душе на небо взобраться. Потому что дал нам Бог свои дары – жизнь и свободу. Всем дал: и людям, и ангелам. А бесы – это ангелы упавшие, по своей воле зло избравшие. И для того жизнь и свобода нам дана, чтоб жили мы, не тужили б мы да не грешили бы. Коли с Господом в сердце живешь, чертям не служишь по свободной воле, то и воины ангельские в обиду твою душу не дадут, в рай проведут…
– А что за рай у тебя, отче? – спросил племянник Матти из-за дальнего стола. Он уж с утра дядьку брагой поминал. – Мы не знаем. У нас олени да тюлени на том свете, и даст нам Укко стрел и се́тей, чтоб их убить и изловить!
– Ты, Савватей, может, и будешь с лешими по чащобам продираться да с водяными среди волн барахтаться, а Мирье что прикажешь делать?
– Она Матвея встретит на полях Туонелы…
– Нет, сынок, не встретит. Потому как Матти во Христа верил, во славу Его тут жил, милостыню раздавал. И венец у них с женой один. В лучах любви Его греться да купаться. Вот ты, Савватеюшко, парень молодой, я слыхал, жениться собираешься. А невеста твоя, Марфа, еще моложе. Умна, весела, а уж красива да стройна куда как. Слава Богу, и мать с отцом у тебя живы, и братья-сестры у тебя есть. Все тебя любят, и ты любишь всех, и нет худа в той любви. Так вот представь себе, что рай – это не только кущи с яблоками или олени с тюленями, хотя и они не помеха, а вот такая вот любовь к тебе Божия вечная. Словно солнышко весеннее, только ярче и теплее, ласковее многажды. Трудно это представить, парень, в это поверить надо, да не каждому удается. Эх, да чего там! Молиться нам надо, ребята, чтоб добрался Матвей до Царствия Небесного!
Спустя девять дней встретил отец Моисей в Шуйской слободе купца Ивана Аверкиева, бывшего своего сослуживца, и тихонечко колечко предложил. По сходной цене. Тот обрадовался, купил не торгуясь. Кинулся к воеводе, мол, нашел я, вашбродь, княжеское колечко! Прошу светлейшему князю доложить, мол, купец Аверкиев Ванька, бывший государев пушкарь, нырял-нырял с причала да и нашел.
Воевода Ваньке сначала денег посулил, потом припугнул немного да и сторговал у того колечко. На то и купец Ванька, колечко продал воеводе втрое дороже, чем купил у отца Моисея, своего боевого товарища. Отправил воевода колечко в столицу с посыльным, в письме-докладе подробно изложил, какие меры принял для его поисков. Получил с тем же посыльным устную благодарность от светлейшего князя Меншикова, повеление и дальше служить с усердием и рвением плюс рубль на водку.
Отец Моисей же подушную за Рымбу уплатил, как обещал, Мирье и Николе остатки денег вернул. Мирья хоть на зиму запаслась, а Никола на церковь пожертвовал.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































