Текст книги "Замок Эпштейнов"
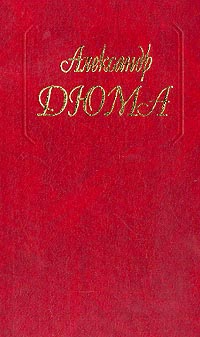
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
VI
На следующий день графиню облачили в роскошные одежды, возложили тело на кровать и поставили в парадной зале замка. Там она пролежала три дня. Потом гроб с ее телом перенесли в фамильный склеп Эпштейнов.
На следующее утро после похорон Альбины граф уехал в Вену, где остался на месяц.
За это время в замке были уничтожены все следы смерти, так что, когда граф вернулся, можно было подумать, что Альбина вообще никогда не существовала. Единственное, что от нее осталось, – бедный сиротка, о ком материнскую заботу взяла на себя Вильгельмина. Слуги безошибочным чутьем поняли, как угодить хозяину: нужно было делать так, чтобы все напоминавшее о графине не попадалось ему на глаза.
Но, несмотря на все эти предосторожности, Максимилиан не чувствовал себя спокойно, вновь очутившись один в старом замке (его возлюбленный сын Альбрехт находился в это время в одном из венских пансионов).
Тревога и волнение овладевали им всякий раз, когда, входя в фамильную комнату, называвшуюся красной, он оказывался или перед креслом, о которое ударилась головой графиня, или у той кровати, на которой она умерла. Тогда все воспоминания, связанные с Альбиной, вновь воскресали в душе графа и его охватывал невольный трепет.
Даже в те минуты, когда муки совести утихали, он не переставал чувствовать невыразимый, леденящий кровь ужас, словно исходивший от самих мрачных стен красной комнаты.
Однажды, ближе к ночи, граф сидел у себя в комнате. В тот вечер ему было особенно не по себе от буйных завываний ветра за окном. В большом камине ярко пылал огонь, с треском пожирая дубовые дрова. И все же вечный холод царил в этой огромной, пустынной комнате. На столе горел четырехсвечный канделябр, но ведь самое яркое пламя не могло осветить эти темные стены и высокий потолок. Все было так, как в ту ужасную рождественскую ночь, только кресло, где сидела Альбина, теперь пустовало.
Время от времени буря усиливалась; ураганный ветер с печальными стонами разбивался о стены, и казалось, что его нескончаемые жалобы умирают лишь для того, чтобы вновь родиться, затихают лишь для того, чтобы начаться снова.
Граф был смелым человеком. Если бы ему сказали, что порывы ветра могут заставить мужчину трепетать, он рассмеялся бы и назвал бы этого мужчину трусом. И все же сейчас он ничего не мог с собой поделать: ему было страшно.
В задумчивости он мерил шагами комнату, уронив голову на грудь и обхватив рукой подбородок. Так он ходил взад и вперед, стараясь не покидать светового круга, отбрасываемого пламенем свечей.
Но время от времени глаза его тревожно вглядывались в темные углы комнаты и в тяжелые складки колеблемых ветром штор.
«Проклятое воображение, – содрогался граф, – это из-за него в долгих завываниях ветра мне слышатся отчаянные стоны тех, кто ушел из этого мира, непрерывно нарастающий плач душ, что реет порою над безучастной природой. Бессильные рыдания сотрясают леса и разбиваются о горы; это страшные призывы тех, кто лежит в могиле, к тем, кто еще ходит по земле!»
Объятый дрожью ужаса, граф остановился и облокотился на каминную доску. С ним происходило то, что всегда бывает с человеком в подобных обстоятельствах: попав под власть одной мысли, он уже не мог от нее избавиться.
«Среди этих стонущих мертвецов, – продолжал он про себя, – есть, быть может, и души моих родных; это они так тоскливо плачут в коридорах замка. Увы! Их много: неумолимая коса смерти собрала богатую жатву в этих стенах. О, горе мне! Не говоря о предках – тех, которых я не знал, моя матушка тоже лежит здесь! Святая женщина, как много страданий я причинил ей! Чем ласковее и добрее она была, тем непокорнее и своевольнее был я. Сколько ночей она провела на коленях, то увещевая меня, то пытаясь смирить гнев отца. И он, мой отец, тоже лежит в сырой земле, и если он сошел в могилу раньше срока, то, может быть, – о Господи Всевышний! – я был тому виной. Граф Рудольф был человеком благородным, но суровым и непреклонным. Все же напрасно он принимал так близко к сердцу бурные проказы моей молодости. И моего брата, наверное, тоже уже нет в живых, ведь со дня его отъезда от него не было никаких вестей. Бедный Конрад! Ах, что бы ни говорили мои родители, я любил его, мне нравилась его нежная и поэтичная душа. Отец проклял его за то, что он женился на простой девушке, а Конрад, видно, не смог перенести отцовского гнева. Всех ли я перечислил? О нет, скорбный список еще не окончен. Была еще Берта, моя первая жена. Имя – вот все, что осталось от нее. Даже живая, она была подобна тени и прошла незаметно, оставив дому Эпштейнов – благодарение Богу! – старшего сына и наследника. И наконец, есть еще одна…»
Граф Максимилиан прервал себя. Ему не хватало воздуху; хоть он и опирался на камин, ноги его подкашивались. Без сил он рухнул в кресло, но его губы продолжали шевелиться, а мысль – лихорадочно работать.
– Да, есть еще одна, – произнес он, с трудом переводя дыхание, – Альбина. Альбина, которая обманула меня… О! Она, должно быть, стонет громче других, ибо умерла не своей смертью, не так, как Берта. Альбину погубила моя ревность, я убил ее – не шпагой, а моим гневом. Ну так что ж! Пусть я убил ее – а точнее, наказал, – я не раскаиваюсь в этом. Нет! Если бы все можно было вернуть назад, я поступил бы точно так же.
В эту секунду ветер завыл с небывалой тоской. Граф встал, бледный и застывший.
– Как здесь холодно! – громко сказал он.
И ударом ноги подбросил в камин толстое дубовое полено.
– Как здесь темно! – продолжал он.
И зажег второй канделябр, стоявший на камине.
Но тщетно: холод был у него в душе, мрак был в его совести.
Граф попытался отогнать темные мысли, но они теснились в его голове, словно совы, бьющиеся о стену склепа. Тогда он призвал на помощь самое сильное средство – свою гордыню.
«Опомнись, Максимилиан, – сказал он себе, проводя рукой по лбу. – Опомнись, ты же мужчина. К черту все эти фантазии! Надо написать письмо Кауницу; это отвлечет меня».
Граф сел за письменный стол, взял перо и написал дату:
«24 января 1794 года».
Перо выскользнуло у него из рук.
– Сегодня ровно месяц, как она умерла, – прошептал он.
Максимилиан встал, резко оттолкнув кресло.
Неимоверная тоска сжала его сердце. Тогда он стал ходить по комнате, пытаясь выйти из оцепенения и снова собраться с мыслями. Но словно какой-то внутренний голос мрачно твердил ему, что вот-вот должно произойти что-то страшное, необъяснимое, неожиданное, чего нельзя победить в борьбе, от чего нельзя спастись бегством. Вдруг он услышал в зловещей тишине, нарушаемой лишь тоскливыми стонами ветра, бешеные удары собственного сердца. Это ужаснуло его.
Есть минуты, когда даже самых сильных людей охватывает чувство непреодолимого страха. И сейчас было такое же: каждый звук, нарушавший ночную тишину, пронзал этого храброго человека словно электрический удар: скрип часов, готовых пробить двенадцать, последний их удар, возвестивший о наступлении 25 января, шорох искр, упавших из камина на паркет. Далекий вой одной из его собак на псарне наполнил бесстрашную душу графа непреодолимым ужасом. Вскоре он стал бояться звука собственных шагов и замер неподвижно, прижавшись к стене. Но потом и сама эта неподвижность показалась ему зловещей; он нервно потер руки, покачал головой.
Максимилиан ждал появления чего-то грозного и чувствовал, что оно уже близко. Невидимые кошмары наполняли мрачную комнату. В тишине и мраке оживал мир, неподвластный человеческим чувствам, недоступный слуху, зрению и осязанию. В воображении графа воскресли ужасы поэмы Алигьери, живописи Микеланджело, музыки Вебера; все это носилось вокруг головы Максимилиана, наполняло собой атмосферу комнаты. Перед этими жуткими видениями рассудок графа был бессилен.
Постепенно в сознании Максимилиана смутно забрезжило страшное воспоминание. Он вспомнил мрачную легенду о графине Леоноре, умершей в рождественскую ночь; вспомнил, что накануне Рождества наступила смерть Альбины; вспомнил, что, согласно пророчеству, та графиня фон Эпштейн, которая умрет в рождественскую ночь, умрет лишь наполовину.
И тогда из темных глубин его души донесся голос Альбины:
– А если ты был не прав, Максимилиан, если я была невинной жертвой, а ты – не судьей, а убийцей?
Двадцать раз, медленно и торжественно, голос повторил эти слова, и они, словно капли расплавленного свинца, как говорил Данте, тяжко упали в душу Максимилиана.
Граф собрал все свои силы, чтобы противостоять страшному проклятию.
– Что за безумный бред! – произнес он громко, пытаясь заглушить чуть слышно звучащий в глубине его сердца голос.
Но тут внезапно, словно в ответ на слова покойной, тишину прорезал крик ребенка. На этот раз ошибиться было невозможно: крик был настоящий. Несмолкаемый детский плач доносился из верхней комнаты.
«Ну вот, – подумал граф, – сначала мать, потом сын. Это Эберхард, ее сын, но для меня это чужой ребенок, враг, которого я должен терпеть в своем доме до тех пор, пока он не вырастет, которого я вынужден видеть рядом со своим сыном: иначе позор его матери падет на меня». – Да когда же он замолчит?! – злобно воскликнул граф. – Где же Вильгельмина? Неужели она оставила его одного? Вот как она выполняет последнюю просьбу своей подруги! – добавил он с кривой усмешкой.
Голос ребенка внушал Максимилиану гораздо меньше страха, нежели голос матери. Он с раздражением ждал, когда младенец замолчит, но тот продолжал плакать. Граф взял шпагу, поднялся по лестнице, ведущей в библиотеку, и постучал в потолок, чтобы разбудить кормилицу, если она заснула.
Плач не умолкал.
Вскоре гнев Максимилиана утих; но им снова овладела тоска. Сердце у него заныло – эти непрекращающиеся крики сводили его с ума. Казалось, будто кто-то, взывая к Богу, оплакивал смерть матери и несчастную долю младенца.
Граф хотел скрыться от этих криков – но скрыться было некуда.
Он хотел позвать слуг – но язык не повиновался ему.
Он взял было колокольчик, но тут же положил его обратно на стол. Да и кто мог прийти на его зов? В замке все спали, за исключением сироты и убийцы.
Поскольку Максимилиан не подбрасывал дров в камин, огонь вскоре потух и комната погрузилась во тьму. Только дрожащее пламя свечей боролось с наступающим мраком. За окном по-прежнему выл ветер, наверху не смолкал плач ребенка. Графу стало холодно и жутко. Словно в забытьи, он коснулся лба и быстро отдернул руку: ледяные пальцы обожглись об его пылавшее лицо.
Новый приступ страха вывел графа из задумчивости. И тогда раздался смех Максимилиана, но это был невеселый, какой-то дьявольский смех.
– О, проклятье! Я, кажется, схожу с ума. Надо же пойти посмотреть, почему он плачет; нет ничего проще.
Граф решительным шагом подошел к стене и нащупал пальцем спрятанную в обшивке пружину: перед ним открылась маленькая потайная дверца.
Она вела на узкую каменную лестницу – о ее существовании знали только члены семьи Эпштейн, передавая эту тайну из поколения в поколение. Лестница имела два выхода: в верхний этаж, где плакал ребенок, и в склеп замка, где покоились предки Максимилиана. Словно шпионская сеть, от которой никто не может ускользнуть, лестница оплетала замок.
Дверь распахнулась, и в лицо Максимилиану ударил ледяной ветер, идущий словно из-под земли. Все четыре свечи канделябра, что он держал в руках, погасли. Смертельная бледность покрыла лицо графа, волосы встали дыбом, и он окаменел на пороге.
В глубине лестницы, о существовании которой никто кроме него не знал и на которую никто не мог проникнуть, он отчетливо услышал шуршание женского платья. Прямо перед ним в темноте неслышно скользнула какая-то белая тень.
Ребенок кричал… От всего пережитого ужаса у графа подкосились ноги, и, чтобы не упасть, он прислонился к стене.
Максимилиан и сам не мог бы сказать, сколько времени он провел в беспамятстве: есть мгновения, которые кажутся годами. Через минуту, а может быть, через час, он очнулся, обливаясь холодным потом, и прислушался.
Крики смолкли. Ветер тоже утих.
Нечеловеческим усилием воли граф преодолел страх. Он подобрал упавший канделябр, зажег свечи, обнажил свою шпагу и стал подниматься по лестнице вверх, туда, где раньше плакал ребенок.
Когда граф открыл потайную дверь, ведущую в верхний этаж, канделябр, который он держал в левой руке, снова погас, но на этот раз причиной тому был не поток воздуха, не порыв ветра, а нечто необъяснимое. Тем временем из-за облаков показалась луна, и бледный луч проник в комнату через высокое окно, озарив своим мертвенным светом жуткую картину.
Вильгельмины действительно не было в комнате. Но граф увидел мертвую Альбину! Она стояла возле колыбельки своего сына и тихо покачивала ее; слышалось сонное бормотание засыпающего младенца. Это действительно была Альбина – Максимилиан узнал ее!
На ней было то же самое белое платье, в котором ее положили в гроб. Шею графини обвивала цепочка из золотых колец, доставшаяся ей в наследство от матери.
Альбина была столь же красива, как и при жизни, а может быть, еще лучше. Да, смерть сделала ее прекраснее. Роскошные черные волосы падали на ее белые почти прозрачные плечи. Вокруг чела вилась светлая дымка, тихое сияние исходило из ее глаз, лучезарна была ее улыбка.
Когда Максимилиан появился на пороге, графиня обратила на него гордый и спокойный взгляд и, продолжая качать колыбельку, поднесла палец к губам, будто призывая его к молчанию.
Граф невольно хотел перекреститься той рукой, в которой держал шпагу, но рука его застыла в воздухе как парализованная…
Губы мертвой зашевелились!
– Крестным знамением защищаются от дьявола, а не от праведников, – произнесла она грустно, и ее голос прозвучал словно небесная музыка. – Неужели вы думаете, Максимилиан, что Бог позволил бы мне прийти к моему ребенку, не будь я его избранницей?
– Избранницей? – прошептал Максимилиан.
– Да, ибо Бог справедлив и знает, что я всегда была верной и непорочной супругой. Я сказала вам об этом, когда умирала, но вы не поверили мне. Сейчас, когда Господь принял меня в свое лоно, я повторяю: я была верна вам, а мертвые не лгут. Теперь вы верите мне, Максимилиан?
– Да, но этот ребенок?.. – пробормотал граф, указывая острием шпаги на младенца.
– Это ваш ребенок, Максимилиан, – ответила графиня. – Когда я была жива, обстоятельства были против меня, но теперь, когда я умерла, само появление здесь, по-моему, меня оправдывает. Повторяю вам, граф: это наш ребенок и наш законный сын.
– Так это правда? Это правда? – растерянно повторял Максимилиан; казалось, он утратил способность рассуждать, и говорить его заставляет какая-то неодолимая сила.
Помолчав с минуту, он неуверенно спросил:
– А этот человек – капитан Жак? Кто он?
– В один прекрасный день вы узнаете об этом, но, вероятно, будет уже поздно. Как раньше живая, так и теперь мертвая я связана клятвой. Скажу вам лишь одно: этот человек мог быть мне только братом.
– Так значит, я несправедливо подозревал вас? – воскликнул Максимилиан. – Но почему же тогда вы не отомстили мне?
При слове «месть» Альбина улыбнулась.
– Я прощаю вам мою смерть, Максимилиан. Бури человеческих страстей далеки от небесных сфер, где я теперь пребываю. Но смирите ваш буйный нрав, Максимилиан, не обижайте своего сына. И никогда не поднимайте на него руку так, как вы ее однажды подняли на меня. Знайте, что Господь позволил мне навещать моего ребенка даже с того света, и я буду наблюдать и за сыном, и за отцом, чтобы в случае необходимости защитить одного и покарать другого – ведь я умерла в ночь на Рождество.
– Боже Всемогущий! – прошептал Максимилиан.
– Вильгельмина, милая кормилица Эберхарда, – серьезно продолжала графиня, – вынуждена была сегодня остаться у постели раненого мужа. А поскольку мой ребенок плакал, я сама пришла успокоить и убаюкать его… Вильгельмина вернется с минуты на минуту. Мне пора спускаться в склеп, но помните, Максимилиан, как только я услышу крик моего сына, я снова приду. Прощайте же!
– Альбина! Альбина! – воскликнул граф.
– Прощай, Максимилиан, – торжественно произнесла графиня. – Постарайся, чтобы наша встреча не повторилась. Прощай и храни молчание. Не забывай, не забывай о том, что я сказала!
Тень Альбины отделилась от колыбельки, где уже, улыбаясь, спал маленький Эберхард, приблизилась к Максимилиану, посторонившемуся, чтобы дать ей пройти, снова приложила палец к губам и исчезла на потайной лестнице.
Граф был настолько потрясен всем увиденным, что плохо помнил свои дальнейшие действия. Услышав приближающиеся шаги кормилицы, он, словно во сне, вышел на лестницу и закрыл за собой потайную дверцу. Затем, ведомый безотчетным инстинктом, который порой приходит на помощь человеку, утратившему способность трезво рассуждать, граф бесшумно вернулся к себе в комнату. Как бы то ни было, на следующий день он, полностью одетый, проснулся на своей кровати после лихорадочного сна.
«Мне привиделся кошмар», – сказал он себе.
Однако, когда граф расспросил Вильгельмину, та подтвердила, что провела часть прошлой ночи у постели раненого мужа. Она рассказала, что, днем на охоте Йонатас догнал кабана и спустил на него свору собак, но зверь внезапно бросился на охотника и распорол ему ногу. Вернувшись в замок ночью, Вильгельмина обнаружила, что ребенок спокойно спит.
Значит, графу не пригрезилось то, что было ночью: он действительно видел призрака. Но эта мысль казалась ему настолько ужасающей, что он упорно твердил себе: «Я спал, я видел сон».
VII
За последние пять лет, радостных и мрачных (чаще мрачных, чем радостных), события в замке Эпштейнов развивались стремительно, но после появления призрака Альбины жизнь здесь словно замерла. Еще со времени страшной рождественской ночи пребывание в замке стало для Максимилиана невыносимым. Теперь же каждую ночь он в ужасе просыпался и ему все слышались шаги за стеной, на потайной лестнице. Днем его бросало в дрожь всякий раз, когда он случайно наталкивался на Вильгельмину с ребенком. Наконец граф не выдержал: замученный угрызениями совести, он приказал в одно прекрасное утро подать карету и час спустя был уже на пути в Вену, увозя с собой старшего сына.
С этого момента все его надежды и вся его нежность сосредоточились на Альбрехте. Этот ребенок, по крайней мере, был точно его сыном, и Максимилиан любил мечтать о том, что однажды Альбрехт по праву станет главой дома Эпштейнов, унаследует титул отца и сможет воплотить в жизнь его честолюбивые планы. Граф решил дать сыну блестящее образование, какое подобает иметь дворянину, офицеру и дипломату, особенно дипломату. К тому же этот сын, любимый и единственный (младший брат его был не в счет), в отличие от своего отца, ничего не потерял от союза со Швальбахами – союза, безусловно несчастливого с точки зрения семейной жизни, но давшего немалые выгоды: Швальбахи были весьма влиятельны и обладали превосходными родственными связями. В Вене о печальной кончине Альбины было известно только то, что она умерла при родах, и все оплакивали судьбу несчастного графа, который овдовел, не прожив и двух лет с молодой женой.
«Бесчестье еще не беда, если о нем никто не знает», – говорил себе Максимилиан.
Но совесть его была все же неспокойна. И он искал забвения в шумных придворных развлечениях, в честолюбивых мечтах о будущем своем и своего старшего сына.
Об Эберхарде (такое имя капеллан дал сыну Альбины при крещении) – об этом чужом ребенке – граф фон Эпштейн нимало не заботился и вспоминал о нем так же редко, как о своем брате Конраде, о своей первой жене или о Гретхен. В Вене был пущен слух, что у младшего сына слабое здоровье и что мальчику необходим чистый горный воздух. Это был еще один повод пожалеть несчастного отца, вынужденного пребывать в разлуке с одним из сыновей.
К счастью, пока Максимилиан принимал эти соболезнования, делая между тем все возможное, чтобы использовать связи родственников Альбины, Эберхард обрел вторую мать. Каждый день Вильгельмина перечитывала письмо графини и ревностно исполняла священную волю своей благодетельницы. Невзирая на холодное презрение, с которым ее встретил граф, Вильгельмина – великодушным людям свойственно прощать – с удвоенной нежностью и любовью ухаживала за сыном Альбины, уделяя ему едва ли не больше внимания и любви, чем своей собственной дочери. Розамунду она отняла от груди семимесячной, но приемного сына продолжала кормить больше года.
– Ну пойми же, Йонатас, – говорила она мужу, который немного ревновал, видя, что Вильгельмина оказывает предпочтение мальчику, – наша дочь всегда останется нашей, мы ни перед кем за нее не в ответе. Но если мы обидим бедного сироту, у которого нет в мире никого, кроме нас с тобой и Господа Бога – ведь мать его умерла, а отец о нем забыл, – что подумает наша госпожа?.. К тому же малыш такой слабенький, а Розамунда растет сильной и здоровой девочкой.
Итак, Вильгельмина стала для Эберхарда самой нежной и заботливой матерью. За исключением рокового для Максимилиана вечера, когда она должна была оставить малыша, чтобы присмотреть за раненым мужем, Вильгельмина не покидала Эберхарда ни на минуту. Благодаря ее неусыпным заботам, мальчик так быстро окреп, что это было похоже на чудо. Сердце радовалось при виде этих двух созданий, очаровательных, белокурых, резвых.
Шли годы. Эберхард рос непоседливым и немного нелюдимым мальчиком. Вместе со своей молочной сестрой он быстро выучился читать и писать, но, поскольку Розамунду не обучали ни латыни, ни истории, он слышать о них не хотел, несмотря на все усилия капеллана отца Алоизиуса. Гораздо больше ему нравилось резвиться в лесу вместе с Розамундой или бежать рядом с Йонатасом, сопровождая его на охоту. По вечерам Вильгельмина вязала, а он, сидя у ее ног вместе с Розамундой, затаив дыхание слушал сказки про фей и привидения (их рассказывали Йонатас и старый Гаспар) – какое это было счастье!
Умственное развитие Эберхарда шло довольно медленно, но зато сердце у него было поистине золотое. Вильгельмина воспитала мальчика так, как завещала ее госпожа. Да, по правде говоря, Эберхарду достаточно было просто наблюдать за этой святой женщиной, чтобы самому стать добрым и великодушным. Позже, когда малыш начал кое-что понимать, Вильгельмина каждый день, утром и вечером, стала водить его молиться на могилу матери, в семейный склеп Эпштейнов. После молитвы она всякий раз повторяла ему, что его мать была ангелом, который оставил его на земле, но наблюдает за ним с неба.
– Помните, Эберхард, – говорила она ему, – что ваша матушка видит вас каждую минуту, повсюду следует за вами, наблюдает за каждым вашим движением. Она радуется вашим добрым делам и расстраивается, если вы поступаете дурно. Тело ее покоится в могиле, но ее душа – вместе с вами, где бы вы ни были.
Чтобы не огорчать свою матушку, ребенок старался быть добрым и послушным. Когда он допускал какую-нибудь невинную шалость, он краснел и оглядывался, словно чувствуя на себе грустный взгляд невидимого свидетеля. Мысль о матери превратилась для него в своего рода религию. Детское воображение рисовало ему в ночной тишине светлый призрак, который стоял возле его кроватки и с любовью смотрел на него, и это видение вовсе не внушало мальчику страха. А может быть, – кто знает? – это было не только плодом его воображения? Ребенок протягивал к призраку руки, но тот говорил ему:
– Спи, мой мальчик, спи, Эберхард, маленьким детям пора спать.
Тогда малыш сладко засыпал, и в такие ночи ему снились чудесные сны. Наутро он рассказывал об увиденном Вильгельмине. Достойная женщина, не видя в этом ничего тревожного, никогда не разуверяла его. Да и о чем было тревожиться? Если мальчик верил в существование своего ангела-хранителя, что же в этом было плохого? Ведь Вильгельмина и сама верила в него.
«Госпожа обещала, что не оставит ни младенца, ни кормилицу», – думала она.
Нередко Вильгельмина мысленно разговаривала со своей бывшей хозяйкой, прося у нее помощи или совета. Эберхард тоже привык обращаться к матери так, как верующие обращаются к Богу. В сердце Вильгельмины и Эберхарда Альбина продолжала жить.
Но мы еще ничего не сказали о маленькой Розамунде. Между тем она подрастала и превратилась в настоящего доброго и ласкового ангелочка. Это было очаровательное, нежное, милое существо. Эберхард обожал ее и во всем ей уступал. У Вильгельмины слезы наворачивались на глаза, когда она видела детей вдвоем в часовне: они стояли на коленях впереди нее; она молилась за них, а они молились за нее.
Семь лет граф Максимилиан не появлялся в замке – его закружила столичная жизнь. И вот спустя годы наконец он вернулся на две недели, но не для того, чтобы повидать сына. Граф приехал собрать плату с арендаторов и возобновить договоры с ними. О существовании Эберхарда он едва вспоминал; все его мысли были сосредоточены на Альбрехте, который, к слову сказать, во всем походил на отца и за эти дни успел сыграть немало злых шуток с Эберхардом и с другими обитателями замка.
Капеллан счел своим долгом сообщить Максимилиану о том, что его младший сын не слишком прилежен в науках.
– Ах, Боже мой, да оставьте его в покое, – сказал граф, к великому недоумению отца Алоизиуса, – предоставьте его самому себе, пусть делает что хочет. Меня совершенно не интересует, что из него получится. Да и зачем образование человеку, у которого нет будущего?
Пробыв в замке неделю, граф Максимилиан с Альбрехтом отбыл в Вену.
Еще два года прошли спокойно и счастливо. Жилище смотрителя охоты наполнял звонкий и чистый детский смех. Эберхарду и Розамунде исполнилось десять лет. Внезапная смерть отца Алоизиуса возвестила, что беда вновь вернулась в замок Эпштейнов. Почтенный старец тихо угас, перелистывая какой-то ин-фолио; думали, что он заснул над книгой, но он больше не проснулся. Это была первая потеря в жизни Эберхарда. Мальчик горько оплакал смерть любимого и столь снисходительного к нему учителя.
Увы, это была еще небольшая беда по сравнению с теми испытаниями, что ожидали бедного ребенка впереди! Отец Алоизиус прожил долгую и добродетельную жизнь, пережив многих своих ровесников: и граф Рудольф, и графиня Гертруда уже десять лет как покоились в сырой земле; капеллан был последним из этого старшего поколения. Смерть старика ни для кого не была неожиданностью; но Вильгельмина, наша добрая и заботливая хозяйка, была еще совсем молода! Она была душой всей семьи, она была так нужна детям!
Однако Бог призвал ее к себе почти сразу же после старого капеллана, хотя ему было восемьдесят лет, а ей только двадцать девять. В семье Вильгельмины все умирали рано – и ее мать, и, вероятно, сестра Ноэми. Теперь за ними последовала Вильгельмина, воссоединившись в лучшем мире со своей госпожой, которой она осталась верна до самой смерти.
Впрочем, Вильгельмина была нездорова уже давно. Несмотря на ее свежий вид, отец Алоизиус обнаружил у нее признаки той болезни, которой подвержены люди с хрупким телом и печальной душой. С каждым днем лицо Вильгельмины все больше и больше покрывалось болезненной бледностью, а красные пятна, выступавшие на ее щеках при малейшем волнении, становились все ярче. Осенью она заметно слабела. Вильгельмина словно жила и умирала вместе с цветами, и, когда умирали лилии, подарившие ей свою белизну и застенчивость, и розы, подарившие ей бледный румянец и благоухание, – она увядала вместе с ними. Весной наступало кажущееся улучшение; Вильгельмина оживала вместе с природой, но от весеннего кипения жизни ее лихорадило еще сильнее. Дети не понимали, что означает румянец на ее щеках, и, ласкаясь к ней говорили:
– Какая ты красивая, мамочка!
Слушая эти слова, Вильгельмина грустно улыбалась. Она знала о своей болезни и не обманывала себя. Прижав своих дорогих детей к сердцу, она тихо плакала.
– Почему ты плачешь? – удивленно спрашивали дети.
– Это от счастья, – отвечала Вильгельмина.
В начале 1802 года Вильгельмина почувствовала сильную слабость и поняла, что ее конец уже недалек. Тогда она решила беречь силы, и ради этого ей пришлось отказаться от долгих прогулок по лесу, которые так радовали детей. Она почти не выходила из своей комнаты, но никто и никогда не слышал от нее жалоб: она боялась выдать свою болезнь, чтобы не опечалить семейство. Вильгельмина повесила у себя в комнате белые шторы, повсюду расставила цветы и освященные на Пасху веточки вербы, так что ее жилище стало похоже на те алтари, которые возводят в деревнях на праздник Тела Господня, чтобы Бог мог остановиться на минутку в этом временном пристанище, наполненном запахами ладана и цветов.
Из всей семьи только старый Гаспар, сам уже стоявший на краю могилы, чувствовал, что в дом прокралась смерть. Чудесными летними вечерами старик сидел на пороге своего домика, ожидая возвращения Йонатаса и глядя, как дети играют в лучах заходящего солнца: бегают по лужайке, собирают спрятавшиеся в лесной траве маргаритки, гоняются за насекомыми, жужжащими в вечернем воздухе. Иногда на пороге неожиданно появлялась Вильгельмина. Словно бледный призрак, она бесшумно садилась рядом с отцом и склоняла голову на его дрожащие колени. Не отрывая взгляда от неба, старик гладил дочь по волосам, и Вильгельмина чувствовала, что руки его трясутся. Тогда она еле слышно говорила, будто отвечая на свои мысли:
– Что ж, батюшка, должно быть, это к лучшему, раз так угодно Богу.
Но старик ничего не отвечал, потому что никакой отец не поверит, что Бог может желать смерти его ребенка.
А дети между тем ничего не замечали. Они пели, играли и были счастливы. Наконец Йонатас тоже заметил недомогание Вильгельмины – и страшное подозрение закралось в его душу. Он сказал об этом тестю, и старик признался ему в том, что для него давно уже не было тайной. На следующий день Йонатас будто бы уехал осматривать лесные угодья, а в полдень вернулся в сопровождении врача, привезенного им из Франкфурта. Увидев врача, Вильгельмина поняла, что муж обо всем знает, и ей стало грустно.
Будь Вильгельмина богата, врач скрыл бы от нее страшную правду, обнадежил бы ее родных, чтобы иметь возможность еще раз навестить больную. Но бедняки обладают тем преимуществом, что могут сразу узнать такую истину: врач сказал все.
Сначала Йонатас не поверил, ведь он думал, что речь идет о легком недомогании, не более того. Мысль о том, что его дорогая Вильгельмина может умереть такой молодой, не укладывалась у него в голове. Тогда он сам внимательно осмотрел жену и увидел наконец ужасные следы разрушений, которые оставила болезнь. Тогда, как все сильные люди, привыкшие переносить физические лишения, но не умеющие преодолевать душевных потрясений, Йонатас пришел в отчаяние. Весь день и весь вечер он, не говоря ни слова, смотрел на Вильгельмину, а ночь просидел не сомкнув глаз у дверей ее комнаты. С наступлением утра он, как обычно, взял свое ружье и вышел из дома, но не смог пройти и четырех шагов. Он вернулся, снова повесил ружье на стену. Когда Вильгельмина встала (а она с каждым днем вставала все позднее), она увидела, что муж сидит на скамеечке перед камином, обхватив голову руками. Несчастная женщина подошла к нему.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































