Текст книги "Замок Эпштейнов"
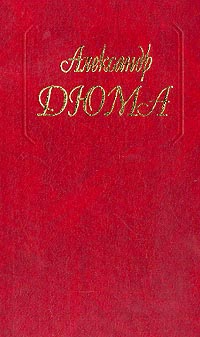
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
III
Через неделю, как и рассчитывал Конрад, Эберхард вернулся из Майнца. За одну эту неделю он узнал свой родной край лучше, чем за все предшествующие годы.
Перед тем как направиться домой, Эберхард, по обыкновению, зашел в свое лесное пристанище. Там он сел и задумался.
Сколько всего произошло за этот месяц! Отъезд Йонатаса, появление Конрада, необыкновенные его рассказы, смерть Гаспара, возвращение Розамунды, признание дядюшки о его первом возвращении в замок Эпштейнов, за полгода до появления Эберхарда на свет. Перед мальчиком открылся реальный мир, прояснилось прошлое, но будущее было окутано тайной. Сколько впереди событий, сколько новых замыслов!
Особенно его занимало то, что он узнал от Конрада о своей матушке. Конечно, и старый Гаспар, и Йонатас много рассказывали ему об Альбине, но в этих воспоминаниях были искажения – у одного от старости, у другого от ограниченности – в то время как Конрад воскресил ее образ, запечатленный глазами брата, сердцем поэта и душой мечтателя.
Да еще эта странная история любви Конрада и Ноэми! Рассказ о союзе между замком и хижиной, о судьбе другого человека заставлял его сердце бешено стучать. В этой истории угадывалось пророческое предсказание его собственного будущего. Удивительно: судьба Конрада, которая должна была, казалось бы, стать для Эберхарда маяком, указывающим на опасный риф, завораживала его как обещание, кружила ему голову. Бог словно преднамеренно посылал ему устрашающее предостережение, но Эберхард видел в нем готовое оправдание, ведь Конрад любил Ноэми. Некий молодой человек, граф фон Эпштейн, в одно прекрасное утро вышел из замка и встретил бедную, безродную девушку из домика смотрителя охоты Гаспара. Он полюбил ее и женился на ней – вот что понимал во всей этой истории Эберхард.
Сотни мыслей вертелись, кружились, перепутывались в голове Эберхарда. Мальчик был словно в лихорадке; он чувствовал, как повзрослел, как в нем что-то изменилось. Он был горд от сознания собственной силы. Все свои смутные порывы, неясные надежды, неведомую доселе тоску он поверил матушке в исступленном, впервые ощущаемом восторге. Сам не зная почему, Эберхард был счастлив. Всю жизнь он только мечтал – теперь ему хотелось действовать. Он быстро и легко схватил суть всего нового, что узнал за последнее время, и если он еще не был способен что-то осуществить, то его мысли было подвластно все. Что теперь ему не по силам? Что может остановить его? Что может его устрашить?
Внезапно ему в голову пришла мысль, что он находится всего в полумиле от домика смотрителя охоты и совсем скоро он увидит Розамунду. Он замер и побледнел.
Конечно, все остальное в этом мире было ему под силу. Но хватит ли его смелости на то, чтобы показаться на глаза Розамунде, такой красивой, взрослой, умной? И инстинктивно, не отдавая себе отчета в том, что он делает, Эберхард, вместо того чтобы, как обычно, направиться к домику, повернул в сторону замка.
Уже вечерело, когда Эберхард, машинально толкнув калитку, оказался в парке. Глубоко погруженный в мысли о том, что он узнал, и о том, что надеялся совершить, наш мечтатель не заметил, что во дворах и коридорах замка царит необычное оживление.
Полностью поглощенный своими мечтами, которые всегда отделяли его от окружающего мира, если только этим миром не был дорогой его сердцу лес, ничего не видя и не слыша, он вошел в большой зал. Голова его была опущена, лицо бледно; но, как мы сказали, душа его ощущала себя гордой и смелой, все его существо словно обновилось.
– Господин Эберхард, – объявил слуга, открывая перед ним двери красной комнаты.
Мальчик вошел, не понимая, почему о его приходе объявляют во всеуслышание. Какой-то незнакомый Эберхарду высокий человек сидел перед ярко пылающим камином (из-за непомерной толщины стен в комнате всегда было прохладно, поэтому огонь здесь горел в любое время года). Но пламени камина было все-таки недостаточно, чтобы осветить помещение, и лакей зажег четыре свечи в канделябре; их света едва хватало на треть огромной комнаты, и по темным углам продолжали бродить огромные тени.
– Ах, так вот он какой – господин Эберхард! – насмешливо воскликнул незнакомец, вставая ему навстречу. Мальчика поразило то, что этот человек как будто совсем освоился здесь, в комнате, где жила его мать и где она умерла.
– Да, это я, – сказал он. – А что случилось и что вам угодно?
– Что случилось? Что мне угодно? Мне угодно знать, где вы были, бродяга!
– Я был там, где хотел быть, – ответил Эберхард. – Мне всегда казалось, что я свободный человек и никому не обязан давать отчета.
– Что за дерзости? – сказал незнакомец, нахмурясь и сжав спинку кресла. – Может быть, сударь, вам неизвестно, с кем вы говорите?
– По правде говоря, неизвестно, – самым искренним тоном ответил Эберхард, все больше и больше удивляясь.
– Как?! Вы осмеливаетесь отвечать насмешкой на мои вопросы, шутить в ответ на мои обвинения?
– Может быть, поскольку я не совсем понимаю, почему вы считаете себя вправе расспрашивать меня и предъявлять мне обвинения.
– Почему я считаю себя вправе?.. Да вы с ума сошли, сударь мой! Я граф Максимилиан фон Эпштейн… я… ваш отец.
– Вы граф фон Эпштейн? Вы мой отец?! – воскликнул пораженный Эберхард.
– Вот как! Вы не узнали меня? Что ж, вы нашли очень удачное извинение, особенно для сына.
– Послушайте, ваша милость, уверяю вас, что в такой темноте… К тому же я так долго не имел чести вас видеть…
– Замолчите! – закричал граф, придя в ярость от слов Эберхарда, уязвивших его совесть. – Замолчите и будьте любезны отвечать как подобает послушному сыну, а не как взбалмошный мальчишка!
Граф замолчал. Эберхард стоял, сняв шляпу, и молча ждал. Он покраснел, и в глазах у него стояли слезы. Граф Максимилиан, гнев которого нарастал подобно морскому приливу, ходил взад и вперед по комнате, изредка останавливаясь и поглядывая на мальчишку, которого он только что против своей воли назвал сыном – здесь, в комнате его матери, в комнате Альбины, на том самом месте, где пятнадцать лет назад виновная пала жертвой его гнева, не затухающего и по сей день. Максимилиан ненавидел этого ребенка как кровного врага, он не мог простить ему мучивших его порой угрызений совести, он не мог простить ему и той ужасной ночи, когда ему привиделась мертвая Альбина, качавшая свое дитя в колыбели. Он внезапно остановился перед мальчиком и, побагровев, как будто тот мог прочитать терзавшие графа мысли, скрестил руки на груди и закричал:
– Да отвечайте же!
– Мне послышалось, что вы просили меня замолчать, – ответил Эберхард.
– Я так сказал? Ну хорошо. А теперь я приказываю вам говорить. Так где же вы были? Почему вы пропадаете по целым неделям? Пять дней назад я приехал, послал за вами, а мне отвечают, что никому не известно, где вы находитесь, что сначала вы были на похоронах какого-то плебея, а потом уехали с каким-то бродягой.
– Сударь, я был на похоронах Гаспара Мюдена и…
– Так, значит, вы, граф фон Эпштейн, шли за гробом крестьянина? Прекрасно! Ну, а после этого акта любви к народу куда вы отправились? Отвечайте… Да отвечайте же, черт побери!
– Прошу меня простить, ваша милость, – тихо сказал Эберхард, – но я покидал замок на целые дни и даже недели, потому что знал, что это никого не обеспокоит.
В этих бесхитростных словах, вся сила которых состояла в их искренности, граф усмотрел намек на то, что он совсем забыл о сыне. И действительно, кошмар положения этого отца заключался в том, что мальчик не мог сказать ни слова, чтобы граф не почувствовал себя оскорбленным. Читатель уже видел Максимилиана в гневе и может себе представить ярость, в которую его повергла ирония, невольно прозвучавшая в словах Эберхарда. Грозно наступая на того, кого он считал самозванцем в семействе Эпштейнов, граф закричал громовым голосом:
– Перестаньте оскорблять меня! Вы говорите, ваше отсутствие никого не беспокоило? Черт подери! Да кто же будет из-за вас волноваться? Вы проклятый ребенок, позор нашей семьи, вы невежественный и низкий мальчишка! Разве вы заслуживаете того, чтобы занимать хоть какое-то место в моем сердце, чтобы вообще жить в этом доме? Разве вы заслужили мою любовь и свою долю наследства? Да понимаете ли вы, сударь, кто вы такой?
– Мне сказали, что я ваш сын, граф, и, к сожалению, я знаю только это.
– Вам сказали?! Бессовестный наглец! Вам сказали, – злобно повторил граф, в котором вновь ожили все былые подозрения и былой гнев. – Так, значит, вам кто-то там сказал, что вы мой сын? А вы уверены, – рука графа сильно сжала плечо Эберхарда, – что тот, кто вам это сказал, не солгал?
– Сударь! – возмущенно воскликнул мальчик. – Сударь!.. Клянусь светлой памятью той, которая сейчас смотрит на нас с небес: это вы лжете, ибо вы клевещете на мою матушку.
– Презренный ублюдок! – выкрикнул граф.
В тот же самый миг, не в силах сопротивляться охватившему его бешенству, граф фон Эпштейн размахнулся и ударил Эберхарда по лицу. От этого удара мальчик весь сжался.
Максимилиан, испугавшись того, что совершил, отступил назад, но Эберхард медленно выпрямился и в упор посмотрел на графа.
Воцарилось жуткое молчание. От обиды Эберхард побледнел, грудь его вздымалась, в глазах блестели слезы. Прижав руку к бешено бьющемуся сердцу, он срывающимся голосом произнес всего несколько слов, простых и полных глубокого смысла, наивных и ужасных одновременно. Эти слова ребенка были страшнее угроз взрослого мужчины:
– Берегитесь, сударь, я скажу об этом матушке!
IV
Эберхард вышел из комнаты в полном отчаянии и покинул замок. Некоторое время он шел, не разбирая дороги, потом упал на цветущий луг возле своего любимого грота и разрыдался. Слезы несколько успокоили его, и он стал собираться с мыслями.
Не далее как два часа назад он чувствовал себя полным гордой радости, повзрослевшим от новых мыслей. Дружба и любовь вошли в его одинокую жизнь. И вдруг одно, только одно оскорбительное слово снова превратило его в маленького ребенка, и он заплакал. Он снова был одинок: с одной стороны была любовь к Розамунде, которой он боялся, с другой – ненависть отца, которого он стыдился. Дорога и в замок, и в лесной домик была для него закрыта. У него оставалось единственное убежище – его маленькая безлюдная долина, и единственный друг и покровитель – тень Альбины: пустыня и призрак.
– Ах, матушка, матушка! – бормотал он сквозь рыдания. – Как тяжко нас обоих оскорбили! Матушка, ты здесь? Ты еще слышишь меня? Может быть, ты тоже отреклась от своего сына и покинула его? Ты же знаешь, как ужасно со мной обошлись. Но пощечина еще не худшее оскорбление: самое страшное и позорное, что при мне унизили твое имя, осквернили твою память и растоптали все, что я любил и уважал. Что же мне делать, матушка, посоветуй! Разве мой гнев не справедлив? Разве мое возмущение – святотатство? Матушка, посоветуй, что мне делать? Утешь меня! О, как ужасно я страдаю!
Жалобные крики и мольбы вырывались из груди Эберхарда, но вместе с безутешными слезами понемногу уходила и его горькая тоска; вскоре он вновь обрел способность слышать, видеть и достаточно спокойно рассуждать.
Стояла тихая и прохладная ночь; в небе сверкали звезды; белый лунный свет дробился в воде ручья и рассыпался тысячью алмазных осколков; воздух был наполнен ароматом дикого боярышника. Восхищенный соловей в темной роще пел гимны прекрасной и безмятежной природе. Все дышало торжеством, любовью, восторгом. И ужасные мысли, терзавшие ум Эберхарда, улетучились словно по велению высшей силы. Соловьиные трели убаюкивали его; вокруг мерцали неясные отблески, и на душу Эберхарда снизошло умиротворение. Он поднял голову и посмотрел на небо. Легкий вечерний ветерок высушил его слезы.
– Да, матушка, конечно, моя добрая матушка, – бормотал он, – ты права: не стоит обижаться, не стоит грустить. Ведь ты святая, ты недосягаема для оскорбления, которое он хотел тебе нанести, оно не может коснуться тебя, как я не могу удержать в руке этот лунный свет. Как я был глуп! Как меня могут огорчить упрек или наказание, если они исходят не от тебя? Ты ведь любишь меня, матушка. Я слышу тебя, я чувствую твое присутствие в прозрачном ночном воздухе, и от этого ночь кажется мне такой чистой и сладостной гармонией, ведь ты источник и скрытая душа ее. Спасибо, спасибо, матушка. Мне хорошо и спокойно: я знаю, что ты не сердишься на меня, что ты меня жалеешь и любишь. Я слышу твой голос в журчании ручья, ловлю твое дыхание в дуновении ветра. Спасибо.
Скажи мне еще что-нибудь, поцелуй меня, приди ко мне благоуханным ветерком, и я засну под твоим ангельским взглядом счастливым и спокойным сном.
И вправду, бормоча эти слова, мальчик закрыл глаза, дыхание его стало тихим и ровным: он погрузился в глубокий сон.
А теперь посмотрим, как спится в замке, так же ли сладко, как в лесу? Граф был словно громом поражен, услышав бесхитростные слова Эберхарда:
«Я скажу об этом матушке». Для его вечно неспокойной совести эти слова заключали в себе устрашающий смысл.
Кто мог научить ребенка этому мене, текел, упар-син? Вот о чем думал бледный от страха Максимилиан, пытаясь унять дрожь в руках. Неверными шагами он дошел до звонка и бешено затряс колокольчик; потом, обессилев, рухнул в кресло.
На шум прибежали лакеи.
– Разведите огонь! Зажгите свечи! – закричал граф. – Сейчас же! Немедленно!
Лакеи бросились выполнять приказ. Вскоре в очаге уже пылал огонь и шесть зажженных в канделябрах свечей стояли на камине.
– Люстру зажгите тоже! – крикнул Максимилиан. – А вы, – обратился он к одному из лакеев, – найдите Эберхарда и приведите его сюда.
В ту минуту душу графа объял такой смертельный ужас, что он захотел вернуть мальчика и взять назад свое оскорбление. Тогда, думал Максимилиан, и Эберхард, быть может, откажется исполнить свою угрозу. Но вскоре вернулся слуга и сообщил, что молодого графа везде искали, но не нашли.
– В таком случае позовите моего секретаря: он нужен мне для работы. Сходили за секретарем. Граф заявил ему, что необходимо проверить счета арендаторов, и под этим предлогом продержал его до девяти часов вечера. В девять графу подали ужин. Максимилиан спустился в столовую один, приказав секретарю продолжать работу и ждать его возвращения. Ему казалось, что присутствие чужого человека отпугнет привидение от комнаты.
В столовой графа уже ждал Альбрехт. Это был долговязый молодой человек с печальным, дерзким и скучающим лицом, в свою очередь наводящим скуку. Граф был настолько бледен и взволнован, что Альбрехт, с удивлением посмотрев на него, спросил более заинтересованно, чем обычно, не случилось ли с ним чего-нибудь. Громким и бодрым голосом Максимилиан ответил, что ничего не произошло. Потом, гремя стульями, он сел за стол. За ужином он много говорил и смеялся, много ел и пил. В какое-то мгновение ему вспомнилось, что вино поможет ему заглушить страх, но потом он решил, что винные пары сами по себе порождают видения. Он перестал есть и задумался так глубоко, что не заметил, как Альбрехт вышел из столовой. Из оцепенения Максимилиана вывел голос лакея, беспокоившегося, не дурно ли господину. Граф рассеянно посмотрел вокруг, увидел, что он сидит за столом один, и спросил, где его сын. Ему ответили, что Альбрехт ушел к себе. Тогда и Максимилиан решил вернуться в свою комнату. Там он застал секретаря за работой.
– Скажите, Вильгельм, вы ничего не видели и не слышали? – спросил он.
– Нет, ваша милость, – ответил секретарь. – А что случилось?
– Ах нет, ничего, – сказал граф. – Мне показалось, что в комнате есть кто-то, кроме вас.
– Господину графу действительно это показалось. И секретарь снова погрузился в работу.
Граф стал нервно ходить по комнате, иногда останавливаясь возле потайной двери и глядя на нее с непреодолимым ужасом.
– Вильгельм, – обратился он к секретарю, задержавшись за его креслом, – как вам кажется, когда вы закончите работу?
– Часа через три-четыре, ваша милость, – ответил секретарь.
– Дело в том, что ее необходимо закончить до завтрашнего утра.
– Я могу забрать работу с собой и доделать ее ночью.
– Нет, лучше оставайтесь здесь, – сказал Максимилиан.
– Но я могу помешать спать господину графу.
– Нет, вы не помешаете. Впрочем, мне немного нездоровится и ваше присутствие даже кстати.
– Как будет угодно господину графу.
– Вот и сделайте, как я говорю, – сказал Максимилиан. – Думаю, так будет лучше.
Секретарь поклонился и, убежденный в том, что проверка счетов действительно не терпит отлагательства, снова сел за работу.
Максимилиан был просто счастлив, что нашел предлог кого-нибудь оставить в комнате на ночь. С помощью камердинера он разделся и лег в постель.
Несмотря на все эти предосторожности, Максимилиану долго не удавалось заснуть. В комнате горел свет; за столом сидел Вильгельм, и было слышно, как скрипит по бумаге его перо; да, призраков не было, но вместо них были мысли. Одно только успокаивало графа: за окном стояла ясная июньская ночь, ничем не напоминавшая зловещее и бурное ненастье накануне Рождества; напротив, в природе царило сонное умиротворение и сквозь приоткрытые ставни было видно звездное небо.
Присутствие Вильгельма ободрило графа, и ему наконец стали смешны все его безумные фантазии. Он задернул занавески балдахина, чтобы закрыться от света, и забылся в тревожном сне.
Некоторое время он спал, но вдруг, безо всякой видимой причины, резко подскочил и сел на кровати, обливаясь холодным потом. О ужас! Сквозь щель в занавесках граф увидел, что свечи в канделябрах и люстре гаснут одна за другой.
Вильгельм спал в своем кресле, видимо обессилев от усталости. Граф хотел крикнуть и разбудить его – но голос ему не повиновался, как будто невидимая рука сжимала его горло. Он хотел встать с кровати – но почувствовал, что его держат незримые цепи. Тем временем, со зловещей последовательностью, свечи продолжали гаснуть. Наконец три остававшиеся свечи потухли в свою очередь и комната погрузилась в полный мрак.
Почти в ту же секунду послышался скрип дверных петель. Граф ничком упал на кровать, не в силах оторвать взгляд от стены, и зарылся головой в простыни.
Тут он явственно услышал, что кто-то подходит к его постели, скорее даже не услышал, а почувствовал по движению воздуха. Сам того не желая, но не в силах сопротивляться какой-то непреодолимой силе, граф высунул голову из простынь, и его блуждающий взгляд устремился туда, откуда приближались шаги.
Он пытался встать, пытался издать хоть какой-нибудь звук, но все его усилия были тщетны: он не мог ни прогнать грозного призрака, ни убежать от него. Потом занавески перед его кроватью приоткрылись, и граф окаменел от ужаса, узнав бледную тень Альбины.
Роковая посетительница выглядела так же, как при их первом свидании, только на этот раз в ее взгляде было больше суровости и гнева. И когда Максимилиан почувствовал на себе этот неподвижный, как у статуи, взгляд, кровь застыла у него в жилах, волосы поднялись дыбом, и он, живой преступник, казался мертвым больше, чем его вставший из могилы судья.
И вот в тишине звездной ночи, точно так же как четырнадцать лет назад среди завываний бури, раздался властный и гневный голос Альбины:
– Максимилиан! Что же, Максимилиан, ты позабыл, о чем тебя просила умирающая и что тебе приказывала мертвая? Ты ударил моего сына и осквернил мою память! Берегись, Максимилиан! Берегись! Ребенок вынесет тебе приговор, а я покараю тебя. Я говорю с тобой в последний раз: выслушай и постарайся ничего не забыть, а главное – постарайся хотя бы сейчас поверить мне, потому что, если слова, произнесенные моими холодными губами, не смогут убедить тебя, мне придется увещевать тебя по-другому – вот этой ледяной рукой.
Граф, казалось, собирался что-то сказать, но властный жест Альбины остановил его. Она продолжала:
– Послушай, Максимилиан: Эберхард действительно твой и мой сын. Он такой же твой сын, как Альбрехт. Но Альбрехта ты любишь, а Эберхардом пренебрегаешь. Что ж, пусть будет так. Я забочусь о своем ребенке и не нуждаюсь в тебе, чтобы воспитать из него мужчину. А ты, если хочешь, уходи. Уезжай из замка и не думай больше об Эберхарде. Возвращайся в Вену: туда призывает тебя твое честолюбие. Это не просто разрешение, это мой настоятельный совет. Но именем всемогущего Бога запрещаю тебе поднимать руку на моего сына. Ни один волос не должен упасть с его головы. Можешь его покинуть, но не смей ему угрожать. Если ты безразличен к нему – воля твоя, но ты не имеешь права быть к нему жестоким. Раз уж ты не хочешь быть ему отцом, не становись его мучителем. Ты не вправе ни отбирать его у меня, ни наказывать его. Я не желаю – слышишь? – чтобы ты хоть пальцем дотрагивался до моего сына. Если ты ослушаешься меня, Максимилиан, – берегись: ты погибнешь в этом мире и будешь проклят в мире ином. Наша первая встреча после моей смерти произошла наверху, в детской. Сегодня мы встретились этажом ниже – здесь, в красной комнате. Но в следующий раз тебе придется самому прийти ко мне в склеп – в мою могилу.
– О Господи! – прошептал граф.
– Прежде чем я вернусь в свое гранитное жилище, хочу сказать тебе еще кое-что. Моя душа действительно сейчас говорит с тобой, и не обольщайся: это не сон. Четырнадцать лет назад ты сказал себе, проснувшись утром: «Мне все это приснилось». Ради Эберхарда и ради тебя самого я не хочу, чтобы ты пребывал в этом роковом заблуждении. Ты помнишь эту цепочку, Максимилиан, надетую тобой двадцать лет назад на шею юной невесты, а четыре года спустя похороненную вместе с холодным трупом твоей жены? Завтра, Максимилиан, ты проснешься с этой цепочкой на шее, и тогда ты уже не посмеешь сказать, что этой ночью тебе всего лишь снился кошмарный сон; тебя уже не спасет твое слепое и смертельное легкомыслие, ибо своими собственными глазами ты увидишь и собственными пальцами ощутишь доказательство моего появления и залог моих слов. Ты подарил мне эту цепочку, когда я была жива, прими же ее назад из моих мертвых рук.
С этими словами Альбина сняла с шеи цепочку и надела ее на помертвевшего от страха Максимилиана.
Губы графа зашевелились, но он не мог произнести ни слова.
– Теперь, – снова раздался голос Альбины, – я все сказала. Прощай или до свидания, Максимилиан, и помни!
Последние слова граф услышал как будто издалека, он даже не успел увидеть, как призрак удалился: глаза его закрылись, дыхание замерло, он без чувств упал на подушку.
А в это самое время на мягкой лесной траве Эберхард спал блаженным и счастливым сном.
Когда на следующий день первые лучи солнца разбудили графа, а точнее, заставили его очнуться от ночного обморока, рука его сразу же потянулась к шее: пальцы почувствовали холодок золотых звеньев, и граф побледнел как полотно.
– Вильгельм! – закричал он. – Вильгельм! Да проснись же, несчастный! Секретарь испуганно открыл глаза.
– Что случилось, ваша милость? – спросил он ошеломленно.
– Я хочу видеть смотрителя охоты Йонатаса. Спуститесь вниз и пошлите за ним лакея. Мне немедленно нужно с ним поговорить.
– А как быть с моей работой? – робко спросил Вильгельм. – Закончить ее здесь?
– Нет, вы будете работать у себя. Я хочу побыть один. Как ни спешил Вильгельм выполнить приказание графа, а лакей – приказание Вильгельма, но вызванный к хозяину Йонатас, войдя в красную комнату, застал его уже одетым. Увидев бледное и осунувшееся лицо графа, Йонатас в испуге попятился к дверям. Максимилиан попытался улыбнуться.
– Йонатас, – сказал он, – подойди ко мне и говори правду. Ты ведь видел, как мою покойную жену Альбину заворачивали в саван, как ее клали в гроб, как заколачивали крышку?
– Увы, ваша милость, видел.
– А как она была одета?
– На ней было белое свадебное платье. И, клянусь, мертвая, она была прекраснее невесты.
– А ты не заметил, Йонатас, было у нее что-нибудь на шее?
– Конечно, ваша милость, на госпоже была золотая цепочка, которую вы ей подарили и с которой она завещала себя похоронить.
– И ты бы смог сейчас узнать эту цепочку?
– Да, ваша милость, конечно, не будь она так надежно спрятана. Ведь тело госпожи покоится в трех гробах – сосновом, дубовом и свинцовом под мраморной плитой.
– Посмотри хорошенько, Йонатас: узнаешь?
– Или это обман, или чудо! – воскликнул Йонатас. – Это точно та самая цепочка, ваша милость!
Граф еще более побледнел, снова надел цепочку себе на шею и знаком дал Йонатасу понять, что тот может быть свободен.
Спустя четверть часа, спешно собрав вещи, граф и его сын Альбрехт были уже в пути. Не спросив об Эберхарде и не оглядываясь назад, граф Максимилиан возвращался в Вену.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































