Текст книги "Иностранец Липатка и помещик Гуделкин"
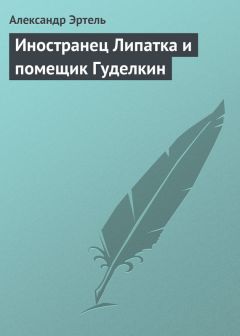
Автор книги: Александр Эртель
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Мы добрых три версты отошли от хутора, когда, наконец, Липатка умолк и с сознанием собственного своего великолепия важно закурил сигару. Курганы были недалеко. Мы взошли на один из них и остановились. Сесть было невозможно: появилась роса. Но отдохнуть и стоя было приятно. Кругом широко разбегалась степь. К востоку она исчезала, незаметно сливаясь с синим небом; на западе замыкалась лесом и рекою. Это все была чумаковская степь. Битюк, светлый и тихий, неподвижно алел сквозь просеки, явственно отражая сонные ветви орешника и молодых кудрявых дубков. За Битюком шли луга, низкие и пологие, а за лугами темными и волнистыми уступами громоздился гористый берег.
День угасал. Тучки, еще недавно пламеневшие так ярко, теперь пожелтели как янтарь и сиротливо повисли в бледном небе. Сумерки надвигались быстро и настойчиво. В вышине загорались звезды. Золотистое сияние зари медленно умирало. Гуртовщики развели костры. Тихие огоньки замелькали в окнах хутора. В сонном хуторском пруду и эти огоньки и высокие, ранние звезды отражались ясно и мечтательно.
Мы долго стояли и смотрели в глубоком молчании на окрестность, заполоняемую сумраком. Наконец Липатка бросил сигару и торжественно поднял свою трость.
Место обширное, но требует агрикультуры! – воскликнул он и затем распространился в мечтаниях. Все, что доступно глазу, он распашет под свекловицу. Около пруда выстроит сахарный завод. На Битюке устроит лесопильню. Разыщет торф в своей даче. В Дмитряшевке откроет фабрику крестьянских мануфактурных изделий. («Да, да… непременно фабрику!» лепетал Ириней, обнимая взором потускневшие дали.)
– Мы революционеры! – в пафосе восклицал Липатка, и его растопыренный плащ с пелериной, подобной крыльям, странно выделялся на палевом фоне заката, – мы революционеры, но революционеры тишайшие… Вместо крови у нас золото, вместо марсельезы – грохот машины, вместо мерзкой и отвратительной гильотины у нас – конторка из ясеневого дерева… Но наша революция будет подействительней многих… Те несли разрушение, мы успокоение несем… Те проповедовали самоотвержение, мы же одного только желаем – себялюбия, и на этом одном камне воздвигнем здание…
И снова повторил, что необходим «железный клин». Это сравнение ему, видимо, нравилось. А когда Ириней разомкнул, наконец, уста свои и робко заметил, что ему кажется необходимым и моральное воздействие, он объяснил, что воздействие это непременно будет. Оно пойдет рука об руку с капиталистическим. Богатство располагает к благодушию. И вот отсюда полная готовность помочь бедняку. Богатство же достижимо только при машинном производстве. Тогда только и искусство может процветать. Картинные галереи, коллекции редкостей, драгоценные произведения скульптуры, обширные библиотеки и музеи – все это мыслимо только при накоплении. Философия состоит в том, что машинное производство, выдвигая на сцену индивидуализм и возбуждая страстную погоню за личным благосостоянием, вместе с тем содействует «накоплению», а, следовательно, и вящему развитию культурных поползновений. В этом вся штука. Идеалы вгоняются механически: хочешь не хочешь. Порядок вещей ясен и логичен, как простое извлечение кубического корня.
Когда мы возвращались, с хутора послышалась песня. Унылым и протяжным стоном повисла она над степью и оборвалась вдали жалобным эхо…
– Экие песни глупые! – проворчал Липатка, обрывая речь.
– Монотонные песни, – добавил Гуделкин.
– Дичь! – произнес Липатка.
– Глушь и необразованность, – сказал Ириней, внезапно разгорячился и закричал: – Нет, вы представьте себе – выписал я им гармониум: «Лучию» играет… а!.. Ну, привыкай же, наконец!.. Ведь и там горе общечеловеческое, можно сказать; но вместо того нет же там однообразных завываний… Помните спор с флейтой? – Он на мгновение закрыл глаза и в истоме произнес: – Ах, Патти, Патти!..
Песня прозвенела долгой и скорбной нотой и печально замолкла. Вместо нее, где-то в степи, бойко и дробно задребезжали жилейки.
– Что за звуки! Что за мотивы! – в отчаянии воскликнул Ириней.
Липатка с достоинством погладил ладонью щеку.
– Мнение мое таково, – изъяснил он, – негодование бесполезно. По моему мнению, действование имеет несомненное предпочитание перед выражением чувствований. При надлежащем развитии индивидуализма, что, в свою очередь, возможно только при господстве капитализма и при его воздействии на экономический и этический строй гражданственности… – И он досказал, что личность, развивши свои способности в борьбе за существование и отведавши культурных благ, непременно разовьет и эстетические свои вкусы, и тогда переход от «Лучинушки» к «Лучии Ламермурской» явится неизбежным.
– Да, да, да! – в каком-то сладостном изнеможении лепетал Ириней, пораженный Липаткиной логикой и несказанно осчастливленный этим поражением… – Да… именно – неизбежным!.. Именно – разовьет эстетические вкусы…
– Вы извольте вообразить себе вашу Дмитряшевку в периоде капиталистического производства, – вещал Липатка, – тщетно теперь воздействуя на мужичков благородными поступками своими, прямо для вас убыточными, вы тогда, одним присовокуплением капиталов ваших, согласно закону накопления, водворите в Дмитряшевке Европу. Каждый мужик будет знать тогда, во что ценится его труд, приложенный в такой-то пропорции, и как велико благосостояние, купленное ценою такого труда. Каждый увидит преимущество познаний и обособленности. Каждый будет стремиться к этому… Я имел уже удовольствие докладывать: мужик, надевая каждодневно ситцевую рубашку, каждодневно же о полотняной мечтать будет. А в этом мечтании есть уже зачаток беспрерывного преуспеяния. Революционные стремления в мужике неизбежны. Нужно поработить их и утилизировать. Необходим баланс. Но в том и состоит задача культурных людей… Нужно отнять от этих революционных стремлений характер стихийности; нужно обходить их, дифференцировать, формулировать во образе мирной, единоличной борьбы за существование. Не запряги мужика в ярмо культуры – он, смею изъяснить, самую культуру эту растреплет наподобие ветхой, продырявленной тряпки, и от России-матушки останется пшик!.. – И Липатка дунул на кончики своих пальцев.
Дело было ясно как день.
Когда мы пришли, старика Чумакова еще не было. Липат усадил нас в уютной гостиной, приказал подать туда бутылочку «шартреза» и заставил мальчика в штиблетах вертеть ручку рояля. Сам он с обычною вежливостью извинился и ушел в контору рассчитывать рабочих. Мы остались одни. С высокого потолка светил нам розовый фонарь; в открытые окна глядели звезды, и степной воздух непрерывной струею вплывал в комнаты; причудливые листья растений тихо колебались от этой струи и производили слабый шорох; обворожительные звуки вальса из «Фауста» медленно и мелодично замирали…
Ириней окончательно разнежился. Забравшись совсем с ногами на мягкое канапе и обстоятельно смакуя зеленоватую влагу «шартреза», он наяву отдался грезам. Вместе с тем отсутствие Липатки как будто придало ему бодрости. При нем он не дерзал на многое: Липаткины познания его подавляли. Но теперь… О, как преобразуется Дмитряшевка, когда они заведут в ней фабрику. Он дает деньги и землю для постройки, Липатка применяет свои знания. Дивиденд пополам. Правда, Дмитряшевку придется заложить для этого, и он думает это сделать в обществе взаимного поземельного кредита – это самое солидное, но зато какие несомненные выгоды и какая великая польза!.. Главное польза!.. (Тут он сладостно зажмурил глаза и медлительно втянул в себя ликер, после чего прищелкнул языком и снова налил полрюмки.) Он так рад, что не бесследно прошла его жизнь! Он так счастлив, что, в пору всеобщей сумятицы и всеобщей апатии, ему доведется указать путь многострадальной России, – путь верный и прямой. Вместо мрака – свет, и даль окаймлена лазурью. И он снова отпил из своей рюмки и, разводя рукою в такт меланхолического вальса, развернул предо мною картину будущей России. Беленькие домики, асфальтовые кровли, зеленый плющ, розы и георгины в палисадниках, тучные стада, краснощекие поселяне… И светлые крылья культуры, как крылья ангела, реют над бесконечными русскими равнинами. Скорбные песни исчезли, их заменили арии. Пастухи, вместо жилеек, играют на кларнете. Грациозные хороводы пляшут под звуки флейты. Грохот бесчисленных машин сливается в одном грандиозном ритме и с самых ранних лет приучает крестьянское ухо к музыкальности. И водворяется золотой век…
А розовый свет фонаря все так же мягко и фантастично обливал комнату, оставляя в полумраке стены, обитые малиновым трипом… Причудливые листья чужеземных растений все так же размеренно и странно колыхались и лепетали, цепляясь друг за друга… Мечтательные звуки вальса все так же вплывали к нам грациозною толпою и так же печально угасали… Липатка пришел поздно. Он сообщил, что папаша приехал, но несколько не в своем виде, и, посидев немного, удалился, пожелав нам спокойной ночи. Тут же, в гостиной, приготовили для нас постели. Свежее белье с тонким запахом сена, прохлада и тишина скоро на нас подействовали: мы заснули. Я видел во сне белые домики с остроконечными аспидными кровлями, видел длинные листья странных растений, колеблющихся важно и размеренно. Фантастическое солнце било в глаза розовым светом, и печальные звуки «Фауста» уплывали вдаль рыдающей вереницей…
Не знаю, сколько спал я – меня разбудил Ириней. Я взглянул на него и вскочил в испуге. Бледный свет проникал в окно и озарял его лицо, искривленное скорбью и гневом. Он крепко сжал мою руку и сказал:
– Тише… смотрите и слушайте!..
Я придвинулся к окну. На балкончике горела лампа с матовым шаром и разливала вокруг свет, подобный лунному. Около столика, накрытого салфеткой, сидели Чумаковы – Липатка и Праксел. Старик тяжело наклонился над столом, тыкая неверной рукою в тарелку с селедкой и беспрестанно икая. Он был в ситцевой рубахе, подпоясанной ремешком, и в неуклюжих валеных сапогах. Широкая спина его выпукло обозначалась сквозь тонкий ситец. Перед ним возвышался графин с водкой и две рюмки. Липатка, без сюртука и жилета, сидел напротив отца, непринужденно посасывая сигару, и от времени до времени, с присущим ему достоинством, поглаживал свои пухлые щеки.
– Дока ты у меня, Липатка… дока, пес тебя слопай! – заплетающимся языком говорил старик. – Ну только не заносись, прямо говорю… не заносись…
Последовала пауза и медленное искание селедки.
– Ты сын мне, а? Как ты насчет этого понимаешь?.. – продолжал старик, поймавши, наконец, кусок селедки и с угрожающим видом потрясая им в воздухе, – а?.. Сын… И поэфтому поступать должoн!.. – Он икнул и перекрестил рот. – Ты как понимаешь? Покоряйся!.. Ты знаешь: отцам да повинуются, а? Это где показано?.. В писании, дура-ак, в писании…
Он поникнул головою и вдруг прослезился.
– Алипат Пракселыч!.. Друг!.. Я ведь понимаю, я все понимаю… Ты думаешь, как я есть мужик сиволапый и поэфтому самому понятиев лишен?.. Не-э-эт, голубь, я понимаю… Я могу… Я все могу! Все могу! – внезапно возопил он благим матом и жестоко ударил по столу кулаком, но затем тотчас же стих и продолжал умиленно: – Ежели баринишку этого опутать… Гуделку этого!.. (Иринея передернуло) так это довольно даже обнаковенно… Но наипаче старайся протурить его с наших местов!.. Друг!.. Я еще вo каким махоньким понимал ихнего брата… И с того произошел!.. – Он горделиво приосанился. – И ты не заносись… Ты отцу кланяйся: отец не оставит, отец на путь наведет… Разве я не понимаю нонешних делов? Ошибаешься, друг… Оченно даже я их хорошо понимаю… Вникаем, голубь… Мы мужики, а вникать – вникаем!.. И прямо я тебе скажу: нонешние дела – дела зазвонистые. Ты это понимай… Имей опаску, говорю… Я ведь недаром в немецкие-то земли заслал тебя, капиталец-то уходил изрядный… Ты это чувствуй!..
Он выпил, утерся рукавом и, все более и более впадая в назидательный тон, продолжал:
– Наипаче не прошибись, говорю… Времена опасные… Времена такие – в лесу светлей!.. – И, заметив легкую улыбку на лице Липатки, рассердился. Ты думаешь, старик пьян?.. Ты полагаешь, старик зря мелет?.. Врешь, Липатка!.. Я в своем доме хозяин!.. – Он попытался подняться, но не смог. Ты что – ты щенок! Как об тебе понимать, а? Ты чей?.. Где твои капиталы?.. Что по Неметчине-то гулял, это еще не штука… Не шту-ука, малый!.. А ты покажи-и… Ты нам на де-еле… Какие такие твои расчеты, а? Выкладывай… А мы и обсудим нашим мужицким разумом… – Он спесиво разгладил бороду и важно развалился. – Мы и разведем!.. Мы серые… Мы глупые… а ты умник!.. Ну-ка, умный… Выкладывай… Ты как насчет фабрики полагаешь?.. Не-ет врешь, не пья-ян… – И сердитым движением руки он отстранил и рюмки и закуску.
Липат посмотрел на свои выхоленные ногти.
– Я имел уже честь… – начал было он.
– Чево-о? – брезгливо остановил его отец, – ты мне, брат, не финти!.. Ты брось выкрутасы-то эти, я ведь не Гуделкин… Ты начистоту мне выкладывай: ум-то у меня мужицкий, прямой!.. – И он решительно выпрямил свою широкую спину и положил на стол крупные волосатые руки.
Ириней сделал мучительную гримасу.
Липат несколько оживился.
– Вы, папаша, довольно неравнодушны…
– Не финти, говорю!.. – настоятельно и грозно повторил старик.
И благодаря ли этой настоятельности, но Липат действительно перестал финтить. Кратко и сжато обрисовал он старику положение дел. Народ бедствует и голодает. Земли истощены. Население прибывает и дробит наделы. На миру идет разладица. И самый раз дать мужику работу. Он пойдет за всякую дешевку, особливо зимою. Работник он не чета немецкому: нет в нем привередливости, не запросит он лишнего четвертака на сосиски, не устроит стачку, не будет хлопотать о сбавке рабочих часов. Человек он выносливый и терпкий. Да к тому же, можно будет и уряднику отвести квартиру на фабрике. Все страху больше. А между тем сбыт тоже обеспечен. В земледельческой полосе фабрик совсем нет, а потребность в ситцах растет. Краснорядцы богатеют. Народ балуется. Щегольство одолевает всех. Труд дешев. Начальство благоприятствует.
И чем больше говорил Липатка, тем опускалась все ниже и ниже спесивая голова Праксела и тем ласковей и добродушней становился его лик.
– Так, так… – лепетал он сладостным шепотом, умиленно поглядывая на Липата, – так… утрафил… попал… дока, пес тебя слопай!..
А Липат не унимался. Он оживился, и глаза его заблистали, язык утратил свою деревянность и работал с живописностью… Он настоятельно указывал отцу на необходимость расширить дело, завести сношения с Лондоном и Кенигсбергом, устроить в Воронеже контору с английской обстановкой молчаливыми писцами и накрахмаленным кассиром, – придать фирме европейское обличье, затеять в степях интенсивное хозяйство, нанять батраков, упразднить отрядные наемки… Он, рядом убедительных и простых фактов, доказывал отцу, сколько теряется оттого, что нет непосредственных сношений с иностранными фирмами и что всякий продукт лезет за границу в первобытном виде. И когда Праксел, ошеломленный цифрами, отуманенный смелыми предположениями Липатки, обругал его и обозвал «ветрогоном», тот даже разозлился. «Вы слепцы!» – кричал он. – Весь край можно бы заполонить и опутать одной сетью. Деньги – пустое: они всегда найдутся. Нашлось бы дело. Банки затрещат от английских стерлингов и немецких марок, если только отец послушает Липатку. Дворянство издыхает, мужик путается; начальство благосклонствует… Трудно вообразить более подходящее время! Нужно скупать землю, брать ее на аренду, заводить фабрики, устраивать конторы для ссыпки хлеба, открыть широкий кредит господам помещикам…
– Не миллион – десятки миллионов запляшут по нашей дудке!.. восклицал Липатка.
И старик теперь уже не прерывал его. Он потирал руками и беспомощно хихикал. Липаткины грезы неодолимо встали пред ним и до конца заполонили его мужицкое воображение. И когда Липатка кончил, он только произнес: «Выпьем, Липатушка!» – и смачно расцеловал великолепное свое детище.
– Ну, а как же, Липатушка, Гуделку нам вытравить? – сказал он после выпивки, плутовски прижмуривая осоловевшие глаза.
Липатушка только усмехнулся.
– Кредитец ему открыть, – ответил он, – кратковременные ссуды… И притом Иринею Маркычу, по всей вероятности, надоест фабричное дело, а ликвидировать его – опять нужно капиталец. Дело простое – борьба за существование!
– Хе-хе-хе… хорошее ты слово сказал, Липатушка!.. Не возьму я его в толк, а хорошее оно слово… Вот словами-то ты его этими одолевай… Лясами-то!.. Господин – в нем прежде всего струна есть… И как ты его за эту за струну дернешь – бери голыми руками… Дается он… Оченно даже хорошо дается!.. Ох, падки господишки до ляс!.. Ежели по совести говорить, баба да лясы – весь живот ихний… – И он погрузился в мечтание. – А что, Липатка, бабу бы ему… а? Гашку бы…
Липат отрицательно покачал головой.
– О? Не примет, думаешь?.. Ну, как хочешь. А хорошо бы… Я тебе вот что скажу, Липатушка! – Старик наклонился к сыну и таинственно заговорил: Востра была к этому делу мать твоя покойница, царство ей небесное. – Он благоговейно перекрестился, – и-их, угар была баба!.. Бывало, так опутает моргнуть не управишься!.. Графчика раз приспособила… Эх!.. Выпьем, упокой господи ее душу!.. – И тоном авторитета добавил громко и внушительно: Больше из книжек их осаживай… Осаживай из книжек, и шабаш!.. Тебе бог дал – действуй… – И затем усмехнулся пьяной улыбкой. – Ах, Гуделка, Гуделка!.. Ведь ишь фабрикант выискался… Фу ты, ну ты!.. Ну-ка, выпьем, Липатушка… Вижу, произошел ты у меня… Исполать, детинушка! – И после некоторого молчания добавил: – А что ежели фортуплясы запустить?..
Но Липат отговорил его, представляя на вид наше сонное состояние. Старик махнул рукою.
– Ну ладно!.. Обдери их совсем… Пусть дрыхнут… – и добавил со смехом, – мы их еще рано освежуем!..[2]2
Снимем шкуру. (Прим. автора.)
[Закрыть] Явлюсь к ним ужо – пословоохочусь…
Иринея била лихорадка. Уткнувшись лицом в подушку, он щипал короткие свои волосики и ругался. Старика Чумакова, уже окончательно рассолодевшего, увели спать. На балконе остался Липатка. Долго сидел он и неподвижно смотрел на небо. (В небе ходили тучи и редкие звезды мигали тускло и трепетно.) Наконец самодовольно выпрямил стан и, закинув жирные ноги свои одна на другую, важно воскликнул:
– Гаша!
На этот зов явилась горничная. Остановившись у порога, она спрятала руки под передник и вымолвила робко:
– Что прикажете, Алипат…
– Говорите «сударь», – внушительно прервал ее Липатка.
– Что прикажете, сударь, – повторила Гаша.
– Замечаю я в вашем поведении несообразности…
– Я, кажись, ни в чем не повинна, Алипат Пракселыч…
– Зовите – «сударь». И я не досказал – вы молчите, – в скобках заметил Липат. – Замечаю несообразности. Сегодня за столом вы мне осмелились сказать «душечка».
Он вперил в нее тяжелый и пристальный взгляд.
– Ей-богу как влюблёмши в вас, сударь…
– Молчите. Вы – горничная. Ваше поведение я не одобряю.
Гаша внезапно обиделась.
– Что ж вы попрекаете, – заговорила она, всхлипывая и глотая слезы, ежели я родила, так окромя греха вам, Алипат Пракселыч…
– Ну, ну… – поспешно возразил Липат и, скорей шутливо, чем грозно, заметил: – Я тебе сказал – «сударем» зови! – но тотчас же снова напустил на себя важность: – Не кукситесь. Подите разденьте меня… И обратите внимание: ваши манжетки сегодня необыкновенно грязны. Я терпеть не могу грязных манжеток.
Он тяжело поднялся и подошел к Гаше, снисходительно потрепав румяную ее щечку. Нужно было полагать, что этим он изъявлял прощение. По-видимому, так поняла это и Гаша: она подобострастно поцеловала жирную Липаткину руку и отерла слезы.
– Каков гусь!.. – сказал мне Ириней.
– Европеец, – заметил я.
– Н-да, европеец… – саркастически произнес Гуделкин и порывисто завернулся в одеяло.
Наутро приятель мой являл вид печальный. Его бородка a la Henri IV торчала без всякой бодрости. Лицо осунулось и пожелтело. И вообще он походил на воробья, мокрого и сконфуженного. Отказавшись от завтрака и чая, он приказал подавать экипаж и на все разговоры Липатки отвечал односложно и сухо.
Погода соответствовала скверному состоянию Иринеева духа. Дождь пошел еще ночью, и теперь над степью плавали скучные, серые тучи. Мокрые галки торчали на крышах. Густая черная грязь прилипала к колесам экипажа. Лошади тяжко сопели и обливались потом. Даль хмурилась. Рев молотилок отдавался глухо и тоскливо. Хутор казался мрачным.
Ириней, завернувшись в плащ по самый подбородок, печально выглядывал из-под шляпы. Он походил на Гамлета.
Когда чумаковский хутор скрылся из вида, я заговорил. Но Ириней не ответил мне. Только спустя добрых полчаса он в каком-то раздумье произнес, медленно и горько:
– Какая же это культура, наконец?
– Вы насчет чего? – осведомился я.
Он помолчал, по-видимому что-то соображая, и затем повторил:
– Нет, какую же культуру подразумевал этот – гусь?
Я пожал плечами. Иринея вдруг как бы осенило.
– Помилуйте! – воскликнул он, – это не культура, а разбой… Естественнейший разбой!
И после этого опять поник и пребывал долго в грустном молчании, а затем внезапно воспрянул и, с скорбной улыбкой на устах, произнес:
…К чему упрек? Смиренье в душу вложим
И в ней затворимся – без желчи, если можем…
Тучи плакали и нескончаемой вереницей тянулись над степью.
Немного спустя Гуделкин заложил-таки Дмитряшевку. Но он не завел фабрику – он устроил крестьянам блистательный обед, на котором, говорят, была даже спаржа, и укатил в Швейцарию. Там, в Vevey[3]3
Веве – город в Швейцарии.
[Закрыть], проживает он и доныне.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































