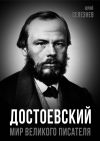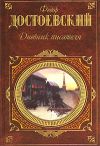Читать книгу "Достоевский Ф.М.: 100 и 1 цитата"

Автор книги: Александр Галкин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 2
Петербург. Инженерный замок. Учеба в Главном инженерном училище

«Мы, которые бьемся из последнего рубля, должны платить, когда другие, – дети богатых отцов, приняты безденежно…»
[письмо Ф. М. Достоевского отцу М. А. Достоевскому от 4 февраля 1838 г. из Петербурга (28 (I), 47)].
При поступлении братьев Михаила и Федора в Главное инженерное училище их отец Михаил Андреевич Достоевский хлопотал о принятии Федора на казенный кошт (брат Михаил не был принят по здоровью). Такие хлопоты были вызваны тем, что Михаил Андреевич, в прошлом врач Мариинской больницы для бедных, уходил в отставку и должен был содержать семерых детей на свою пенсию и весьма скромный доход с имения. Начальник училища генерал Шарнгорст объявил, будто в училище нет «ни одной казенной ваканции». За учебу Федора Достоевского внесла плату в размере 950 рублей его тетка – московская купчиха А. Ф. Куманина. Случайно Достоевский узнал, что истинными причинами, по которым ему было отказано в казенном содержании, были взятки, а также протекционизм начальника училища. Достоевский писал отцу 4 февраля 1838 г.: «…уже после экзамена генерал постарался о принятии четырех новопоступивших на казенный счет <…> Какая подлость! Это меня совершенно поразило. Мы, которые бьемся из последнего рубля, должны платить, когда другие, дети богатых отцов, приняты безденежно…» [28 (I), 47]. Благодаря протекции ученики, экзаменовавшиеся гораздо хуже Достоевского, без труда переходили в следующий класс, а Достоевского оставили на второй год в третьем кондукторском классе только потому, что он «нагрубил» преподавателю алгебры.
«Я видел мальчиков тринадцати лет, уже рассчитавших в себе всю жизнь: где какой чин получить, что выгоднее, как деньги загребать (я был в инженерах) и каким образом можно скорее дотянуть до обеспеченного, независимого командирства!»
[письмо Ф. М. Достоевского к И. В. Ждан-Пушкину от 17 мая 1858 г. из Семипалатинска (28 (I), 309)].
В январе 1838 г. Достоевский переселяется в Инженерный, или, иначе, Михайловский замок, где находилось Главное инженерное училище, облачается в черный мундир с красными погонами, получает кивер с красным помпоном и в числе 125 других воспитанников именуется теперь кондуктором (так называли их, чтобы отличать от кадетов).
Острый, проницательный взгляд будущего писателя с изумлением отмечал, сколь отчетливо в Инженерном училище проявлялись характеры людей, как яростно сталкивались здесь добро и зло, великодушие и подлость.
Мрачный и величественный Михайловский замок, воздвигнутый по проекту знаменитого русского зодчего В. И. Баженова итальянским архитектором Бренной, – одно из сильнейших художественных впечатлений Достоевского тех лет.
Здесь воспитанникам показывали, где была тронная зала императора Павла I, его спальня, столовая, кухня, проводили по лестнице и коридору, выходившему к каналу, где когда-то стояла лодка; в одной из овальных комнат Достоевский видел крюк, на котором висел голубь, под каким секта хлыстов совершала свои «радения». По коридорам совсем недавно бродил, как призрак прошлого, девяностолетний кастелян замка Иван Семенович Брызгалов в старинном мундире, высоких ботфортах, в шляпе павловских времен и с длинной тростью.
По этим гулким темным коридорам, где теперь на занятия шагал кондуктор Федор Достоевский, без малого три десятка лет назад бежали гвардейцы Преображенского полка, нарочито громко стуча сапогами, распаляя в себе отчаянную решимость убить царя Павла I.
Быть может, в душе юного Достоевского уже в то время еще неясно замерцала идея будущего романа «Братья Карамазовы» – его последнего великого романа. По крайней мере, тема предательства, тема отцеубийства, когда царь Александр I безмолвно одобрил убийство отца и стал участником дворцового переворота, наверняка не раз приходила в голову будущему писателю.
Немало выдающихся людей окончили Главное инженерное училище. Среди них физиолог Илья Сеченов, организатор Севастопольской обороны Эдуард Тотлебен, покоритель Хивы и Самарканда Константин Кауфман. В 20-е гг. XIX в. в Инженерном училище среди лучших воспитанников значились ученик офицерского класса Дмитрий Брянчанинов и его ближайший друг поручик Чихачев. Неожиданно для всех они подали в отставку и ушли послушниками в монастырь. Позднее Дмитрий Брянчанинов получил в постриге имя Игнатия и стал знаменитым русским святителем.
Возможно, историю Брянчанинова и Чихачева, ходившую в качестве легенды в стенах Инженерного училища, Достоевский использовал при создании образа старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы». Ведь Зосима в миру тоже был офицером.
По воспоминаниям дежурного офицера А. М. Савельева, Достоевский «и в юности был по виду таким же стариком, каким был в зрелые годы»********. В училище его прозвали монахом Фотием за невозмутимый и спокойный: нрав, молчаливость и глубокую религиозность: он усердно исполнял обязанности православного христианина, в руках у него часто можно было видеть Евангелие и молитвенник, после урока Закона Божьего Достоевский обычно долго беседовал о вере со священником, отцом Полуэктовым. Когда Федора Михайловича пытались вызвать на откровенность, он часто отвечал словами Монтескье: «Никогда не говорите правды в ущерб вашей добродетели». Он был враг заискивания перед высшим начальством и с презрением смотрел на льстецов, извлекавших из своей лести всяческие выгоды. Такой человек, с непреклонной волей и твердыми жизненными принципами, разумеется, не мог не заслужить уважение товарищей, поневоле чувствовавших умственное и нравственное превосходство Достоевского********.
«Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить?»
«Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить»
[повесть «Записки из подполья». Слова «подпольного человека», иначе называемого «парадоксалистом» (5, 174)].
Эта крылатая фраза «подпольного человека» из повести «Записки из подполья» родилась в сознании будущего писателя значительно раньше, еще в пору его жизни в Главном инженерном училище, когда Достоевский, проходивший полевые учения, находился в крайне стесненных обстоятельствах и вынужден был просить денег у отца на самое необходимое. В письме к отцу М. А. Достоевскому от 10 мая 1839 г. Достоевский писал: «Будь я на воле, на свободе, отдан самому себе, я бы не требовал от Вас копейки; я обжился бы с железною нуждою. Стыдно было бы тогда мне и заикнуться о помощи <…> иметь чай, сахар <…> необходимо не из одного приличия, а из нужды. Когда вы мокнете в сырую погоду под дождем в полотняной палатке или в такую погоду придя с ученья усталый, озябший, без чаю можно заболеть; что со мной случилось прошлого года на походе. Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю…» [28 (I), 60].
«Посылают же таких дураков!»
(из устного рассказа Ф. М. Достоевского жене А. Г. Достоевской)
С Достоевским во время его пребывания в Главном инженерном училище случился неприятный анекдот, о котором он много позже рассказывал своей второй жене Анне Григорьевне Достоевской, записавшей его рассказ. Достоевского отправили в ординарцы к брату императора Николая I великому князю Михаилу Павловичу, под патронатом которого находилось Главное инженерное училище. Достоевский оробел и, рапортуя, вместо того чтобы сказать: «К вашему императорскому высочеству», сказал: «К вашему превосходительству», обратившись к великому князю, точно к обыкновенному генералу. «Посылают же таких дураков!» – до глубины души возмутился великий князь и распек как неудавшегося ординарца, так и его начальство.
«Какой дурак это чертил?»
(из устного рассказа Ф. М. Достоевского доктору С. Д. Яновскому)
В конце июня 1843 г. Достоевский завершает сдачу выпускных экзаменов и выпускается из Главного инженерного училища в чине подпоручика, а 23 августа он зачислен «при Санкт-Петербургской инженерной команде, с употреблением при чертежной инженерного департамента». Ежедневно с девяти до двух он ходит на службу в Главное инженерное управление, расположенное в Инженерном замке. Он крайне нуждается, живет в состоянии полного безденежья, даже занимает деньги у отставного унтер-офицера.
Служба в Инженерном управлении, как видно, не пришлась по душе Достоевскому. Его знакомый А. Е. Ризенкампф вспоминал, что Достоевский обычно всю ночь проводил за чтением, а чаще – за писанием рассказов. Утром он был не в духе, раздражался по пустякам, ссорился с денщиком и, проклиная свою службу, отправлялся в Инженерное управление, при этом постоянно жаловался на не благоволивших к нему старших инженерных офицеров и, хотя в записке командира Санкт-Петербургской инженерной команды инженер-подполковника Дурона за 1843 г. замечаний по службе у полевого инженер-поручика Достоевского не отмечено, будущий писатель, по словам Ризенкампфа, только и мечтал о скорейшем выходе в отставку.
И действительно, 21 августа 1844 г. Достоевский подает прошение об отставке «по домашним обстоятельствам». Сам Достоевский позднее объяснял причину своей отставки следующим анекдотическим рассказом, который записал лечивший писателя доктор С. Д. Яновский: «… кончая курс учения в Инженерном училище, я должен был представить практическую работу на заданную тему. Работу эту я кончил, и она, быв рассмотрена и одобрена в Совете, поступила на окончательную апробацию императора Николая Павловича. Государь, как только взглянул на мой чертеж, тотчас увидел, что в изображенной мною крепости нет ни одних ворот! Эта моя ошибка, прошедшая не замеченною включительно до глаза директора, сразу была замечена царем, и он написал на моем чертеже: “Какой дурак это чертил?” Мне надпись эта была предъявлена в подлиннике; я видел ее покрытою клеем и тот же час порешил: оставить то ведомство, в котором кличка эта сама собою, разумеется, осталась бы за мною на всю жизнь»********.
Глава 3
Блистательный литературный дебют

«Титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники…»
[фельетон «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (19, 71)].
Достоевский в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и прозе», спустя 16 лет после написания романа «Бедные люди», рассказывает о том, как одновременно с замыслом первого романа он почувствовал в себе рождение писателя, художественным методом которого станет, по его собственному определению, «фантастический реализм»: «Помню раз, в зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки, в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небосклоне. <…>
Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как бы облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленно; как будто прозрел во что-то новое, совершенно новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что в эти минуты началось мое существование. <…>
И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон-Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. <…> И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история» (19, 69; 71).
«Это вещь строгая и стройная…»
«Моим романом я серьезно доволен. Это вещь строгая и стройная. Есть, впрочем, ужасные недостатки»
[письмо Ф. М. Достоевского к брату М. М. Достоевскому от 24 марта 1845 г. из Петербурга [28 (1), 107)].
В мае – ноябре 1844 г. Достоевский работает над первой редакцией романа «Бедные люди». В романе «Униженные и оскорбленные» Иван Петрович, своеобразный alter ego писателя (его Достоевский делает автором своего первого романа, оцененного критиком Б.), ностальгически вспоминает дни творчества: «Если я был счастлив когда-нибудь, то это даже и не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими; любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим» (3, 186). Эти слова героя Достоевского явно автобиографичны.
В марте 1845 г. Достоевский завершает работу над второй редакцией романа. Писатель Д. В. Григорович, деливший одну квартиру с Достоевским, вспоминал: «Когда я стал жить с Достоевским, он только что кончил перевод романа Бальзака “Евгения Гранде”. Бальзак был нашим любимым писателем… Достоевский между тем просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера точно бисер, точно нарисованные… Как только Достоевский переставал писать, в его руках немедленно появлялась книга. <…> Усиленная работа и упорное сидение дома крайне вредно действовали на его здоровье; они усиливали его болезнь, проявлявшуюся несколько раз еще в юности, в бытность его в училище. Несколько раз во время наших редких прогулок с ним случались припадки. <…> После таких припадков наступало обыкновенно угнетенное состояние духа, продолжавшееся дня два или три»********.
«А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву»
[письмо Ф. М. Достоевского к брату М. М. Достоевскому от 4 мая 1845 г. из Петербурга [28 (1), 110)].
В апреле 1845 г. «Бедные люди» подвергаются коренной и последней переделке. 4 мая того же года Ф. М. Достоевский пишет брату Михаилу: «Я до сей самой поры был чертовски занят. Этот мой роман, от которого я никак не могу отвязаться, задал мне такой работы, что, если бы я знал, так не начинал бы его совсем. Я задумал его еще раз переправлять и, ей-богу, к лучшему; он чуть ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была последней. Я слово дал до него не дотрогиваться» [28 (1), 108)].
«– Новый Гоголь явился! – У вас Гоголи-то как грибы растут…»
[ «Дневник писателя», 1877 г., январь (25, 30)].
В мае 1845 г. Достоевский отдает Н. А. Некрасову рукопись романа «Бедные люди». Д. В. Григорович и Некрасов вместе читают роман до четырех часов утра и тотчас отправляются к Достоевскому сообщить об успехе романа. Достоевский вспоминал: «Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу: “С десяти страниц видно будет”. Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал… Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: “Что ж такое, что спит, мы разбудим его. Это выше сна!”» После ухода Григоровича и Некрасова Достоевский не мог заснуть: «Какой восторг, какой успех, а главное – чувство было дорого, помню ясно» [ «Дневник писателя», 1877 г., январь (25, 29)].
На следующий день Некрасов передает рукопись романа В. Г. Белинскому со словами: «Новый Гоголь явился!» Белинский строго смотрит на Некрасова и замечает: «У вас Гоголи-то как грибы растут!» – но рукопись берет (25, 30). После прочтения он просит Некрасова привести к нему автора. Позднее Белинский характеризует «Бедных людей» как «первый у нас опыт социального романа».
«Самая восхитительная минута…»
«Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом»
[ «Дневник писателя», 1877 г., январь (25, 31)].
В июне 1845 г. происходит встреча Белинского и Достоевского. Белинский восторженно отзывается о романе «Бедные люди» и «пламенно, с горящими глазами» напутствует Достоевского словами: «Да вы понимаете ль сами-то, – повторял он мне несколько раз и вскрикивал по своему обыкновению, – что это вы такое написали! Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы, в ваши двадцать лет, уже это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник – ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже право на несчастье за собой не смеет признать, и когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей – он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть “их превосходительство”, не его превосходительство, а “их превосходительство”, как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, – да ведь тут уже не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия!.. Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным, и будете великим писателем!..» (25, 30).
Глава 4
Триумф славы и развенчание героя

«Кто этот Достоевский? Где мне достать Достоевского?»
[письмо Ф. М. Достоевского к брату М. М. Достоевскому от 16 ноября 1845 г. из Петербурга [28 (1), 115)].
«Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Соллогуб обегал всех и, зашедши к Краевскому, вдруг спросил его: “Кто этот Достоевский? Где мне достать Достоевского?” Краевский, который никому в ус не дует и режет всех напропалую, отвечает ему, что “Достоевский не захочет Вам сделать чести осчастливить Вас своим посещением”. Оно и действительно так: аристократишка теперь становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки. Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоев<ский> то-то сказал, Достоев<ский> то-то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более. На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал) и с первого раза привязался ко мне такою привязанностию, такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, – я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе. Прочти его повесть в “От<ечественных> записк<ах>”. “Андрей Колосов” – это он сам, хотя и не думал тут себя выставлять» [28 (1), 115)].
Письмо Ф. М. Достоевского брату сильно смахивает на монолог Хлестакова. Он упоен внезапной славой, бывает в аристократических салонах князей Сологуба и Одоевского, графа Виельгорского, влюбляется в красавицу и умницу Авдотью Панаеву, уверяет брата, что у него «преблистательное будущее». C энтузиазмом начинает работу над повестью «Двойник». Тем временем критики ругают роман «Бедные люди», что вовсе не печалит Достоевского. 1 февраля 1846 г. он пишет брату Михаилу в том же упоении: «“Бедные люди” вышли еще 15-го. Ну, брат! Какою ожесточенною бранью встретили их везде! В “Иллюстрации” я читал не критику, а ругательство. В “Северной пчеле” было черт знает что такое. Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали Пушкина. Даже публика в остервенении: ругают ¾ читателей, но ¼ (да и то нет) хвалит отчаянно. Débats [дебаты] пошли ужаснейшие. Ругают, ругают, ругают, а все-таки читают. (Альманах расходится неестественно, ужасно. Есть надежда, что через 2 недели не останется ни одного экземпляра.) Так было и с Гоголем. Ругали, ругали его, ругали – ругали, а все-таки читали и теперь помирились с ним и стали хвалить. Сунул же я им всем собачью кость! Пусть грызутся – мне славу, дурачье, строят. До того осрамиться, как “Северная пчела” своей критикой, есть верх посрамления. Как неистово-глупо! Зато какие похвалы слышу я, брат! Представь себе, что наши все и даже Белинский нашли, что я даже далеко ушел от Гоголя. В “Библиотеке для чтения”, где критику пишет Никитенко, будет огромнейший разбор “Бедных людей” в мою пользу. Белинский подымает в марте месяце трезвон. Одоевский пишет отдельную статью о “Бедных людях”. Соллогуб, мой приятель, тоже. Я, брат, пустился в высший свет и месяца через три лично расскажу тебе все мои похождения.
В публике нашей есть инстинкт, как во всякой толпе, но нет образованности. Не понимают, как можно писать таким слогом. Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может. Роман находят растянутым, а в нем слова лишнего нет. Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я. Прочтешь и сам увидишь. А у меня будущность преблистательная, брат!» [28 (1), 117].
2 (14) мая 1846 г. Н. В. Гоголь пишет из Генуи письмо к А. М. Виельгорской, в котором оценивает роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди», опубликованный в «Петербургском сборнике Н. А. Некрасова» (СПб., 1846), следующим образом: «В авторе <…> виден талант, выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных, но видно также, что он еще молод <…> все бы оказалось гораздо живей и сильней, если бы было более сжато»********.
В февральском выпуске «Отечественных записок» В. Г. Белинский дал хвалебный отзыв о романе «Бедные люди»: «Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах, и говорит о них обитателям раззолоченных палат: “Ведь это тоже люди, ваши братья!”»********.
«… Серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил…»
«Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно. Я сильно исправил ее потом, лет 15 спустя, для тогдашнего “общего собрания” моих сочинений, но и тогда опять убедился, что это вещь совсем не удавшаяся, и если бы я теперь принялся за эту идею и изложил ее вновь, то взял бы совсем другую форму. Но в 46-м году этой формы я не нашел и повести не осилил»
[ «Дневник писателя», 1877 г., ноябрь (26, 65)].
Так спустя три десятилетия после выхода повести «Двойник» писал о ней Достоевский. Мотив «двойничества», опробованный в «Двойнике», он потом блестяще реализовал в последнем своем романе «Братья Карамазовы»: Иван и черт, Иван и Смердяков. Но уже и в «Преступлении и наказании» этот мотив звучит отчетливо (Раскольников – Свидригайлов, Раскольников – Лужин, Соня Мармеладова – Лизавета). В «Двойнике» впервые появляется употреблявшийся в Инженерном училище глагол «стушеваться», чем впоследствии гордился писатель, говоря, что он «ввел и употребил это слово в литературе первый раз…» (26, 65).
В. Г. Белинский в мартовской книжке «Отечественных записок» за 1846 г. сдержанно хвалил Достоевского: «…“Двойник” носит на себе отпечаток таланта огромного и сильного, но еще молодого и неопытного: отсюда все его недостатки, но отсюда же и все его достоинства»********.
Этот отзыв приводит Достоевского в состояние болезни. «Вот что гадко и мучительно, – писал он брату Михаилу 1 апреля 1846 г. из Петербурга, – свои, наши, Белинский и все мною недовольны за Голядкина. Первое впечатление было безотчетный восторг, говор, шум, толки. Второе – критика <…> Что же касается до меня, то я даже на некоторое мгновение впал в уныние. У меня есть ужасный порок – неограниченное самолюбие и честолюбие. Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел. Многое в нем писано наскоро и в утомлении. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется. Вот это-то и создало мне на время ад, и я заболел от горя» [28 (1), 119–120].
«… Я завел процесс со всею нашей литературою…»
«Мне все кажется, что я завел процесс со всею нашей литературою, журналами и критиками и тремя частями романа моего в “Отечеств<енных> записках” и устанавливаю и на этот год мое первенство назло недоброжелателям моим»
[письмо Ф. М. Достоевского к брату М. М. Достоевскому от 17 декабря 1846 г. из Петербурга (28 (1), 135)].
Историю разрыва Ф. М. Достоевского с кружком Белинского раскрывали в своих воспоминаниях А. Я. Панаева и Д. В. Григорович. Панаева вспоминала: «С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своей раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев – он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался. <…>
Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду <…> Вместо того, чтобы снисходительно смотреть на больного, нервного человека, его еще сильнее раздражали насмешками»********.
Д. В. Григорович давал свою версию травли Достоевского: «Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора “Бедных людей” чуть ли не на степень гения к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования могла сокрушить и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себе еще больше прежнего и сделался раздражительным до последней степени. При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку Белинского, Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нем негодованию, сказав, что никто из них ему не страшен, что дай только время, он всех их в грязь затопчет. <…>
После сцены с Тургеневым произошел окончательный разрыв между кружком Белинского и Достоевским; он больше в него не заглядывал. На него посыпались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии, в зависти к Гоголю…»********.
«Скажу тебе, – пишет Достоевский брату Михаилу 26 ноября 1846 г., – что я имел неприятность окончательно поссориться с “Современником” в лице Некрасова. <…> Теперь они выпускают, что я заражен самолюбием, возмечтал о себе и передаюсь Краевскому затем, что Майков хвалит меня. Некрасов же меня собирается ругать. Что же касается до Белинского, то это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе. Только с ним я сохранил прежние добрые отношения. Он человек благородный. Между тем Краевский, обрадовавшись случаю, дал мне денег и обещал, сверх того, уплатить за меня все долги к 15 декабря. За это я работаю ему до весны. Видишь ли что, брат: из всего этого я извлек премудрое правило. 1-е убыточное дело для начинающего таланта – это дружба с проприетерами изданий, из которой необходимым следствием исходит кумовство и потом разные сальности. Потом независимость положения и, наконец, работа для Святого Искусства, работа святая, чистая, в простоте сердца, которое еще никогда так не дрожало и не двигалось у меня, как теперь перед всеми новыми образами, которые создаются в душе моей» [28 (1), 133–134].
Коллективному творчеству Тургенева, Панаева и Некрасова в конце 1846 г. принадлежит «Послание Белинского к Достоевскому»:
Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ…
По свидетельству А. Я. Панаевой, у Некрасова с Достоевским произошло бурное объяснение по поводу этого «Послания»: «… когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу. Войдя к Некрасову, я нашла его в таком же разгоряченном состоянии. “Достоевский просто сошел с ума! – сказал Некрасов мне дрожащим от волнения голосом. – Явился ко мне с угрозами, чтобы я не смел печатать мой разбор его сочинения в следующем номере. И кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах! До бешенства дошел”»********.
Пасквиль, поначалу ходивший в списках, был опубликован И. И. Панаевым в журнале «Современник» в 1855 г., когда Достоевский отбывал солдатчину в Семипалатинске. Панаев не пожалел недавнего каторжника, набросав словесную карикатуру на образ Достоевского из давнего прошлого: «С этих пор наш маленький гений сделался невыносим: он ни за что не хотел ходить сам по земле или по тротуару, а непременно требовал, чтобы мы его носили на руках и поднимали как можно выше, чтобы все его видели; он беспрестанно злился на нас и кричал: “Выше! Выше!”»******** Литературные враги Достоевского осмеивали и невзрачную внешность писателя, и его наивное честолюбие, и даже обморок, случившийся с ним в салоне графа М. Ю. Виельгорского, когда к нему подвели желавшую познакомиться с модным литератором красавицу Сенявину:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!